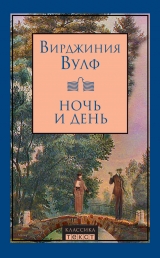
Текст книги "Ночь и день"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– Я уже говорил вам, что я лжец, – упрямо повторил Ральф.
– Да, но только в мелочах, – возразила она нетерпеливо. – Не в серьезных делах, вот что важно. Смею предположить, в мелочах я честнее вас. И все же я бы не смогла любить, – она сама удивилась, что произнесла это слово, хотя было непросто, – того, кто лжет в главном. Я ценю правду, и очень даже, но не так, как вы. – Ее голос становился все тише и тише и, наконец, дрогнул, прервавшись: она едва удерживалась от рыданий.
«Боже мой! Она меня любит! – догадался вдруг Ральф. – Как же я раньше этого не замечал? Она вот-вот расплачется!»
Эта догадка поразила его; кровь бросилась ему в голову, и, хотя минуту назад он чуть было не попросил ее руки, мысль о том, что она его любит, казалось, все изменила, и теперь он уже не мог этого сделать. Он не осмеливался даже смотреть на нее. Если бы она заплакала, он не знал бы, чем ее утешить. Ему казалось, что произошло нечто ужасное, непоправимое. Официант снова переменил тарелки.
В волнении Ральф встал и, отвернувшись от Мэри, уставился в окно. Люди на улице казались ему распадающимися и складывающимися вновь фрагментами головоломки, это было очень похоже на картину его собственных мыслей и чувств, точно так же возникавших и распадавшихся в его голове. То он бурно радовался тому, что Мэри его любит, а в следующий миг ему казалось, что он ничего к ней не чувствует, и более того, ее любовь была ему неприятна. То ему хотелось тотчас жениться на ней, то бежать без оглядки и больше никогда ее не видеть. Чтобы как-то обуздать эти беспорядочно скачущие мысли, он заставил себя прочесть надпись на витрине аптеки прямо напротив, затем рассмотрел склянки под стеклом, затем обратил взор на небольшую группу женщин, разглядывающих большую витрину мануфактурного магазина. Кое-как ему удалось взять себя в руки, и он уже собрался было обернуться и попросить у официанта счет, как вдруг заметил высокую фигуру, быстро движущуюся по другой стороне тротуара, – высокую, стройную, с горделивой осанкой, и так странно было видеть ее в этом непривычном окружении. В левой руке она держала перчатки. Все это Ральф заметил и узнал даже раньше, чем всплыло имя, давшее всему этому название: Кэтрин Хилбери. Казалось, она ищет кого-то. И действительно, она оглядывалась по сторонам, и в какой-то миг ее взгляд скользнул по эркерному окну, за которым стоял Ральф, но она тотчас отвернулась, так что ему оставалось лишь гадать, заметила она его или нет. Это нежданное видение произвело на него сильное впечатление. Словно он узрел некий образ, вызванный к жизни одной силой мысли и сотканный из мечты, а не живую женщину из плоти из крови, спешащую куда-то по другой стороне улицы. Но при этом он вовсе не думал о ней. Впечатление было настолько сильным, что он не мог от него ни отмахнуться, ни даже разобраться, действительно ли ее он видел или то было наваждение.
Ральф опустился на стул и сказал отрывисто, обращаясь скорее к себе самому, а не к Мэри:
– Это была Кэтрин Хилбери.
– Кэтрин Хилбери? О чем это вы? – спросила она, поскольку не поняла, что он говорит об увиденном за окном.
– Кэтрин Хилбери, – повторил он. – Но ее уже нет.
– Кэтрин Хилбери! – Ужасная догадка мелькнула в ее голове. – Я всегда знала, что это Кэтрин Хилбери! – Теперь ей все стало ясно.
После минутного молчания она подняла взгляд на Ральфа: он смотрел затуманенным взором прямо перед собой, но его взгляд был устремлен туда, где ничто не напоминало о том, где они сейчас, в такую даль, которая за все годы их знакомства так и осталась для нее недосягаемой. Весь его облик – чуть приоткрытые губы, непроизвольно сжатые руки – говорил о том, что он целиком погружен в радостное созерцание, ей казалось, что между ними пала невидимая завеса, разом отгородившая его от нее. Она все это видела ясно, и, даже если б он изменился до неузнаваемости, она и это приняла бы как должное тоже, потому что чувствовала: только так – собирая один за другим все факты и складывая их вместе – она еще может продержаться, не рассыпаться в прах, а по-прежнему сидеть за этим столом, как будто ничего не случилось. Истина была ей поддержкой; она даже подумала вдруг, глядя на его лицо, что свет истины сияет не в нем, а где-то далеко за ним, – свет истины, повторила она про себя, поднимаясь, сияет над миром не для того, чтобы мы тревожили его нашими личными бедами.
Ральф подал ей пальто и посох. Она застегнула пальто на все пуговицы, крепко стиснула ясеневую палку. Ее все еще обвивал вьюнок; и тогда, видимо решив, что может позволить себе некоторую сентиментальность, она оторвала два листочка, положила в карман, а потом убрала с посоха плющ. Перехватила палку посредине, посильнее надвинула на лоб меховую шляпку, как будто за окном ярилась буря и ей предстоял долгий и трудный путь. Выйдя на улицу, Мэри встала прямо посреди дороги, достала из сумочки бумажку и зачитала вслух список вещей, которые ей поручили купить: там были фрукты, сливочное масло, бечевка и так далее и тому подобное – и за все это время даже не взглянула на Ральфа.
Ральф слышал, как она отдает распоряжения услужливым розовощеким приказчикам в белых фартуках, и, хотя его мысли были заняты другим, отметил решительную манеру, с которой она высказывала им свои пожелания. И невольно начал снова мысленно перебирать ее достоинства.
Так он стоял, наблюдая за происходящим и от нечего делать ковыряя носком ботинка опилки, которыми был посыпан пол в лавке, как вдруг позади послышался мелодичный знакомый голос, и кто-то тронул его за плечо.
– Я не ошиблась? Это же правда вы, мистер Денем? Я еще издали через стекло заметила ваше пальто и сразу его узнала. Вы не видели Кэтрин или Уильяма? Я весь Линкольн обошла, с ног сбилась, но так и не поняла, где же здесь руины.
Конечно же это была миссис Хилбери. С ее появлением все в лавке оживились, многие покупатели с любопытством поглядывали на нее.
– Для начала объясните мне, где я, – начала она требовательно, но, перехватив взгляд услужливого приказчика, обратилась к нему. – Я говорю о руинах – там вся наша компания, возле этих руин, они меня ждут. Это такие римские развалины – или греческие, мистер Денем? В этом городке столько всего чудесного, вот только, на мой взгляд, руин многовато. Ой, какие миленькие горшочки с медом, в жизни ничего прелестнее не видела – это все делают ваши собственные пчелы? Умоляю, дайте мне один из этих прелестных горшочков, а потом расскажите, как мне добраться до руин… А теперь, – продолжала она, получив ответ на свой вопрос, а заодно и горшочек меда, познакомившись с Мэри и попросив проводить ее до руин, поскольку в этом городе столько поворотов и такие восхитительные виды, такие прелестные полуголые мальчуганы возятся в лужах, такие венецианские каналы, такие чашечки старинного синего фарфора в антикварных лавках, что в одиночку просто невозможно найти дорогу к руинам. – А теперь, – воскликнула она, – расскажите, как вы здесь оказались, мистер Денем, – потому что вы ведь мистер Денем, я не ошиблась? – переспросила она на всякий случай, вдруг усомнившись в том, что правильно все запомнила. – Блестящий молодой человек, который пишет статьи для «Обозрения»? Только вчера муж говорил мне, что считает вас одним из умнейших людей, с какими ему доводилось встречаться. И конечно же вы мне посланы самим Провидением, потому что, если бы вас не заметила, я бы ни за что на свете не отыскала эти руины.
Тем временем они дошли до римской арки, и миссис Хилбери увидела наконец остальных путешественников – они, как часовые, стояли на улице, поглядывая в оба ее конца, чтобы вовремя перехватить миссис Хилбери, пока она опять не скрылась в очередной лавке.
– Я нашла кое-что получше, чем руины! – воскликнула она. – Я нашла двух друзей, которые рассказали мне, как вас найти, и не знаю вообще, что бы я без них делала. Надо обязательно пригласить их к нам на чай. Какая жалость, что мы недавно отобедали. И нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы это было не в счет?
Кэтрин, которая стояла на той же улице чуть дальше и рассматривала витрину скобяной лавки, как будто ее матушка могла спрятаться где-нибудь среди газонокосилок и садовых ножниц, обернулась на ее голос и направилась к ним. Увидев Денема и Мэри Датчет, она очень удивилась. Может быть, сердечность, с которой она их поприветствовала, всегда бывает в тех случаях, когда неожиданно встречаешь в деревенской глуши знакомых, а может, она была просто рада их видеть – так или иначе, пожимая им руки, она воскликнула с довольной улыбкой:
– А я и не знала, что вы здесь живете! Что же вы мне не сказали – мы могли бы повидаться. А вы остановились у Мэри? – продолжала она, обращаясь к Ральфу. – Какая жалость, что мы раньше не встретились.
Но теперь, когда всего несколько футов отделяло его от женщины, о которой он так долго и мучительно мечтал, Ральф смутился и не мог вымолвить ни слова; он попытался взять себя в руки, но то бледнел, то краснел, однако наконец решился взглянуть на нее, чтобы увидеть в холодном свете дня, есть ли хоть малая доля правды в придуманном им образе, что так долго преследовал его. Но по-прежнему не мог сказать ни слова. На помощь пришла Мэри, ответив за них обоих. Его поразило, что эта Кэтрин сильно отличается от той, что сохранилась в его памяти, это было странно, и ему пришлось отказаться от прежнего образа и привыкать к новому. Легкий малиновый шарф, наброшенный поверх шляпки, трепетал на ветру, наполовину скрывая ее лицо, одна прядь волос выбилась из прически и свисала полураспущенным локоном возле огромных и темных глаз, которые он называл печальными, но теперь эти глаза сияли, как море, пронзенное солнечным лучом, и вся она была – порыв, незавершенность, вся – стремление в неведомую даль. Он вдруг вспомнил, что ни разу еще не видел ее при свете дня.
Тем временем было решено, что искать руины, как предполагалось сначала, уже слишком поздно, и вся компания двинулась не спеша к конюшне, где они оставили карету.
– Знаете, – сказала Кэтрин, шагая чуть впереди остальных вместе с Ральфом, – кажется, я видела вас утром, вы стояли у окна. Но потом подумала: да этого быть не может. Но это были вы…
– Да, мне тоже показалось, что я вас видел – но это были не вы, – ответил он.
Это его замечание, сделанное с излишней даже категоричностью, напомнило ей другие мучительные разговоры и гневные отповеди, как будто она опять оказалась в лондонской гостиной, среди семейных реликвий, за чайным столом, и в то же время она вспомнила, что между ними осталось что-то недоговоренное – то ли она не успела ему сказать, то ли недослушала, но что именно – этого она не помнила.
– Думаю все же, это была я, – ответила она. – Искала матушку. Вот так каждый раз бывает, стоит нам оказаться в Линкольне. На самом деле я не знаю другого такого семейства, которое было бы столь же беспомощным. Но это, в общем, не важно, потому что кто-то всегда оказывается рядом и мигом вызволяет нас из беды. Когда я была ребенком, меня однажды забыли одну в поле с быком… но где же мы оставили карету? На этой улице или, может, на следующей? Скорее всего, на следующей. – Оглянувшись, она увидела, что остальные следуют за ней, выслушивая воспоминания о Линкольне, которыми миссис Хилбери сочла необходимым с ними поделиться. – Но что вы здесь делаете? – спросила Кэтрин.
– Покупаю коттедж. Я намерен жить здесь – как только найду подходящий, а Мэри говорит, особых трудностей с этим не будет.
– Так, значит, – воскликнула она, – вы оставите адвокатуру? – У нее вдруг мелькнула догадка, что он, должно быть, уже помолвлен с Мэри.
– Контору стряпчих, вы имеете в виду? Да. Оттуда я намерен уйти.
– Но почему? – спросила она. И сама же сразу ответила, совсем другим тоном, задумчиво и грустно: – Думаю, вы правильно поступаете. Вы станете намного счастливее.
В этот самый момент, когда ее слова, казалось, подсказали ему, что надо делать, они вошли в ворота постоялого двора и увидели там фамильную карету Отуэев, в которую была уже запряжена одна холеная, лоснящаяся лошадь, а другую как раз вели с конюшни.
– Не знаю, что люди имеют в виду, когда говорят о счастье, – резко ответил он, отступая в сторону и пропуская грума с ведром. – И почему вы думаете, что я непременно буду счастлив? Сам я ничего такого не жду. Я бы сказал, что так я буду гораздо менее несчастлив. Писать ученый труд да с экономкой браниться – если в том заключается счастье. А вы как думаете?
Она не смогла ответить, потому что их сразу же окружила вся компания – миссис Хилбери, и Мэри, и Генри Отуэй, и Уильям.
Родни тотчас подошел к Кэтрин:
– Генри собирается ехать домой с твоей мамой, и я предложил им высадить нас на полпути – а дальше мы дойдем пешком.
Кэтрин странно покосилась на него, но кивнула.
– К сожалению, нам в разные стороны, а то бы мы вас подвезли, – продолжил он, обращаясь к Денему.
Родни вел себя на редкость вызывающе, словно хотел поскорее распрощаться, и Кэтрин пару раз, как отметил Денем, взглянула на него то ли с удивлением, то ли с досадой. Она помогла матери надеть накидку и сказала Мэри:
– Надеюсь увидеться с вами. Вы возвращаетесь сразу в Лондон? Я вам напишу. – Она едва заметно улыбнулась Ральфу, но видно было, что думает о чем-то своем, – а несколько минут спустя карета Отуэев выехала со двора конюшни и свернула на широкую дорогу, ведущую к Лампшеру.
На обратном пути все молчали, совсем как по дороге в Линкольн в то утро: миссис Хилбери сидела, откинувшись назад и закрыв глаза, в своем углу – спала или притворялась спящей, как обычно делала в перерывах между периодами напряженной деятельности, а может, мысленно продолжала историю, которую начала сама себе рассказывать еще утром.
Милях в двух от Лампшера дорога проходила мимо округлой вершины поросшего вереском холма – бесприютное место, отмеченное гранитным обелиском, на котором были начертаны слова благодарности некой знатной дамы восемнадцатого столетия, подвергшейся в этом самом месте нападению разбойников и вырванной из лап смерти в минуту, когда уже и не надеялась на спасение. Летом здесь было довольно приятно: по обе стороны дороги тихо шелестели зеленые рощи, а вереск, густо разросшийся вокруг гранитного обелиска, источал сладкий аромат, волнами разливавшийся в воздухе; зимой же деревья глухо роптали, качая ветвями, а вереск был пепельно-серым и таким же унылым, как одиноко бегущие в небе облака.
Здесь-то Родни и попросил остановить карету и помог Кэтрин выйти. Генри тоже подал ей руку, и, как ему показалось, она слегка сжала ее на прощанье, словно хотела этим что-то сказать. Но карета сразу же покатила дальше, миссис Хилбери так и не проснулась, а молодая пара осталась у обелиска. То, что Родни злится на нее и попытается объясниться с ней, Кэтрин прекрасно понимала, но ей было все равно, к тому же она не знала, чего ожидать, и потому молчала. Карета в вечернем полумраке стала совсем крошечной, но Родни все не начинал разговора. Может, подумалось ей, он ждет, когда экипаж окончательно исчезнет за поворотом и они будут совсем одни? Чтобы скрасить тягостное молчание, она принялась читать надпись на обелиске, для этого ей пришлось обойти его кругом. Родни подошел к ней, когда она, бормоча, пыталась разобрать благодарственные слова набожной дамы. И они молча пошли по проселочной дороге, что тянулась вдоль опушки.
Родни очень хотелось начать разговор, но он не знал, как это лучше сделать. В присутствии посторонних подступиться к Кэтрин было куда проще; когда же они остались вдвоем, ее упорное молчание обезоруживало. Он был уверен, что она вела себя по отношению к нему возмутительно, но все примеры ее недостойного поведения теперь казались слишком мелкими и незначительными, чтобы с них можно было начать упреки.
– Не беги так! – взмолился он наконец.
Она тотчас замедлила шаг, но пошла чересчур медленно, что тоже его не устраивало. В отчаянии он сказал первое, что пришло в голову, причем весьма капризным тоном и без торжественного вступления, которое долго готовил:
– Мне не понравился отпуск.
– Нет?
– Нет. И я рад, что скоро смогу вернуться к работе.
– Суббота, воскресенье, понедельник – значит, еще целых три дня, – подсчитала она.
– А кому понравится, когда его все время выставляют на посмешище! – выпалил он, настолько возмущенный ее ответом, что забыл о своем благоговении перед ней.
– Это относится ко мне, полагаю, – спокойно сказала она.
– Каждый день с тех пор, как мы здесь, ты делаешь все, чтобы поставить меня в дурацкое положение, – продолжал он. – Конечно, если это тебя забавляет, я не против, но не забывай, что нам всю жизнь придется прожить вместе. Вот взять, к примеру, хотя бы это утро, когда я попросил тебя погулять со мной по саду. Я ждал десять минут, а ты не пришла. Все видели, что я жду. Конюхи таращились на меня. Я со стыда готов был сквозь землю провалиться. А потом, в карете, ты упорно отмалчивалась, что бы я ни сказал. Генри это заметил. Все заметили… Однако с Генри ты почему-то болтаешь охотно.
Она решила не отвечать на его жалобы, хотя последнее замечание ее порядком рассердило. Но ей хотелось понять, насколько серьезно он огорчен.
– Все, о чем ты говоришь, пустяки и не заслуживает внимания, – сказала она.
– Отлично. Тогда мне лучше помолчать, – буркнул он.
– Да, не заслуживает внимания, – поправилась она, – но если это тебя обижает, тогда, конечно, это не пустяки.
Он не ожидал такого участия и растрогался. Какое-то время они шли молча.
– А ведь мы могли быть так счастливы, Кэтрин! – воскликнул он в порыве чувств и попытался взять ее под руку.
Она сразу же отдернула руку.
– Пока ты так настроен, мы никогда не будем счастливы, – сказала она довольно резко.
Уильям нервно повел плечами и погрузился в молчание. Подобная резкость и непонятная холодность и отчужденность в последние несколько дней огорчали его, причем это всегда случалось при посторонних. В ответ на это он пытался хорохориться, отчего, насколько понимал, еще больше попадал в зависимость от нее. Теперь, когда они остались одни, можно было не скрывать своих чувств. Собравшись с силами, он все же заставил себя смолчать и попытался сообразить, какая часть его страданий есть результат тщеславия, а какая – уверенности, что девушка с любящим сердцем ни за что не стала бы говорить с ним таким тоном.
«Что же на самом деле для меня Кэтрин?» – размышлял он. Совершенно ясно, что она самая желанная и удивительная, владычица его маленького мира; кроме того, она яркая личность, можно сказать, вершительница судеб, ее суждения четки и безошибочны, чего ему, при всей его начитанности, не дано. И кроме того, каждый раз, когда она входила в комнату, ему представлялись развевающиеся одежды, белопенное весеннее цветение, лиловые волны моря – все прекрасное и спокойное, и в то же время полное внутренней страсти.
«Если бы она все время грубо вела себя и выставляла меня на посмешище, я бы так ее не любил, – размышлял он. – Я ведь не дурак в конце-то концов. Не мог же я заблуждаться все эти годы. Да, но как она со мной обращается! Значит, – решил он, – мои недостатки настолько смешны и нелепы, что ко мне нельзя относиться иначе. Кэтрин совершенно права. Но на самом деле я всерьез так не думаю и не чувствую, и ей это прекрасно известно. И что я должен в себе изменить? Что сделать, чтобы она прониклась ко мне симпатией?»
В этот момент ему очень захотелось спросить у Кэтрин, что ему сделать, чтобы понравиться ей, но вместо этого утешился тем, что принялся мысленно перебирать все свои достоинства: знаток древнегреческого и латыни, хорошо разбирается в искусстве и литературе, виртуозно владеет стихотворными размерами, родовит, наконец. И в то же время его не покидало ощущение, которое сильно его озадачило и заставляло хранить молчание: уверенность, что он любит Кэтрин так искренне и нежно, как только возможно. И все равно она к нему холодна! Пребывая в некотором замешательстве, он уже не хотел ни о чем таком говорить и с радостью продолжил бы разговор на любую другую тему, если бы Кэтрин ее предложила. Однако она этого не сделала.
Он украдкой посмотрел на нее: вдруг что-нибудь в ее лице подскажет ему, что с ней происходит? Как обычно, она ускорила шаг и теперь шла, чуть опережая его; и все же ему кое-что удалось узнать по ее глазам, хотя она упорно смотрела на вереск, и озабоченности, о которой говорили сдвинутые брови. Но было невыносимо сознавать, что он утратил с ней связь и не имеет ни малейшего представления, о чем она сейчас думает, поэтому он снова, хотя и без особой убедительности, завел речь о своих переживаниях:
– Если у тебя ко мне нет никаких чувств, не лучше ли сказать это мне наедине, а не при всех…
– Боже мой, Уильям, – встрепенулась она, как будто он оторвал ее от важной мысли, – опять ты о чувствах! Может, лучше не сотрясать зря воздух и не тревожиться понапрасну из-за того, что не имеет никакого значения?
– В том-то все и дело! – воскликнул он. – Я как раз и хотел от тебя услышать, что это не имеет значения. Потому что иногда мне кажется, что тебе ни до чего дела нет. Да, я тщеславен, у меня тысяча недостатков, но ты-то знаешь, это не главное, – ты знаешь, как ты мне дорога.
– А если я скажу, что и ты мне по-своему дорог, ты мне поверишь?
– Так скажи это, Кэтрин! Скажи это, чтобы я поверил. Дай мне почувствовать, что я действительно тебе не безразличен!
Но она молчала. Вокруг заросли вереска таяли в сумеречной мгле, горизонт заволокло туманом. Ожидать от нее страстных чувств или определенности – все равно что ждать от этих волглых далей жарких огненных сполохов, а от тусклого небосвода – прозрачной июньской синевы.
Теперь он заговорил о своей любви, и его пылкие признания – этого она при всем своем недоверии не могла отрицать – звучали довольно убедительно, хоть ничуть ее не трогали, и наконец, когда они дошли до старой калитки с тугими заржавелыми петлями и он, по-прежнему продолжая говорить и как бы между делом, резко распахнул ее, надавив плечом, – этот чисто мужской жест поразил ее, хотя обычно она не обращала внимания на то, легко или нет открывать ворота. Конечно, физическая сила ничто в сравнении с силой чувств, но – мелькнула мысль – какая мощь тратится впустую ради нее, и ей вдруг захотелось подчинить себе эту мощь, показавшуюся вдруг странно притягательной.
Может, проще сказать ему правду – что она приняла его предложение в некоем помрачении рассудка? Печально, конечно, но в здравом уме ни о каком замужестве не могло быть и речи. Она вообще не хочет замуж. А хочет уехать далеко-далеко, одна, в край северных бледных пустошей, и заниматься там математикой и астрономией. Двадцати слов хватило бы ей, чтобы объяснить ему что к чему. Но он умолк: он уже сказал ей еще раз, как он любит ее и за что. Набравшись смелости и не отводя глаз от расщепленного молнией ясеня, она заговорила, как будто читала начертанное на корявом стволе:
– Напрасно я согласилась на нашу помолвку. Со мной тебе не будет счастья. Я тебя никогда не любила.
– Но, Кэтрин!.. – воскликнул Родни.
– Никогда, – упрямо повторила она. – Или не так, как должна была. Разве неясно? Я не понимала, что делаю.
– Ты любишь другого? – перебил он ее.
– Вовсе нет.
– Генри? – допытывался он.
– Генри? Вот уж не ожидала, Уильям, что даже ты…
– Но кто-то же есть, – не унимался он. – Ты так изменилась за последние недели. Ты должна быть со мной откровенна, Кэтрин.
– Я и пытаюсь…
– Но тогда почему ты приняла мое предложение? – возмутился он.
И в самом деле, почему? Что было причиной: внезапная тоска, когда жизнь кажется бессмысленной и беспросветной? утрата иллюзии, позволяющей юности парить между небом и землей? отчаянная попытка примириться с реальностью? Кэтрин могла только вспомнить ту минуту, как вспоминаешь о чем-то, что было с тобой во сне, и теперь это казалось ей минутой поражения. Но разве может это быть достаточным объяснением тому, что она сделала? И вместо ответа она лишь печально покачала головой.
– Но ведь ты не дитя и не капризная девица, – не отступал Родни. – Ты бы не согласилась, если бы не любила меня! – вскричал он.
И при мысли о собственной низости – а ведь раньше она об этом предпочитала не думать, подмечая в основном его недостатки, – ее захлестнула волна жгучего стыда. Ведь что такое его недостатки, когда он так беззаветно ей предан? И что такое ее достоинства, если она не может ответить ему взаимностью! Внезапная уверенность, что отсутствие взаимности и есть величайший из грехов, овладела ею безраздельно: теперь ей никогда не смыть этого позорного клейма.
Он взял ее за руку, крепко сжал, и она не могла противостоять его властной силе. Ладно, она подчинится, как, вероятно, подчинились ее мать, и тетушка, и большинство женщин, и все же она знала, что каждый момент этого подчинения его силе будет моментом предательства по отношению к нему.
– Я сказала, что выйду за тебя, но это было ошибкой, – она все же заставила себя произнести эти слова, и ее рука, которую он сжимал, застыла от напряжения: даже такой малый физический знак подчинения был сейчас для нее невыносим, – потому что я не люблю тебя, Уильям. Ты сам это заметил, и все заметили, к чему дальше притворяться? Когда я говорила, что люблю тебя, это было ошибкой. Я знала, что это неправда.
И поскольку она не находила правильных слов, которые могли бы точно передать ее чувства, то повторяла их снова и снова с еще большей убедительностью, совсем не думая о том, какое впечатление они произведут на любящего мужчину. И для нее стало полной неожиданностью, когда он, со странно исказившимся лицом, вдруг выпустил ее руку. Неужели смеется? – мелькнула мысль, но в следующий миг она увидела слезы в его глазах. Она изумилась. В полном отчаянии, желая хоть как-то прекратить этот кошмар, она шагнула к нему, обняла – он покорно склонил голову ей на плечо – и повела за собой, что-то нашептывая, утешая. Наконец он вздохнул. Он шли молча, прижавшись друг к другу, и у нее по щекам тоже катились слезы. Заметив, что каждый шаг дается ему с трудом и ощущая странную тяжесть в теле, она предложила ему отдохнуть – нашлось и подходящее место под дубом, где курчавились бурые листья папоротника. Он согласился. Еще раз глубоко вздохнул, трогательным жестом, совсем как ребенок, утер слезы, и, когда он заговорил с ней, в его голосе не было и тени упрека. «Мы как дети из сказки, заблудившиеся в дремучем лесу», – подумала она, глядя на высокие кучи осенних листьев, наметенных ветром.
– Когда ты это впервые почувствовала, Кэтрин? – спросил он. – Потому что не может быть, чтобы так было всегда. Признаю, я погорячился в первый вечер, когда забыли твой сундук. Но разве это такая уж большая вина? Я обещаю, что больше ни слова не скажу о твоих платьях. Конечно, я разозлился, когда застал тебя наверху с Генри. Может, я повел себя не так, как надо. Но это же естественно, когда люди помолвлены. Твоя мать это подтвердит. А теперь это ужасное признание… – У него от волнения перехватило горло, но он продолжал: – Ты говоришь, что все поняла и решила – но ты с кем-нибудь об этом говорила? С матерью, например, или с Генри?
– Да нет же, конечно, нет, – сказала она, ероша сухие листья. – Но кажется, ты меня не понимаешь, Уильям…
– Так помоги понять…
– Я имею в виду: ты не знаешь, что на самом деле со мной происходит, да это и неудивительно, я и сама только начинаю понимать. Но только я уверена: без этого – без любви то есть, хотя точно не знаю, как назвать, – теперь она смотрела куда-то вдаль, на затуманенный горизонт, – в общем, без этого наш брак – сплошной фарс…
– Почему фарс? – спросил он. – Ты пытаешься все разложить по полочкам и только все портишь.
– Мне раньше надо было это сделать, – мрачно сказала она.
– Ты приписываешь себе то, чего нет, – продолжал он, жестикулируя, по своему обыкновению. – Поверь мне, Кэтрин, до того как мы приехали сюда, мы были совершенно счастливы. У тебя было столько планов о том, как украсить наш дом, – ты еще хотела чехлы для кресел, помнишь? – как всякая нормальная девушка, когда собирается замуж. И теперь, ни с того ни с сего, начинаешь придираться к чувствам – к своим, к моим, – и получается то же, что и всегда. Уверяю тебя, Кэтрин, я сам через все это прошел. Одно время я тоже задавал себе нелепейшие вопросы, из которых ровно ничего не следовало. И знаешь, когда накатит такое, на самом деле единственное, что нужно, – какое-то занятие, чтобы отвлечься. Если бы не моя поэзия, уверяю тебя, я бы сам умер от тоски. Открою секрет, – произнес он с усмешкой, которая на сей раз звучала немного странно. – Нередко после встреч с тобой я возвращался домой такой взвинченный, что приходилось по две-три страницы исписывать, иначе никак не удавалось выкинуть тебя из головы. Спроси хоть Денема, он расскажет, как он встретил меня однажды вечером, расскажет, в каком я был состоянии.
Кэтрин вздрогнула при упоминании фамилии Ральфа. Мысль о том, что Родни мог обсуждать ее с Ральфом, была крайне неприятна, но ей показалось, сейчас она не имеет права упрекать его, поскольку сама кругом перед ним виновата. Но Денем! Она так и видела его в роли судьи. Вот он с мрачным видом обдумывает все случаи ее ветрености на этом мужском суде женской нравственности и выносит страшный приговор ей и ее семейству одной фразой, исполненной тайного сарказма, которая, как ей теперь казалось, станет для нее вечным клеймом. Поскольку она совсем недавно с ним виделась, ей нетрудно было представить эту картину. Все это были мысли не очень приятные для гордой женщины, однако нужно учиться смирению. Кэтрин сидела насупившись, опустив глаза – пусть Уильям видит, как она умеет переносить обиду. Он и раньше любил ее не без опаски, к которой примешивался порой даже страх, а после помолвки он с удивлением стал замечать, что это ощущение страха даже усилилось. За ее спокойствием чувствовалась глубоко затаенная страсть, которая теперь казалась ему то загадочной, а то и вовсе непознаваемой, и на самом деле он даже предпочел бы ровное здравомыслие, которым всегда были отмечены их отношения. Но в ней была страстность, этого он не мог отрицать и потому заранее пытался найти для нее место в их будущей совместной жизни – например, лучше всего было бы направить ее на детей, которые у них родятся.
«Она будет замечательной матерью… сыновей», – думал он, но теперь, когда она сидела, замкнувшись в молчании, он уже и в этом не был так уверен. «Фарс. Она сказала, что наш брак был бы фарсом», – вспомнил он и вдруг увидел, что они сидят на пожухлой траве, среди опавших листьев, в каких-нибудь пятидесяти ярдах от проезжей дороги, так что любой прохожий может их заметить и узнать. Он постарался придать своему лицу такое выражение, чтобы никто не догадался, какую бурю эмоций он только что пережил. Но куда больше его беспокоила Кэтрин, которая по-прежнему сидела, уставившись в землю: что-то неправильное было в этой ее отрешенности. Как светский человек, он был весьма чуток к приличиям, касавшимся женщин, особенно если эти женщины имели какое-то отношение к нему. От его взгляда не укрылся и длинный черный локон, упавший ей на плечо, и несколько сухих листьев, приставших к одежде, но сейчас говорить ей об этом было бессмысленно. Казалось, для нее ничего вокруг не существует. Он подозревал, что она молчит, потому что ее мучат угрызения совести, но все же ему хотелось, чтобы она подумала и о прическе, и о налипших листьях. И действительно, эти пустяки, как ни странно, отвлекли его от собственных смутных переживаний, ибо облегчение, смешавшись с горечью, породило в его груди странное волнение, почти полностью заглушив терзавшее его прежде чувство сильнейшего разочарования. И чтобы унять беспокойство и положить конец этой нелепой и неподобающей сцене, он резко встал и помог Кэтрин подняться. Она едва заметно улыбнулась в ответ на старание, с которым он помогал ей приводить в порядок прическу и платье, но, когда он стал один за другим снимать со своего пальто сухие листья, вздрогнула, увидев в этом жесте трогательную беззащитность одинокого человека.




