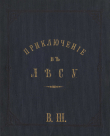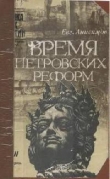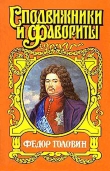Текст книги "Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников"
Автор книги: Виктор Наумов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Гулянья в Летнем саду
Ассамблеи проводились в период с ноября по апрель, а затем их сменяли собрания на свежем воздухе – в садах Петра I, Меншикова, Апраксина и других. Обычным их местом служил Летний сад – первый в России парк с регулярной планировкой, павильонами, фонтанами, мраморной скульптурой (см.илл.). Он был заложен вскоре после основания города, в 1704 году, причем первоначальная его планировка придумана самим царем, который посадил еловую и дубовую рощи (до нашего времени дожил один дуб). Во времена Петра сад занимал всё пространство между Мойкой, Фонтанкой, Невой и Длинной аллеей (будущим Невским проспектом). Петр пожелал иметь сад «лучше, чем в Версале у французского короля».
Многочисленные прямые узкие аллеи были обсажены стриженым кустарником и пахучими травами, на их пересечениях находились площадки со статуями в выстриженных в зелени нишах, фонтанами или цветниками. Для устройства фонтанов были сооружены водоподъемные машины, находившиеся в башне над Фонтанкой, а в 1718 году для подачи воды был впервые в мире использован английский паровой насос. К 1725 году в Летнем саду было два десятка фонтанов. Рощи правильной формы со стрижеными деревьями по периметру изолировали Летний дворец и людские покои от остального сада. Расположенный на берегу Фонтанки садовый павильон – Грот, изображавший царство Нептуна, сказочную пещеру с тремя залами, стены которых были облицованы туфом, раковинами, стеклами, зеркалами, а своды расписаны, – прославлял выход России к морю. Слух посетителей Грота услаждали «гласы наподобие соловьев», издававшиеся водяной машиной.
С 1717 по 1722 год состоялось шесть корабельных рейсов, доставивших из Рима в Петербург статуи, закупленные русскими агентами С. Л. Владиславичем-Ра-гузинским и Ю. И. Кологривовым. Летний сад украшали около двухсот скульптур: аллегории Веры и Религии, Архитектуры и Навигации, Сладострастия и Красоты, Искренности и Истины, стихий, времен года и суток, статуи муз, скульптурные группы сатира и вакханки, Амура и Психеи, похищения сабинянок, статуи прорицательниц-сивилл, бюсты исторических персон: древних философов, римских цезарей и их жен. Уже после смерти государя в саду была установлена изготовленная по его заказу итальянским скульптором П. Баратте аллегория главного исторического события Петровской эпохи – Ништадтского мира. По мнению Н. Д. Кареевой, огромное количество скульптур на сравнительно небольшой территории обусловлено тем, что Летний сад в 1710-х годах был единственным в то время пространством, знакомящим с европейской культурой, и одновременно выполнял роль учебника аллегорий – языка европейской культуры: статуи были снабжены табличками с пояснительными надписями, и часто сам царь водил гостей по саду (87).
Вход в него был почти свободным – единственным требованием к посетителям являлось «облачение в приличное платье». В садовых галереях располагались столы с фруктами и сладостями, а к вечеру на них выставлялись холодные кушанья и вино. Тогда ворота сада запирались и часовые получали приказ никого не выпускать. На центральную аллею выступала процессия: рослые гвардейские гренадеры несли ушаты простой хлебной водки, а шедшие за ними майоры предлагали всем встречным выпить по большой чарке за здоровье их полковника, то есть царя. Тем, кто упорно отказывался от угощения, гвардейцы лили водку на голову. Никакие отговорки не принимались, дамы обязаны были принять чарку наравне с мужчинами. Польский посол, не избежав общей участи, отправился выветривать хмель в дальнем уголке сада. Здесь на него наткнулся государь, который вновь потащил несчастного к ушатам, решив, по-видимому, что тот выглядит слишком трезвым. Дипломата спасло заступничество одного из гвардейцев, подтвердившего, что «кушал господин посол» (88).
Подробное описание Летнего сада приведено в дневнике камер-юнкера Берхгольца. «Сад этот, – пишет голштинец, – имеет продолговатую форму; с восточной стороны к нему примыкают летний дворец царя, с южной – оранжерея, с западной – большой красивый луг (на котором при всех празднествах обыкновенно стоит в строю гвардия…), а с северной он омывается Невою, в этом месте довольно широкою… С северной стороны, у воды, стоят три длинные открытые галереи, из которых длиннейшая средняя, где всегда при больших торжествах, пока еще не начались танцы, ставится стол со сластями… В обеих других помещаются только столы с холодным кушаньем, за которые обыкновенно садятся офицеры гвардии. В средней галерее находится мраморная статуя Венеры (античная скульптура, называемая Венерой Таврической по месту позднейшего пребывания – Таврическому дворцу. – В.Н.), которою царь до того дорожит, что приказывает ставить к ней для охранения часового. Она в самом деле превосходна, хотя и попорчена немного от долгого лежания в земле. Против этой галереи аллея, самая широкая во всем саду; в ней устроены красивые фонтаны, бьющие довольно высоко. Вода для них проводится в бассейны из канала с помощью большой колесной машины, от чего в ней никогда не может быть недостатка. У первого фонтана место, где обыкновенно царица бывает с своими дамами, а далее, у другого, стоят три или четыре стола, за которыми пьют и курят табак; это место царя» (89).
Берхгольц удивлялся тому, что гренадеры разносят по саду «такой дурной напиток как хлебное вино» (водку). Ему отвечали, что «русские любят его более всех возможных данцигских аквавит [76]и французских водок… и что царь приказывает подавать именно это вино из любви к гвардии, которую он всячески старается тешить» (90).
В открытой галерее на берегу Невы тем временем устраивались танцы, а на большом лугу, прилегавшем к саду со стороны будущего Невского проспекта, тысячами разноцветных огней разгорался великолепный фейерверк. Фигуры для него нередко изобретал сам Петр, очень любивший эту потеху.
«Огненные потехи»
Фейерверки составляли неотъемлемую часть праздников петровского времени. Царь сам любил их жечь, проявляя при этом большую изобретательность. Подобная деятельность была сопряжена с немалой опасностью, проистекавшей от близости горючих и взрывчатых веществ, но государя это не смущало.
Фейерверки в Петербурге организовывали в разных местах: на Троицкой площади между Петропавловской крепостью и зданием Государственных канцелярий, на Царицыном лугу, на плотах или барках, стоящих на Неве перед Летним садом или дворцом Меншикова. Для этого устраивали особый «театрум»; в одних случаях это было отгороженное и удаленное от жилья пространство, в других – стоящие на якорях большие плоты. На «театруме» воздвигали щиты с иллюминацией и «планы» – рамы огромных размеров. На них с помощью пропитанных горючими составами шнуров пиротехники по проектам художников создавали сложные изображения аллегорических фигур, храмов, дворцов, деревьев и т. д. Они сопровождались надписями, раскрывавшими содержание аллегорий. Поджигаемые в темноте в определенном порядке шнуры создавали иллюзию объема и даже движения, а «планы» образовывали «огненные перспективы» (91). Фейерверки поражали воображение: на глазах у зрителей вырастали деревья, с небес спускались гении и божества, по воздуху летели колесницы, храмы мгновенно превращались в рощи (92).
Сожжение фейерверка было делом в высшей степени сложным: плошки с горючим составом на щитах иллюминаций, шнуры на «планах» и другие составные его части поджигались в строго определенном порядке, очень быстро, иногда синхронно. Эту работу выполняли сотни вышколенных солдат, бегавших по трапам, которые зрители в темноте не видели. Одновременно с неподвижными элементами фейерверка поджигали вращавшиеся огненные колеса и специальные снаряды – «верховые» и «водяные» ракеты, которые прыгали по земле, плавали, ныряли и поднимались над поверхностью воды (93). Действие фейерверка было очень громким, ярким и динамичным, а часто и небезопасным: от сильных разрывов вылетали стекла и рамы стоявших неподалеку домов.
Фейерверки и иллюминации устраивались по случаю всех торжественных событий придворной и государственной жизни: дня рождения и тезоименитства монарха, военных побед, наступления нового года и т. п.
Перед глазами гостей, присутствовавших в 1710 году на свадьбе царской племянницы Анны Иоанновны и курляндского герцога Фридриха Вильгельма, предстало великолепное зрелище. Сначала на двух колоннах загорелись два княжеских венца; под одним из них стояла буква F (Фридрих), под другим – А(Анна), а посредине, между венцами – буква V(Виват!); потом появились две пальмы со сплетенными вершинами, над которыми горели слова: «Любовь соединяет». Затем возникло изображение Купидона в человеческий рост; он замахивался большим кузнечным молотом, сковывая вместе два сердца, лежавшие перед ним на наковальне. Сверху горела надпись: «Из двух едино сочиняю». Было выпущено множество ракет, шутих, баллонов и других фейерверочных приспособлений. «Вообще всё было великолепно и роскошно», – завершает рассказ об увиденном датский дипломат Юст Юль.
Новогодний праздник 1720 года описан в донесении французского консула Анри Лави министру иностранных дел Франции Гийому Дюбуа: «Все коллегии были приглашены к празднованию нового года в помещении бывшего Сената. На праздники выдавался великолепный фейерверк, представлявший скалу среди моря, на которой возвышалась фигура Правосудия, как ее обыкновенно изображают: с весами в одной руке и с мечом в другой». Петр I объяснил дипломатам смысл этой эмблемы: «сердце его верно, как эти весы… он никогда никого не обманывал (намек на его союзников)», однако «меч, которым вооружена фигура, сумеет защитить его против того, кто окольными путями старался повредить ему» (94).
Водные прогулки
Еще одной формой общественных гуляний в Петербурге являлись прогулки по воде. Катание по Неве на парусниках было любимым развлечением царя, который неизменно получал от него большое удовольствие и захотел приобщить к нему и своих подданных. По указу от 12 апреля 1718 года жителям столицы были бесплатно розданы маленькие парусные и гребные суда «для увеселения народа, наипаче же для лучшего обучения и искусства по водам и смелости в плавании». Петербуржцы должны были иметь такие суда «вечно»: «…ежели какая трата на какое судно придет, повинен он (владелец. – В.Н.) такое ж вновь сделать, а не меньше, а больше воля, и не точию он, но и его потомки и наследники его». Указ строго предписывал содержать суда в чистоте и порядке: «…сии суда даны, дабы их употребляли так, как на сухом пути кареты и коляски, а не как навозные телеги» (95).
В определенные дни в разных местах города вывешивались особые сигнальные флаги, а на флагштоке Петропавловской крепости взвивался морской штандарт – это означало, что петербуржцы на своих судах приглашаются к участию в «невском катании». Мероприятие это было обязательным: не явившиеся на него уплачивали штраф. Суда собирались в самой широкой части Невы – напротив крепости. Царь на своем маленьком буере или на шняве прибывал одним из первых. Если в прогулке участвовала Екатерина, Петр обычно плыл на принадлежавшей ей барке. Собрание всех этих судов называлось «невским флотом», а командовал им «невский адмирал» – обер-сарваер И. М. Головин.
Яркую картину одной из таких водных прогулок оставил голштинский камер-юнкер Берхгольц: «Чудный вид представляла наша флотилия, состоявшая из 50 или 60 барок и вереек [77], на которых все гребцы были в белых рубашках (на барках их было по 12 человек, а в самых маленьких верейках не менее четырех). Удовольствие от этой прогулки увеличивалось еще тем, что почти все вельможи имели с собою музыку: звуки множества валторн и труб беспрестанно оглашали воздух». Петр I плыл на барке Екатерины Алексеевны; «он стоял у руля, а царица с обеими принцессами, своими дамами и камер-юнкерами сидела в каюте». Флотилия приплыла в загородную царскую резиденцию Екатерингоф, где вошла в маленькую гавань. «Всё общество, – продолжает Берхгольц, – по выходе на берег отправилось в находящуюся перед домом рощицу, где был накрыт большой длинный стол, уставленный холодными кушаньями, за который, однако ж, порядочно долго не садились; царь и некоторые другие ходили взад и вперед и по временам брали что-нибудь из поставленных на нем плодов. Царица была так милостива, что подала каждому из нашей свиты по стаканчику превосходного венгерского вина» (96). В обратный путь флотилия пустилась лишь с наступлением вечера.
Водные прогулки предпринимались и во время нахождения двора в Москве. Берхгольц сообщает о том, что 11 мая 1724 года, после коронации Екатерины Алексеевны, проходившей по многовековой традиции в Успенском соборе Московского Кремля, императорская чета в сопровождении вельмож и придворных на верейках и ботах предприняла «поездку водою вплоть до старого царского увеселительного дворца в селе Коломенском [78], до которого, если ехать по реке, считается верст двадцать» (97).
В хорошую погоду водные прогулки были очень приятны, но иногда Петр приказывал плыть морем из Петербурга в Кронштадт или даже в Ревель при сильном ветре. Тогда большинство участников мероприятия страдали от качки и, соответственно, от морской болезни. А однажды шквал разметал суденышки по ревельской акватории и едва не потопил их. К счастью, тогда никто не пострадал. Как-то раз царь на яхте в компании А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина, Г. И. Головкина и других приближенных попал в сильный шторм. Часть парусов была сорвана шквальным ветром, каюту залило водой, яхту бросало из стороны в сторону. Петр встал к штурвалу и сумел направить судно к берегу, а потом, когда опасность миновала, подсмеивался над перетрусившими спутниками, особенно над генерал-адмиралом Апраксиным.
Иногда же водные прогулки заканчивались трагически. В начале ноября 1724 года во время возвращения Петра I в Петербург из Дубков началась сильная буря. По свидетельству Ф. В. Берхгольца, «его величество принужден был держаться с своей яхтой на двух якорях, и всем находившимся на ней приходилось жутко». Одно из судов, сопровождавших императора, затонуло почти со всей командой, лишь два человека сумели спастись вплавь (98).
Прогулки «невского флота» были частью культа воды, насаждаемого Петром I в новой столице. Ни морская болезнь, ни другие хвори не могли служить отговорками от участия в речных и морских путешествиях. Так отдых для одних нередко превращался в мучения для других. Но за близость к особе государя приходилось расплачиваться.
Настольные игры
Любимой игрой Петра I были шахматы, которыми он увлекался с детства. Мастера изготовили для маленького царевича расписные шахматные фигурки, когда ему исполнилось четыре года. В десять лет Петр лично приказал купить для себя комплект шахмат (99). В далекие походы государь непременно брал с собой кожаные «шахматницы». Царь и сам мастерил шахматные фигуры. В Походном журнале 16 ноября 1714 года есть запись: «Кушал в токарне и был в ней, зачал точить шахматы».
Любимым партнером Петра по этой игре был придворный священник Иван Хрисанфович, которого царь за умение выигрывать прозвал «поп Битка». В Походных журналах Петра I встречаются записи: «Играл в шахматы с Биткой весь день» (100). Петр не только играл сам, но и обучал сына, считая шахматы необходимым элементом воспитания.
Увлечение царя шахматами отметил в своем дневнике голштинский камер-юнкер Берхгольц: «Его величество, когда мы приехали, сидел с одним старым русским за шахматами, в которые, говорят, играет превосходно, как и большая часть русских вельмож». Почитателями шахмат были А. Д. Меншиков и Ф. М. Апраксин. В кабинете светлейшего князя в его доме на Васильевском острове экспонируются принадлежавшие ему янтарные шахматы (см. илл.).
Петр любил также играть в шашки, а вот карты терпеть не мог, считая эту игру пустой тратой времени. Поэтому на ассамблеях гости играли преимущественно в шахматы или в шашки. Правда, часть соратников государя не разделяли его отношения к картам. Заядлым картежником был П. И. Ягужинский; Ф. М. Апраксин, по свидетельству Юста Юля, часто коротал вечера за бутылкой вина и игрой в карты «на копейки» с кем-нибудь из подчиненных ему морских офицеров. Умеренным любителем карточной игры был Меншиков. В «Повседневных записках делам князя Меншикова» многократно отмечено, что Александр Данилович «забавлялся в карты», «забавлялся в карты и шахматы» или, чаще, только в шахматы после обеда или по вечерам (101).
Берхгольц сообщает, что в 1720-е годы в Петербурге и Москве были в ходу такие карточные игры, как марьяж, ломбер и «короли». Последняя игра, которую он называет русской, показалась ему такой «несравненной и умной», что он подробно записал ее правила. «Для упомянутой игры, – пишет голштинец, – нужно семь карт, и она состоит главным образом в том, что тот, кто в первый, второй или третий раз возьмет прежде других семь взяток, делается королем. Достоинство это, кроме чести, во-первых, приносит известный доход и, во-вторых, запрещает королю снимать. Если ему подложат снять, он должен сухо отвечать: хлопцы есть; если же, напротив, по рассеянности как-нибудь снимет, то лишается своего высокого сана и обязан возвратить другим всё, что прежде получил». Сдаваемые «королю» семь карт кладутся перед ним открытыми; «если по вскрытии козырей окажется, что у него нет ни одного, он во второй раз делается королем и по-прежнему получает известную плату». В этом случае карты сдаются по новой. При наличии козырей «король» требует контрибуцию: каждый из партнеров обязан отдать ему свои козырные карты, если их у него больше двух. Взамен «король» дает самые худшие свои карты. «Король – продолжает Берхгольц, – всегда первый обязан ходить во все семь ходов, возьмет ли он взятки или нет, и если ему посчастливится набрать три взятки, он снова делается королем, опять получает плату и берет лучшие карты. Но это случается не часто, потому что подданные, чтобы свергнуть его с престола, открыто переговариваются между собою, кому что бросать, и, кроме того, имеют право употреблять только козырей. Если король не возьмет ни одной взятки, то с большим позором лишается своего сана и должен отдать другим столько же денег, сколько получил прежде, когда сделался королем; если же возьмет две взятки, то платит за свое удаление только половину, говоря: подводы есть, т. е. имею двух лошадей, чтобы доехать домой. После того он, не снимая, должен взять и, в знак уважения, положить перед каждым из играющих первые три карты. Затем игра начинается снова для избрания нового короля» (102).
В литературе распространено мнение, что в 1717 году Петр I запретил игру в карты под угрозой денежного штрафа (103). В действительности именной указ от 17 декабря 1717 года касался всех без исключения азартных игр: «Чтоб никто в деньги не играл под тройным штрафом обретающихся денег в игре». Этот закон выразил озабоченность царя тем, что некоторые дворяне проигрывали не только большие суммы, но и дворы, деревни, крепостных.
В Петровскую эпоху в России появился бильярд. Петр познакомился с этой игрой во время заграничного путешествия 1697 – 1698 годов, заказал английский резной бильярдный стол и приказал «установить сей стол возле приемной, дабы посланники разные и дипломаты не били баклуши». Возможно, именно он украшает ныне Большой Китайский кабинет в Ораниенбаумском дворце (см. илл.). 23 января 1720 года в Походном журнале сделана запись: «Его величество был в Адмиралтейской верфи у кораблей и был в мыльне; кушали дома и играли в шахматы и билиарт».
В России начала XVIII века была известна игра, которая называлась «труктафель» [79]и представляла собой нечто среднее между бильярдом и боулингом: игроки руками бросали каменные шары в желоба по двум сторонам длинного и узкого стола.
Помимо этих европейских нововведений, продолжали существовать исконно русские игры. Название одной из них известно всем, но не многие знают, что это такое. Речь идет о бирюльках – маленьких точеных игрушечных фигурках (шляпках, посуде, лесенках), имевших ручки или отверстия; их нужно было доставать пальцами или крючком одну за другой из кучки таких же фигурок, не шевеля остальные.
Сведения об играх Петра I и его окружения наиболее полно отразились в Походном журнале за март 1720 года, когда государь отдыхал и лечился на Марциальных водах. 9-го числа «его величество принимал лекарства, играл в билиарт и бирюльки»; 18-го – «играли в билиарт и трукттафель»; 19 марта «его величество после кушанья ездил на озеро и играл в билиарт и трукттафель, и в шахматы, и в бирюльки до ночи» (104). Особая насыщенность игровой жизни Петра I на водах, по-видимому, объясняется тем, что во время лечения врачи запрещали ему употреблять алкогольные напитки, поэтому он не мог коротать время и расслабляться другим способом.
Глава пятнадцатая
Женское окружение
Нелюбимая супруга
«Женщины в Московии имеют рост стройный и лицо красивое, но врожденную красоту свою искажают излишними румянами; стан у них также не всегда так соразмерен и хорош, как у прочих европеянок, потому что женщины в Московии носят широкое платье и их тело, нигде не стесняясь убором, разрастается как попало», – писал в 1699 году секретарь австрийского посольства И. Г. Корб. В последующие годы в связи с введением европейской женской одежды фигуры представительниц прекрасного пола, надо думать, значительно улучшились. Но и впоследствии иностранные наблюдатели отмечали, что пышные формы считаются в России неотъемлемым признаком женской красоты.
В начале Петровской эпохи представительницы прекрасного пола продолжали жить очень замкнуто, как было принято на Руси. Австрийский дипломат писал, что «женщины, пользующиеся некоторой знатностью или принадлежащие к почетному званию, не являются за званым столом и даже не садятся вместе с мужем за стол обыкновенный. Но их можно видеть, когда они в своих экипажах едут в церковь или к друзьям; впрочем, последнее обстоятельство составляет уже значительное отступление от строго наблюдавшегося прежде обыкновения, по которому экипажи, в которых запирались женщины, так бывали закрыты, что у заключенных в оные отнималась также сама свобода зрения» (105).
Однако как раз в это время положение дворянских жен и дочерей стало меняться в соответствии с европейскими нормами, которые Петр I начал вводить в русском обществе после своего возвращения из длительной заграничной поездки. В середине февраля 1699 года Корб зафиксировал в своем дневнике важный факт: «Сегодня обнаружилось в русском обществе смягчение нравов, так как до сего времени женщины никогда не находились в одном обществе с мужчинами и не принимали участия в их увеселениях, сегодня же некоторые не только были на обеде, но также присутствовали при танцах» (106).
Вебер отмечал, что «русские женщины живут в большой зависимости; положение их рабское и мужья держат их так строго, что многие питают страх к брачному состоянию и охотнее избирают монастырь» (107).
Такая драматичная ситуация нередко возникала при угрозе брака по принуждению. Коснулась она и соратников Петра Великого. «Богатый князь Гагарин, губернатор Сибирский, – пишет тот же автор, – хотел было единственную дочь свою, молодую, прекрасную и разумную девицу, выдать, против воли ее, за старшего сына сенатора Мусина-Пушкина, возвратившегося из Франции; чтоб избавиться от этого невольного брака, девица бежала из Москвы в какой-то русский монастырь и постриглась в нем» (108).
Домашнее положение женщин в начале Петровской эпохи охарактеризовал Корб: «Русские женщины вовсе не занимаются домашним хозяйством; в отсутствие хозяина рабы его, без ведома и согласия хозяйки, по доверию со стороны хозяина или по собственному рассуждению вполне всем распоряжаются… Все русские женщины проводят вообще жизнь праздно, и поэтому нет ничего удивительного, что они, по народному обыкновению, должны слишком часто ходить купаться, так как это видоизменение праздности до некоторой степени все-таки служит им развлечением в скуке от бездействия, снедающей эти жалкие существа» (109). Несомненно, австриец слишком строг к русским женщинам, поскольку готов поставить им в вину даже привычку к гигиене.
Перемены в положении женщин в петровское царствование емко и точно описал князь Михаил Михайлович Щербатов: «Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя одеяниями и уборами, умножающими красоту лица их и оказующими их хороший стан…» (110)
Но сами женщины порой проявляли несравнимо больше консерватизма, чем мужчины, в восприятии насаждаемых Петром I западноевропейских порядков. Они с трудом привыкали к заграничной одежде и долгое время не желали отказываться от старинной русской традиции чернить зубы угольным порошком. Описывая пир у царевны Натальи Алексеевны летом 1714 года, брауншвейгский дипломат X. Ф. Вебер отметил: «На помянутом пиршестве присутствовали все красавицы Петербурга, и хотя тогда уже все носили французские платья, но многие не умели в них хорошо держать себя, а своими черными зубами достаточно доказывали, что они не совсем отстали от устарелого русского мнения, будто бы только у мавров и обезьян белые зубы» (111).
Десятью годами позже положение уже полностью изменилось. Берхгольцу среди женского общества особенно понравилась княгиня Мария Юрьевна Черкасская – дочь сенатора князя Юрия Юрьевича Трубецкого, считавшаяся первой красавицей при дворе. «Но, – пишет голштинец, – я насчитал еще до тридцати хорошеньких дам, из которых многие мало уступали нашим дамам в приветливости, хороших манерах и красоте» (112).
Петр I очень любил женщин и готов был проявлять интерес к любой привлекательной особе. Некоторым из них суждено было сыграть в его жизни существенную роль.
Когда царю не исполнилось еще и семнадцати лет, Наталья Кирилловна настояла на том, чтобы он женился. Ее беспокоило, что другой царь, Иван Алексеевич, старше единокровного брата шестью годами, уже был женат и имел дочерей. Это, по мнению матери Петра, в дальнейшем могло угрожать положению ее сына. Царица сама нашла невесту – Евдокию(см. портрет), дочь окольничего Федора Абрамовича Лопухина. Эта старинная боярская семья давно уже пользовалась ее особым расположением.
Евдокия Федоровна родилась 30 июля 1669 года, следовательно, была почти на три года старше Петра. Она была красива, имела статную фигуру, отличалась скромностью и набожностью, словом, была воспитана в традициях русской православной семьи. Видимо, невеста понравилась юному царю, и он легко согласился на брак. 27 января 1689 года в небольшой придворной церкви Святых апостолов Петра и Павла состоялось венчание шестнадцатилетнего царя и девятнадцатилетней Евдокии. Обряд совершал духовник Петра протопоп Меркурий. По случаю бракосочетания все родственники молодой царицы получили земельные пожалования, были возведены в почетные звания и заняли важные придворные должности.
Восемнадцатого февраля 1690 года появился на свет первенец царской четы, Алексей. 3 октября 1691 года Евдокия родила второго сына Александра, который умер на следующий год 14 мая. Среди историков преобладает мнение, что семейная жизнь Петра с первой супругой не заладилась с самого начала. Однако автор очерка «Авдотья Федоровна Лопухина» М. И. Семевский с уверенностью высказывает иную точку зрения: «Смело можно сказать, что до смерти царицы Натальи (25 января 1694 года) отношения Петра к жене были самые дружелюбные и что они жили в любви и согласии» (113).
Письма царицы Евдокии мужу действительно дают основания предполагать, что их супружеская жизнь поначалу складывалась благополучно. «Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу, – писала Евдокия в 1689 году, вскоре после замужества, – здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буде к нам из Переславля не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет». Спустя четыре года царица продолжала писать мужу пребывавшему на Белом море, столь же нежные письма: «Предражайшему моему государю-радости, Петру Алексеевичу. Здравствуй, мой свет, на многие лета! Пожалуй, батюшка мой, не презри, свет, моего прошения: отпиши, батюшка мой, ко мне о здоровье своем, чтоб мне, слыша о твоем здоровье, радоваться. А сестра твоя, царевна Наталья Алексеевна, в добром здоровье. А про нас изволишь милостью своей напамятовать, и я с Алешенькой жива. Женка твоя Дунька».
Первые годы после женитьбы Петр праздновал 4 августа именины супруги в Измайлове или Преображенском, угощал думных чинов и служилых людей вином и водкой (114). В весенние и летние месяцы молодой царь с матерью, женой и сыном выезжал на пару недель на отдых в Коломенское. Однако после смерти царицы Натальи Кирилловны сведения о подобных семейных мероприятиях в источниках отсутствуют. Вероятно, с этого времени между Петром и Евдокией наступил заметный разлад. Царь начал в открытую посещать свою фаворитку Анну Монс, с которой познакомился еще четырьмя годами ранее, но, побаиваясь матери, при ее жизни всячески скрывал эту связь.
Из письма Евдокии Федоровны от 1694 года видно, что Петр охладел к супруге: «Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне бедной в печалях своих порадоваться. Как ты, свет мой, изволил пойти, и ко мне не пожаловал, не отписал о здоровье ни единой строчки. Только я, бедная, на свете безчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Не презри, свет мой, моего прошения» (115).
Жена явно не подходила Петру по характеру, образу мыслей, вкусам и привычкам. Она очень не любила окружавших мужа иностранцев, не одобряла его поведение, не соответствующее ее представлениям о семейной жизни. Как отметил историк Е. В. Анисимов, «порывистость, бесцеремонность, эгоизм Петра сталкивались с упрямством и недовольством Евдокии – особы самолюбивой, строптивой и волевой» (116). Петр с радостью покидал супругу с ее навязчивой любовью и уезжал на переславское Плещеево озеро, где строились небольшие корабли. Кроме того, государя весьма раздражали многочисленные родственники жены, которые напористо добивались царских милостей, будучи при этом людьми невежественными и пустыми. Он все более склонялся к желанию развестись с Евдокией и жениться на Анне Монс.
Окончательный разрыв между Петром и его супругой произошел, видимо, в марте 1697 года. Во всяком случае, отец царицы Федор Абрамович Лопухин и его братья Василий и Сергей тогда были сосланы на вечное житье в Тотьму, Саранск и Вязьму.