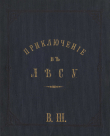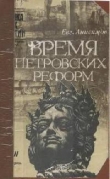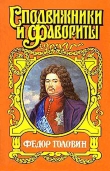Текст книги "Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников"
Автор книги: Виктор Наумов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Сенат петровского времени не был свободен от противостояния враждебных группировок, определяемого личными интересами и взаимной неприязнью сенаторов. Наиболее ярко эта ситуация выразилась в знаменитом деле вице-канцлера П. П. Шафирова и обер-прокурора Г. Г. Скорнякова-Писарева. Конфликт между ними разгорелся в отсутствие царя, находившегося в Каспийском походе. Подлинными виновниками скандала являлись вельможи более крупного ранга: Шафиров опирался на сенаторов-аристократов – князей Д. М. Голицына и Г. Ф. Долгорукого, а Скорняков-Писарев делал ставку на влиятельных выдвиженцев петровского царствования – князя А. Д. Меншикова и графа Г. И. Головкина. Первоначальным предметом спора стало решение вопроса о выдаче жалованья брату вице-канцлера, советнику Берг-коллегии Михаилу Павловичу Шафирову. Тот несколько месяцев находился не у дел, тем не менее брат добился приговора Сената о выплате ему жалованья за этот период. Приговор в отсутствие обер-прокурора подписали сам П. П. Шафиров и его приятели Д. М. Голицын и Г. Ф. Долгорукий. Однако обер-секретарь Сената Поздняков счел его необоснованным, не стал исполнять и доложил о случившемся Скорнякову-Писареву, а тот опротестовал приговор. Начиная с 2 октября 1722 года ни одно заседание Сената не происходило без обсуждения взаимных обвинений споривших сторон, причем каждый раз сенаторы вели «многие разговоры».
Между тем нашелся еще один повод для эскалации конфликта. Меншиков и его сторонники спровоцировали доношение Ямского приказа о неблагополучном состоянии российской почты, которой заведовал Шафиров. 31 октября сенаторы обсуждали проект приговора по данному вопросу. Шафиров как заинтересованное лицо должен был в соответствии с указом Петра I покинуть место заседания, однако не пожелал этого делать.
– Выйди вон, понеже по указу тебе быть не надлежит, – потребовал Скорняков-Писарев.
– Вон я не выйду, – решительно ответил Шафиров, – и тебе высылать меня не надлежит.
Тогда обер-прокурор зачитал вслух указ, согласно которому должностные лица не имели права участвовать в заседаниях, где слушались дела о них самих или об их родственниках. Однако Шафиров продолжал настаивать на своем:
– Ты меня, яко сенатора, вон не вышлешь, и тот указ о выходе сродникам, а к моему делу не следует.
Вскоре спор вышел за рамки приличий; сенаторы разделились на враждебные партии и подняли невообразимый гвалт, ведя себя, как сказано в одном из царских указов, подобно «бабам-торговкам». Шафиров кричал громче всех.
– Ты мой главный неприятель, и ты вор! – выпалил он в адрес Скорнякова-Писарева.
Посоветовавшись, А. Д. Меншиков, Г. И. Головкин и Я. В. Брюс заявили:
– Когда в Сенате обер-прокурор вор, то как нам при том дела отправлять?
– И мне за тем быть невозможно, – констатировал Скорняков-Писарев.
После дальнейшей перепалки с взаимными оскорблениями Меншиков потребовал занести слова Шафирова в сенатский протокол и в знак протеста направился к выходу вместе с Головкиным и Брюсом. Шафиров спохватился и закричал им вслед:
– Надобно править дела государственные, а партикулярные оставить до возвращения его величества. Вам не для чего выходить вон!
Противники не пожелали его слушать, и заседание Сената практически было сорвано. Оставшиеся Г. Ф. Долгорукий, Д М. Голицын, А. А. Матвеев и П. П. Шафиров обсуждали лишь дела второстепенной важности.
Злопамятный Меншиков пошел на углубление конфликта и предложил 2 ноября Шафирова «от Сената отстранить». Это предложение было занесено в сенатский протокол, чтобы потом доложить о нем государю. Одновременно светлейший князь высказал мнение о необходимости потребовать от Шафирова объяснений относительно «досадных разговоров» и поступков, «противных регламенту и присяге». 13 ноября Сенат приступил к обсуждению этого вопроса, при этом Меншиков и Шафиров как заинтересованные лица покинули зал заседаний. Однако сенаторы, разделенные на две враждебные партии, не смогли прийти к согласованному решению. На последующих заседаниях Сената перепалки между противниками не прекращались, что, по сути, парализовало работу высшего органа государственного управления. Шафиров дошел уже до открытых оскорблений в адрес Меншикова. «Я в подряде не бывал, и шпага с меня снята не была», – заявил он, намекая на наказание Александра Даниловича за подрядные махинации.
Тем временем Петр возвратился из похода; Скорняков-Писарев и Шафиров поспешили отправить ему доношения с взаимными обвинениями. Меншиков также послал государю письмо, в котором осуждал поведение «буйного сенатора». Сразу же по прибытии в Москву 9 января 1723 года Петр I повелел создать Вышний суд для расследования вышеописанного эпизода.
Шафиров тешил себя надеждой выиграть процесс и пытался направить суд на путь расследования упущений в работе Сената и злоупотреблений обер-прокурора, однако государь проявил интерес лишь к инциденту произошедшему 31 октября. «В скасках писать, – напутствовал он судей, – только то, как Писарев Шафирову говорил, чтоб вышел и чел ли указ, а Шафиров против того что говорил и для чего не вышел, а не другие слова, что, бранясь, говорили».
Любопытны показания сенаторов по данному делу. Меншиков всячески хвалил деятельность Скорнякова-Писарева и обвинял Шафирова в том, что он кричал на обер-прокурора и грозился не позволить тому вмешиваться в дела сенаторов. Головкин и Матвеев также отмечали хорошую работу обер-прокурора и утверждали, что споры, крики и «помешки» исходили только от Шафирова. Совершенно иначе картину событий описали Голицын и Долгорукий, заявившие, что Скорняков-Писарев вторгался в сенатские приговоры, навязывал сенаторам свое мнение и не давал им «порядочно голосами, ни советами дел оговаривать». Мусин-Пушкин уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что из-за дряхлости и болезни он не всегда присутствовал на заседаниях Сената. Брюс усмотрел в действиях обер-прокурора лишь одно упущение: тот иногда нарушал процедуру обсуждения. Однако события 31 октября все свидетели описали примерно одинаково, подтвердив отказ Шафирова подчиниться обер-прокурору, предложившему ему покинуть заседание Сената (156). Вышний суд приговорил Шафирова к смертной казни – отсечению головы.
Пятнадцатого февраля 1723 года Петр Павлович был привезен на простых санях из Преображенского приказа в Кремль, где его ожидали плаха и палач. Его возвели на эшафот, предварительно сняв парик и старую шубу. Осужденный несколько раз перекрестился и положил голову на плаху. Палач взмахнул огромным топором, но ударил им возле головы Шафирова. После этого кабинет-секретарь А. В. Макаров от имени императора объявил, что «преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь». Он был лишен имущества и вместе с семьей отправлен в ссылку в Новгород, где жил в нищете почти два года – до смерти Петра. Екатерина I объявила бывшему вице-канцлеру амнистию и вернула его ко двору.
Сенаторы князья Голицын и Долгорукий, поддерживавшие Шафирова, были подвергнуты денежному штрафу. Не избежал наказания и Скорняков-Писарев, который был разжалован в солдаты и лишен всех поместий. Но в связи с коронацией Екатерины Алексеевны 7 мая 1724 года он получил чин полковника и половину конфискованного имущества.
В ноябре 1723 года Петр I в назидание издал строгий указ: «Ежели кто из чинов сенатских такое упрямство учинит против указов, как Шафиров учинил в Сенате 31 октября 1722 года, такого, объявя в Сенате, арестовать» (157). Вся вышеописанная история послужила сенаторам хорошим уроком: с этого времени споры и брань на заседаниях высшего органа государственного управления уже не возникали.
Коллежские президенты
С 1710-х годов Петр I начал подготавливать грандиозную реформу центральных государственных учреждений, предполагавшую замену многочисленных приказов коллегиями по европейскому образцу. 12 февраля 1712 года царь издал указ об учреждении в Москве Коллегии для управления торговлей, в связи с чем началось формирование ее канцелярии в Петербурге. В том же году Петр предполагал основать еще несколько коллегий, аналогичных шведским (158).
Подготовительный этап коллежской реформы затянулся и закончился лишь в конце 1717 года, когда государь вернулся из длительной заграничной поездки в свой «парадиз» на Неве. 11 декабря он подписал указ: «Начать надлежит всем президентам с Новава года сочинить свои колегии и ведомости отвсюды брать, а в дела не вступатца до 1719 году, а з будущего году, конечно, зачать свои калеги управлять. А понеже новым образом еще не управились, того ради 1719 год управлять старым маниром в тех калегиях, а с 1720 – новым» (159).
Вскоре Петр отправился в Москву в связи с делом царевича Алексея, а в его отсутствие коллежская реформа фактически не проводилась. Вернувшись в Петербург летом 1718 года, государь не без раздражения написал в указе Сенату, что нашел в некоторых коллегиях «немного, а в иных ничего». Петр подтвердил президентам, чтобы они «коллегии свои с ревностью производили» (160). С этого времени коллежская реформа начала, наконец, осуществляться с должной скоростью.
В указе от 12 декабря 1718 года царь перечислил новообразованные коллегии и установил их функции. Коллегия иностранных дел должна была контролировать «всякие иностранные и посольские дела»; Камер-коллегия – «всякое расположение и ведение доходов всего государства»; Юстиц-коллегия – «расправу гражданских дел, судные и розыскные дела»; Ревизион-коллегия – «счет всех государственных приходов и расходов»; Военная коллегия – «армии и гарнизоны и все воинские дела»; Адмиралтейств-коллегия – «флот со всеми морскими воинскими служители»; Коммерц-коллегии надлежало «смотреть над всеми торгами и торговыми действии»; Штатс-контор-коллегия должна была ведать государственными расходами; Берг– и Мануфактур-коллегии были подведомственны «рудокопные заводы и все прочие ремесла и рукоделия». В начале следующего года образовалась особая Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндских и финляндских дел, ведавшая судебными делами на завоеванных территориях. Указом от 18 января 1721 года была создана Вотчинная коллегия, занимавшаяся вопросами поместного землевладения. Особое положение заняла возникшая в феврале 1721 года Духовная коллегия – Святейший Правительствующий синод. С 1722 года действовала Малороссийская коллегия, осуществлявшая контроль за гетманской администрацией (161). В первом составе президентов коллегий были ближайшие петровские сподвижники: А. Д. Меншиков руководил Военной коллегией, Ф. М. Апраксин – Адмиралтейств-коллегией, Г. И. Головкин – Коллегией иностранных дел, Д. М. Голицын – Камер-коллегией, И. А. Мусин-Пушкин – Штатс-контор-коллегией, Я. Ф. Долгорукий – Ревизион-коллегией, Я. В. Брюс – Берг– и Мануфактур-коллегиями, П. А. Толстой – Коммерц-коллегией, А. А. Матвеев – Юстиц-коллегией.
Первое правительственное здание в Петербурге на Троицкой площади, где при Петре располагались Сенат и коллежские канцелярии, представляло собой длинное мазанковое сооружение, повторявшее схему размещения приказов в Кремле. Новые помещения пристраивались по мере необходимости к торцевой стене здания. По такому же плану в 1722 – 1742 годах было построено и здание Двенадцати коллегий. В Москве с 1722 года действовали конторы (филиалы) Сената и коллегий, которые заняли помещения старых приказов (162).
Коллегии вели обширную переписку с местными и другими подчиненными учреждениями, рапортовали в Сенат и получали из него указы, приводящие в действие весь механизм центрального управления. Объем переписки был колоссален: за год через канцелярию коллегии проходило почти 4,5 тысячи документов. Вместе с тем численность коллежских чиновников была относительно невелика. Например, в 1723 году в руководимой А. Д. Меншиковым Военной коллегии служили 353 человека, в Адмиралтейств-коллегий под началом Ф. М. Апраксина находились 233, в Камер-коллегии у А. Л. Плещеева – 228, в Коммерц-коллегии – у И. Ф. Бутурлина – 131. В общей сложности в коллегиях состояли 1,5 тысячи чиновников, которые за год обрабатывали как минимум 207 тысяч бумаг. Соответственно, за первые пять лет существования коллегий число входящих и исходящих документов должно было перевалить за миллион (при десятимиллионном населении) (163).
Коллегии, в отличие от приказов, имели коллегиальный совет. Решения по каждому делу принимались после обсуждения на заседании членов коллегии; любой вопрос решался большинством голосов. Мнения высказывались в строгой очередности от чиновников низших рангов к высшим. Если количество голосов в пользу разных предложений оказывалось равным, решающее слово предоставлялось президенту коллегии.
Президенты являлись центральными фигурами как советов, так и коллегий в целом. Они имели собственные кабинеты и личных секретарей, обладали исключительным правом сношений с Сенатом, а также с самим государем. Только они могли распечатывать конверты с Царскими или сенатскими указами. Согласно принятому в 1720 году Генеральному регламенту, президенты «вышние главы суть и в лице Его Царского Величества (то есть от имени царя. – В.Н.) сидят ради управления всех дел в коллегии». Президенты должны были «смотрить, чтоб служители при коллегиях, канцеляриях до последняго должность свою знали». Члены коллегии обязаны были вставать при появлении их руководителя, проявлять к нему «достойное почтение или респект и послушание чинить», и в то же время не имели права оказывать ему особые знаки внимания: провожать его, заседать в его доме, приходить туда с делами, за исключением экстренных случаев. Руководители коллегий обязаны были пользоваться своей властью разумно: «…не надлежит президентам данную им от Его Царского Величества власть презирать и членов того коллегия ничем не отягощать, чего они против чину и должности своей исполнять не должны; толь наименьшее – жестокими и чувственными словами укорять». Наказывать коллежского служащего за «погрешения» мог только коллегиальный совет «по благоизобретению всего коллегия».
Президенты обязаны были наблюдать за служащими – не только в том смысле, чтобы каждый «свое дело знал и верно и прилежно исправлял», но заботиться о моральном облике подчиненных, побуждая «каждого к добродетели и достохвальному любочестию». Однако и сам президент находился под постоянным контролем членов коллегии: если он «что-либо по службе забывал», то подчиненные «с надлежащим почтением» должны были ему «припамятовать и изъяснить». За нарушение норм Генерального регламента президент мог быть оштрафован и даже попасть под арест. В случае его попытки утаить поданные ему доношения или челобитные должно было последовать «извержение яко коварника, а не правителя», то есть лишение должности.
Тридцатого января 1722 года Кампредон сообщил французскому министру Дюбуа: «Царь отставил от должности почти всех президентов коллегий или советов, именно: Коммерц-коллегии – Толстого, Камер-коллегии – Голицына, Штатс-конторы – Пушкина, Юстиц-коллегии – Матвеева. Все эти господа – сенаторы, и отныне они будут просто заседать в Сенате, перед которым прежде поддерживали свои мнения. На их место назначат других президентов, не сенаторов. Остались на своих президентских постах только кн. Меншиков – Военной коллегии, Апраксин – Морской и Головкин – Иностранных дел» (164).
По царскому указу от 29 января 1724 года все служащие обязаны были «быть в послушании у своих командиров», однако в случае нарушения начальниками законодательных норм подчиняться им было нельзя под страхом наказания. Чтобы не подрывать авторитет начальника, член коллегии обязан был известить его о факте нарушения закона тайно. Если же тот продолжал упрямиться, то подчиненный должен был «протестовать и доносить» уже в более высокую инстанцию (165). Таким образом, если речь шла о нарушениях законов руководителями коллегий, протесты положено было подавать в Сенат или даже на имя царя, поскольку для президентов коллегий Иностранных дел, Военной и Адмиралтейской высшей инстанцией являлся государь.
Согласно Генеральному регламенту 1720 года, членам коллегий полагалось «сидение свое иметь во всякой неделе, кроме воскресных дней, и господских праздников, и государских ангелов, в понедельник, во вторник, в среду, в пятницу, а в четверток обыкновенно президентам в сенатскую палату съезжатся, в самые кратчайшие дни в 6 часу, а в долгие в 8 часу, и быть по 5 часов». В случае же важных неотложных дел все сотрудники или их часть должны были работать «несмотря на помянутое время и часы… и те дела отправлять». Служащие второстепенных рангов могли уходить с работы только после отъезда президента и членов коллегиального совета, а канцеляристы должны были присутствовать на службе ежедневно, кроме воскресений и праздников, приходя на работу часом ранее начальства. Нарушитель за однодневное «небытие» (прогул) лишался месячного жалованья, а за час «недосидения» – недельного.
Обстановка коллежских помещений отчасти напоминала интерьер приказов. В центре «судейской камеры», то есть главной комнаты для заседаний членов коллегии, стояли большие столы, обитые красным или зеленым сукном. На них находились чернильницы и зерцала [43]. Вдоль стен тянулись обитые сукном лавки, у столов стояли стулья для президента и секретаря коллегии; на стульях лежали кожаные или суконные тюфяки (166).
Руководивший учреждением президент ничего не мог решить самостоятельно, без согласия присутствия. «Для того коллегии и устроены, – провозглашалось в указе Петра, – дабы каждая с совету и приговору всех дела своей коллегии делала». Помощником президента являлся вице-президент коллегии. Исключение составляли Военная коллегия, в которой было два президента, Меншиков и генерал Адам Адамович Вейде, а также Коллегия иностранных дел, руководимая канцлером Головкиным и подканцлером Шафировым.
Разногласия между президентами Военной коллегии не возникали: Меншиков был слишком крупной и влиятельной фигурой, поэтому Вейде не решался ему противоречить. Но руководители Коллегии иностранных дел постоянно конфликтовали между собой. В протоколе заседания коллегии от 19 мая 1719 года была зафиксирована одна из первых их ссор. Канцлер предложил «согласно с именным его величества указом дела слушать, решать и подписывать всем членам коллегии». Однако Шафиров заявил, что «он с находящимися теперь налицо членами дел подписывать не будет и в том протестует». Одного из членов коллегии, Петра Курбатова, он назвал «канцлеровой креатурой» и добавил, что «ему с членами, которые из подьячих, и сидеть-то стыдно». Головкин возразил:
– Хотя Петр Курбатов и Василий Степанов действительно из подьячих, но теперь они коллегии советники и полноправные ее члены, и мнение каждого члена коллегии положено записывать в протокол и крепить приговоры всем.
– Я с наушниками и бездельниками делать дело не хочу! – сказал в сердцах Шафиров, встал и направился к выходу. В дверях он остановился и закричал, обращаясь к канцлеру:
– Чего ты дорожишься и ставишь себя высоко? Я и сам такой же!
– Как ты моей старости не устыдишься такими словами мне досаждать и кричать? – ответил Головкин.
Шафиров хлопнул дверью, вышел в переднюю и в присутствии посторонних просителей заявил служителям канцелярии:
– Канцлер хочет коллежские дела делать со своими креатурами и хочет их заставлять с собой подписывать (167).
Головкин и члены коллегии зафиксировали это происшествие в протоколе и подали его государю за своими подписями. Решения Петра I по данному поводу не последовало, и на сей раз Шафиров не поплатился за свою неуживчивость и спесь.
Глава восьмая
«Без денег жить зело тяжко»
Государево жалованье
Петр Великий своими реформами дал мощный толчок развитию экономики. На смену замкнутости натуральных хозяйств боярских вотчин пришли денежные отношения. Активизация торговли с западными странами привела к широкому приобщению представителей верхушки российского общества к европейским продуктам питания, одежде, предметам роскоши, заморским винам, табаку и другим новым для повседневной русской жизни вещам. В результате деньги стали необходимой и неотъемлемой частью быта русского дворянства и состоятельных представителей других социальных групп. Их зарабатывали усердной службой, получали в виде денежного оброка с крепостных крестьян, добывали путем предпринимательства, финансовых махинаций и взяточничества или же просто крали разными способами, испокон веков распространенными на Руси.
Развитию денежных отношений немало способствовали меры Петра I по облегчению и упорядочению монетного обращения в России.
Во время совместного правления Петра и Ивана на единственном в стране Московском денежном дворе чеканились в основном серебряные копейки, а более мелкая монета – деньги (в полкопейки) и полушки (в четверть копейки) – почти не выпускалась, потому что казна не желала нести двойные и четверные расходы на ее изготовление. По свидетельству датского дипломата Юста Юля, копейки до первых годов XVIII века чеканились так небрежно, что имели разный вес (168). Копейки и их части до начала Петровских реформ являлись единственными денежными знаками в России. В то время как в Европе начиная с XVI века ходила крупная серебряная монета – талер, в России рубль, полтина (50 копеек), полуполтина (25 копеек), гривна (10 копеек) и алтын (3 копейки) существовали только как счетные понятия, суммы набирались копейками или более мелкой монетой.
Петр I построил в Москве еще четыре денежных двора. На одном из них, расположенном в Кадашевской слободе Замоскворечья, с 1701 года начали чеканиться первые серии серебряных монет: полтины, полуполтины, гривенники, пятаки и алтыны, а с 1704-го – и первые серебряные рубли, по весу равные талеру. В конце 1701 года здесь же начали чеканку золотых монет (червонцев), по пробе и весу равных дукату [44] – золотой международной монете. Первоначальная стоимость червонца составляла 1 рубль 20 копеек, но позднее стала двухрублевой.
Но самым заметным финансовым мероприятием Петра I стало широкое распространение медной монеты. Она чеканилась на Набережном медном денежном дворе, открытом в 1699 году на территории Кремля, недалеко от Боровицких ворот. Здесь изготавливались медные денежки и полушки, а с 1704 года – и копейки. Петр вводил в обращение медную монету медленно и постепенно. В памяти его старших советников еще сохранялись события знаменитого Медного бунта 1662 года, вызванного широким выпуском резко обесценивавшихся медных денег в правление царя Алексея Михайловича. После этой катастрофы медная монета не выпускалась до 1699 года, когда Петр и его правительство пришли к мысли о необходимости изыскивать средства для предстоящей войны со Швецией за счет осуществления монопольного права государства на чеканку монеты. В крупных размерах выпуск медных денег начал осуществляться с 1705 года, и уже в течение следующих пяти лет объем чеканки медной монеты вырос более чем в 12 раз и достиг в среднем почти 100 тысяч рублей в год. Однако при этом вплоть до 1718 года одновременно продолжали выпускаться серебряные копейки, что должно было в определенной степени нейтрализовать возможное недовольство широким распространением мелкой медной монеты (169).
В XVII и XVIII веках понятие «жалованье» не было тождественно современной заработной плате. Жалуемое принадлежало государю, а жалованье рассматривалось как его милость в отношении подданного. Как верно заметила современная исследовательница О. Е. Кошелева, «жалованье не предназначалось для эквивалентной расплаты за труд, это был дар, его жаловали за верную службу, фактически – за преданность, одновременно оно являлось и "милостыней", выданной для поддержания существования. Поэтому, чтобы получить даже положенное по указу жалованье, его следовало просить, подавая челобитную на царское имя» (170).
Это наблюдение точно отражает ситуацию первой четверти XVIII века. Документы петровского времени изобилуют случаями задержки жалованья на полгода, на год и даже более, в то время как по тогдашним правилам оно должно было выплачиваться «по третям», то есть каждые четыре месяца. Это касалось не только бесправных низших канцелярских служителей, но и виднейших сподвижников Петра I. Например, Б. П. Шереметев в 1704 году перед походом в Польшу писал царю: «Умилосерьди нада мьной, вели мне дать, чем ехать и чем там жить: ей, оськудаль». С еще большей откровенностью он изобразил свои затруднения и обиду в письме А. Д Меншикову, в лице которого рассчитывал найти радетеля о своих денежных делах: «Прошу, братец, твоего жалованья: умилосердися надо мной, подай мне руку помощи! За что я опечален? Что мне обещано, до сего времени удержано, а жалованья мне против моего чину нет. Всем его, государева, милость – жалованье, а мне нет! Ей, государь мой братец, в нищету прихожу. Тебе известно, что ни откуля ни копейки мне не придет… Умилосердися, батька и брат Александр Данилович!.. Если уже вотчин обещанных мне не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему. А если не буду пожалован, пришло к тому, что странствовать: ужели я все прослужил, а не выслужил» (171).
Жалованье чиновникам петровского времени полагалось в двух формах – денежной и продуктовой.
Продуктовая (хлебная) часть жалованья выдавалась мукой и овсом и измерялась четвертями [45]. В Петербурге, Ревеле, Выборге и Шлиссельбурге как денежное, так и хлебное жалованье было вдвое выше, чем в других городах. Например, петербургский губернатор А. Д. Меншиков получал 2400 рублей и 1200 четвертей хлеба в год, в то время как другим губернаторам причиталось по 1200 рублей и 600 четвертей хлеба. Денежное жалованье в столице по сравнению с продуктовым было малозначительным, поскольку в новом городе с еще не налаженной хозяйственной жизнью немногое можно было купить за деньги. Бедственное положение петербургского служащего тех лет видно на примере активного сподвижника Петра I дьяка Федора Дмитриевича Воронова, работавшего в розыскных канцеляриях и занимавшегося расследованием крупных государственных хищений. В челобитной царю он писал: «…хлебного жалованья на прошлой 716 и на нынешний 717 год, кроме денежного, не дано, от чего одолжал и впредь откуды буду денежное и хлебное жалованье получать, не знаю. А без выдачи Вашего Величества жалованья мне, у дел будучи, пропитатца нечем, человек я небогатой. Да я ж строю, по указу Вашего Величества, на берегу каменное податное строение, от которого в долгах остаюсь». Воронов особо подчеркнул при этом, что его трудами в казну было возвращено более 200 тысяч рублей расхищенных денег (172).
Денежные оклады служащих петровских учреждений были различны даже при одинаковых должностях. Например, в 1704 году в четырнадцати существовавших в то время приказах состояли 33 дьяка – чиновники высшего ранга в рамках тогдашней системы управления. Десять из них получали по 100 рублей в год, а остальные – по 120, 130, 300 рублей. Еще сильнее различались оклады подьячих. Старым подьячим выплачивали от 10 до 156 рублей в год (это крайние цифры, в основном преобладали ставки от 30 до 50 рублей). Подьячие средней статьи получали от 6 до 77 рублей, младшие – от 2 до 37 рублей (173).
Для понимания реального значения этих сумм необходимо коснуться вопроса о покупательной способности русских денег. По подсчетам Л. В. Милова, во второй половине XVII века прожиточный минимум (только питание) составлял 2 – 2,5 рубля в год на человека (174). Однако еще до начала широкого выпуска медных денег иностранные наблюдатели заметили признаки инфляции, обусловленные снижением пробы и уменьшением веса серебряных копеек. 31 января 1707 года английский посланник Ч. Уитворт в донесении статс-секретарю Роберту Гарлею отмечал: «…копейки прежде охотно принимались к размену, причем обыкновенно приравнивались к десяти шиллингам; и хотя правительство постепенно уменьшало их действительную стоимость, государственный кредит не колебался до начала настоящей (Северной. – В.Н.) войны, когда вследствие необдуманного проекта об умножении денежных знаков достоинство копейки сразу понизилось наполовину…» Впоследствии размеры инфляции еще более увеличились в связи с широким выпуском медной монеты. Но другого выхода у правительства Петра не было, так как приходилось изыскивать средства на ведение войны. В целом в первой четверти XVIII века в ходе денежных реформ Петра I рубль обесценился почти в два раза, что привело к заметному росту цен. Например, во второй половине XVII века четверть овса стоила в среднем 33 копейки, а в начале XVIII века за нее платили в Москве 56 копеек, а в Новгороде – 1 рубль 45 копеек (175).
С конца 1704 года в связи с нехваткой денег в казне приказные служители стали получать лишь половинное жалованье. Первоначально Петр намеревался пойти еще дальше: 9 марта 1703 года был издан царский указ об отмене казенного жалованья, «чтобы вместо его, великого государя, жалованья тех из дьяков и подьяческих и приказных людей окладов за их приказную работу имать с приказных и со всяких челобитчиковых дел, с чего пристойно» (176). Таким образом, монарх в открытую ориентировал чиновников на поборы с частных лиц. Примечательно, что по понятиям того времени это не считалось взяточничеством. Служебная практика первой половины XVIII века различала взятку и «посул»; если первая давалась в качестве подкупа для «неправедного» решения дела, то второй являлся выражением благодарности за решенный в интересах просителя вопрос. Разумеется, при несовершенстве законодательства в России XVIII столетия граница между справедливым и «неправедным» постановлением была весьма зыбкой, что, по сути, провоцировало служебные злоупотребления.
Не вызывает сомнений тот факт, что подношения от челобитчиков составляли большую часть доходов многих чиновников петровского времени. Например, подьячий Артиллерийского приказа П. Трофимов получил в 1708 году около тысячи рублей от частных лиц, в то время как от государя ему полагалось в год 30-рублевое жалованье (177). Можно представить масштабы взяточничества всесильных сподвижников Петра I, высших должностных лиц, если чиновник средней руки получал такие суммы.
Царь-реформатор продолжал ориентировать чиновников на «кормление» за счет челобитчиков и впоследствии. В 1713 году подьячие Секретного стола канцелярии Сената жаловались государю, что им назначено жалованье «с убавкой» и прокормиться «с домашними невозможно, отчего пришли в великое оскудение и нищету». При этом они особо подчеркнули, что, в отличие от подьячих других учреждений, у них не бывает «челобитчиковых дел». На этой жалобе Петр I написал резолюцию: «Вместо прибавочного жалованья ведать в секретном столе все иноземческие и Строгановы [46]дела, кроме городских товаров». Таким образом, в условиях недостатка государственных средств царь вынужден был признать право чиновников на «кормление отдел», передав в их ведение прибыльные, «взяткоемкие» отрасли управления (178).