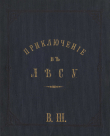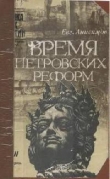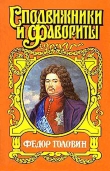Текст книги "Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников"
Автор книги: Виктор Наумов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
«Вслед за государем, – рассказывает Ф. В. Берхгольц, – шествовала ее величество императрица в богатейшей робе, сделанной по испанской моде, и в головном уборе, осыпанном драгоценными камнями и жемчугом. Платье на ней было из пурпуровой штофной материи с богатым и великолепным золотым шитьем, и шлейф его несли пять статс-дам, а именно княгиня Меншикова, супруга великого канцлера Головкина, супруга генерал-фельдцейхмейстера [35]Брюса, генеральша Бутурлина и княгиня Трубецкая». Герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский вел государыню за руку; возле них шли генерал-адмирал Ф. М. Апраксин и канцлер Г. И. Головкин, а немного позади – генерал-прокурор П. И. Ягужинский и генерал-майор И. И. Дмитриев-Мамонов. За ними следовали еще шесть статс-дам Екатерины Алексеевны, а затем попарно – прочие дамы из свиты императрицы. Шествие замыкали придворные кавалеры, а в самом конце процессии шла другая половина лейб-гвардии.
У входа в Успенский собор императора и императрицу приветствовали иерархи Русской церкви в богатых облачениях. Затем Петр I ввел супругу на многоступенчатый огромный трон, где они остались в окружении высших сановников, придворных дам, поручиков и вахтмистров [36]лейб-гвардии. Новгородский архиепископ Феодосии Яновский обратился к Екатерине Алексеевне с благословением, которое она выслушала, преклонив колени на положенную перед ней подушку. Затем архиепископ взял императорскую корону и передал государю, который сам возложил ее на голову коленопреклоненной супруги. Когда она поднялась на ноги с короной на голове, три первые статс-дамы надели на нее большую императорскую мантию, причем Петр усердно им помогал. Во время обряда не умолкал звон колоколов собора, а в момент возложения короны государыни раздался сигнальный выстрел из пушки, стоявшей у дверей; по этому знаку раздался залп из всех орудий, находившихся в Москве (122).
Все эти торжественные мероприятия лишь на время будоражили старую столицу, продолжавшую жить своей тихой патриархальной жизнью, столь не похожей на напряженную жизнь молодого Петербурга.
Глава шестая
В военных походах
Хлебосольный фельдмаршал
Широкая натура генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева одинаково проявлялась как во время мирных занятий, так и на войне. Он никогда ни в чем себе не отказывал; внешний блеск, максимальный комфорт, хорошие обеды в присутствии многочисленных гостей являлись неотъемлемой частью его повседневного быта. Исторические предания, записанные в середине XIX века, создают образ гостеприимного военачальника: «…за стол его, на котором не ставилось менее 50 приборов даже в походное время, садился всякий званый и незваный, знакомый и незнакомый, только с условием, чтобы не чиниться перед хозяином» (123). Его хлебосольство в походных условиях наиболее ярко проявилось при переезде в 1714 году из главной квартиры под Киевом в Борисов. Шереметев решил собрать офицерскую компанию на новоселье и по этому случаю приказал заготовить муку разных сортов, яблочную и грушевую воду, орехи, капусту, огурцы. Дело происходило в пост, поэтому хозяин особенно постарался украсить стол деликатесными рыбными блюдами. Два борисовских обывателя были отправлены им за 480 верст в Изюм и Рыбное для закупки «рыбы соленой, белужьих больших тёш [37]и бочешной белужины, осетрины, икры и стерлядей свежепросольных, и тарани про людей (для слуг. – В.Н.), и сомов вялых». «Паче же, – наказывал Борис Петрович, – икры купить, если попадетца свежепросольная или попадутца спинки вялыя добрые» (124).
Во время бесконечных переездов на театре военных действий, в походной палатке или на случайной квартире Шереметев редко садился за стол один. К нему почти ежедневно по утрам и вечерам являлись посетители, в основном его боевые сподвижники. Иногда они приходили «для дела» или «для советов», но чаще – отдохнуть и расслабиться в компании радушного хозяина. Во время пребывания в Сумах в январе 1709 года Петр I, Г. И. Головкин и Ф. М. Апраксин неоднократно гостили у Шереметева. 12-го числа они «были у господина генерал-фельтмаршала для совета с 2 часа», а на следующий день «царское величество и господа министры и генералы были по утру на квартире у господина генерал-фельтмаршала Шереметева и кушали вотку и разъехались… Ввечеру, во 2 часу ночи, царское величество своею особою изволил быть у фельтмаршала и, кушав вотку и вино венгерское, соизволил отъехать на свою квартиру».
Шереметев передвигался обычно с огромным обозом и собственной дворней, не считая положенных по воинскому штату ординарцев и денщиков. Кроме того, в походах он, по образцу польских магнатов, содержал за собственный счет составленную из дворян роту личной гвардии (125).
Подготавливая осаду Риги, Шереметев в конце марта 1710 года остановился сначала в курляндской Митаве. Здесь он сразу же устроил пир на своей квартире, «а на том банкете были и кушали господин генерал Рен да нововыезжей генерал Лизберн и при нем полковники и афицеры, кои с ним выехали, да курлянские жители з женами». По прибытии под Ригу в середине апреля Борис Петрович не отказался от дружеского общения с боевыми соратниками: 17-го числа «в Юнфоргофе поутру в хоромах у генерала-фельтмаршала Шереметева был светлейший князь генерал-фельдмаршал Меншиков и господа генералы: князь Репнин, Рен, Рендель, Айгустов, брегадир Чириков и кушали вотку, а пополудни светлейший князь с княгинею и с протчими персонами были у фельтмаршала». На следующий день картина повторилась: «поутру генерал-фельтмаршал Шереметев из своих хором ходил в хоромы к светлейшему князю генералу-фельтмаршалу Меншикову и, побыв с полчаса, светлейший князь с своею княгинею кушал у фельтмаршала Шереметева, при том генералы: князь Репнин, Рен, генерал-маеор Боур, брегадир Чириков и протчие были генералы-отъютанты и офицеры». Иногда гости являлись к Борису Петровичу уже после обеда, чтобы скоротать вечер. Например, 20 апреля 1710 года «генерал-фельтмаршал господин Шереметев кушал в Юнфоргофе у себя на квартире; при нем были: брегадир Чириков и протчие. А после обеда пришел светлейший князь генерал-фельтмаршал Меншиков, сиятельный князь генерал Репнин, генерал-лейтенант Фанвердин, генералы-маеоры Айгустов, Келин и иные афицеры и забавились до самого вечера» (126).
После взятия Риги фельдмаршалу всё же пришлось испытать на себе все трудности военного похода по осеннему бездорожью. В это время он потерял всех своих любимых лошадей, о чем с горечью писал Якову Вилимовичу Брюсу: «Где мои цуги [38], где мои лучшие лошади: чубарые и чалые и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал» (127).
Занимаемые русскими войсками прибалтийские города ожидала горькая участь: многие здания были разорены и сожжены, «все ратные люди удовольствовались как в харчах, так и в конских кормах» за счет грабежа местного населения. После взятия Ракобора (сейчас город Раквере в Эстонии) Шереметев шутливо жаловался в письме Петру I: «…только мне учинили великую обиду: где я стоял в королевском доме, всё ренское и шпанское вино выпустили за посмех. Такой негодный народ! Только довольствовался аптекарьскими водками» (128).
Пятидесятилетний Шереметев, подобно другим генералам и офицерам, удовлетворял естественные мужские потребности посредством пленных женщин – об этом наглядно свидетельствует пример Марты Скавронской, будущей царицы Екатерины Алексеевны. В силу необычной судьбы ливонской пленницы этот факт был отражен в источниках. Она была подарена капитаном Бауером Шереметеву и прожила у него не менее полугода, числясь в прачках, но фактически выполняя роль наложницы (129). Разумеется, миловидная Марта была не единственной живой добычей победителей.
В конце 1715 года Шереметев во главе русских войск был отправлен в Польшу для оказания помощи союзнику России королю Августу II. Фельдмаршал двинулся в поход с огромным обозом, для которого требовалось около трехсот лошадей. Для обеспечения себя всем необходимым ему пришлось прибегнуть к сборам с населения. Он сообщал Петру I, что «для своего собственного пропитания и всего дома своего на кухню и на всякие нужды… собрал чрез всю бытность в Польше с квартир по доброй воле и согласно с обывателями, а не иными какими своими нападками 8600 курант-талеров» [39]. Кроме того, он принял в подарок от познанского воеводы цуг лошадей и коляску, а от его брата – лошадь с седлом (130). Разумеется, наличие «доброй воли» населения в этом случае вызывает немалые сомнения. Впрочем, запросы Шереметева все же были гораздо скромнее, чем аппетиты Меншикова, который в период совместных военных действий России и Дании требовал от датского короля Фредерика IV 300 риксдалеров ежедневно только для нужд собственной кухни (131).
В военных походах Шереметев старался окружать себя максимальным комфортом, расходуя с этой целью и собственные немалые средства. Это было порой весьма накладно, зато тяготы военного времени были для фельдмаршала почти неощутимы.
Ученый на войне
Генерал-фельдцейхмейстер (начальник русской артиллерии) Яков Вилимович Брюс являлся одним из образованнейших людей своего времени, талантливым разносторонним ученым. Петр I безоговорочно верил в его обширные познания и постоянно давал ему самые разнообразные поручения. Брюс занимался научной работой даже на фронте, в перерывах между боевыми действиями.
Яков Вилимович пребывал в походах с 1704 по 1713 год, а позже участия в войне не принимал. Он жил гораздо скромнее, чем богач-фельдмаршал Б. П. Шереметев, хотя также стремился обеспечить себе возможно более комфортные условия. Известно, например, что в походах Брюса сопровождал собственный повар, так что при наличии необходимого запаса продуктов хороший стол был ему обеспечен. Однако порой приходилось довольствоваться скудным пайком. Например, возвращаясь в августе 1713 года из похода в Померанию, Брюс вынужден был по сенатскому указу выдержать многодневный карантин в Лифляндии, охваченной эпидемией чумы. «В каком я пустом местечке стою, что ничего к пропитанию себя и людей, которых при мне довольно имею, достать невозможно», – жаловался он в письме Меншикову. На помощь пришел нарвский комендант Кирилл Нарышкин: по его распоряжению были привезены из Нарвы и оставлены в условленном месте продукты – из рук в руки ничего передавать было нельзя, даже письма окуривались дымом можжевельника, чтобы не допустить распространения заразы. Яков Вилимович получил две «куры индейских», 20 «куриц русских», гуся, трех уток, пять баранов, 30 калачей, столько же «хлебов ситных», два ведра «меду вареного» [40], десять ведер пива и пять десятков яиц (132).
В походных условиях жить приходилось, конечно, не во дворцах. Не всегда попадался даже достаточно приличный обывательский дом. В начале октября 1707 года Брюс с подчиненными ему войсковыми частями направлялся на зимние квартиры в местечко Борисов на берегу реки Березины. В письме А. И. Репнину он иронически оценивал «оное место, которое не лутчей деревни московской». А в письме князю В. В. Долгорукому Борисов характеризуется с ехидством: «Сказывают – оное второй Париж и гораздо еще лучшей нашего славного города Клина». Условия размещения генеральского состава на квартирах были более чем скромными: Брюсу достались горница с комнатой, небольшая светелка и «черная изба» на улице, вероятно, отведенная для денщиков. «Дворы те таковы плохи, что никогда не пожелаешь тут стоять», – констатировал начальник артиллерии.
Частые переезды и необходимость вести переписку в походных условиях заставляли Брюса позаботиться хотя бы о некоторых дорожных удобствах. Он увидел у князя Меншикова походную шкатулку для письменных принадлежностей и попросил своего родственника, ивангородского коменданта А. Ю. Инглиса, заказать для него такую же. Яков Вилимович хотел получить более дорогую, чем у Меншикова, ореховую шкатулку; однако, будучи человеком экономным, просил сторговаться не за 40 рублей, а за 30. Он дал подробные инструкции с описанием деталей отделки: «…сделать оковку и кольца к ящикам, положив против того ж образца, как встроено у князя Александра Даниловича, буде там положены кольцы серебряные, и у того тако ж учинить, чтоб были кольца серебряные ж; и всё учинить против того образца».
В походах Брюс передвигался верхом или в походной карете. В завоеванной русскими Нарве ему в числе реквизированных вещей достались коляска и карета. Он просил Инглиса поскорее доставить их: «Пожалуй, государь братец, коляску и карету, которые есть в Нарве, прикажи их отвезти в Новгород на подводах, которые из Новагорода станут привозить палубы, и изволишь послать за ними проводить солдата добра, чтоб чего не испортили дорогою». Соответствующее распоряжение о доставке кареты и походной палатки получили также новгородские служители Брюса. Однако нарвская карета Якову Вилимовичу всё же не досталась – ее забрал его старший брат. Новгородский служитель Якова Брюса сообщил своему господину, что «тое карету Роман Вилимович изволил взять в Питербурх».
Впрочем, начальник артиллерии вскоре сумел обзавестись гораздо более удобной каретой, которую подробно описал в мемуарах его дальний родственник, капитан артиллерии Питер Генри Брюс, недавно перешедший на русскую службу. «Эта "махина" – настоящая колесница во всех отношениях, только ее дно достаточно широко, чтобы можно было бы лечь во всю длину на кровати. Как я потом узнал, у каждого офицера русской армии есть такая повозка, которая необходима во время долгих походов по плохо устроенным странам» (133).
Начальник артиллерии одевался со вкусом и старался даже в походных условиях следовать моде. Служители просили его сообщить, из какого сукна «строить» генеральский мундир и чем его расшивать – золотом или серебром. На мундиры Якова Вилимовича нашивались кавалерские звезды – он был награжден орденом Святого Андрея Первозванного, а также польским орденом Белого орла.
Александр Гаврилович Головкин, сын канцлера, по просьбе Брюса заказал для него в Берлине роскошный бархатный кафтан, расшитый серебром, а также штаны, на общую сумму 130 талеров. В Вильно Яков Вилимович попросил приобрести для него два отреза шерстяного штофа [41]разного цвета «с шелком и с золотцем или серебром». Для подбивки шлафрока Брюс поручил дьяку Н. П. Павлову купить беличий мех высокого качества. А из Москвы по его заказу прислали белый парик, пистолеты, китайские занавески и девять аршин красного («понцового») сукна. Кроме того, ему были доставлены чулки «отделкою нарочиты».
Иногда в трудных условиях походной жизни необходимо было хорошенько расслабиться. Для этой цели Брюс попросил прислать ему из Москвы «ренского две бочки ис пряных, только чтоб было не кисло, ценою не свыше 30 рублев за бочку» (134).
В походах Яков Вилимович не прерывал своих научных занятий. Он разрабатывал конструкции зарядных камор [42]для гаубиц и мортир, рассчитывая наиболее рациональный вес порохового заряда, занимался по распоряжению Петра I переводом на русский язык австрийской книги «Приемы циркуля и линейки или избраннейшое начало во математических искусствах», вносил исправления и дополнения в проект герба генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. Не забывал Брюс и о своих астрономических занятиях. Он просил одного из своих служителей прислать ему «трубу зрительную, буде не сыщешь большую, малую б хотя». «Труба» английского производства была приобретена по его просьбе за 1 рубль 1 алтын и 5 копеек.
Через Приказ артиллерии Яков Вилимович получал редкие весточки из дома от своей супруги Марфы Андреевны (урожденной Маргариты Цеге фон Мантейфель), проявлявшей трогательную заботу о муже. Известно, например, что однажды она послала ему «бутылию с воткою» и «ведерко с калачами» (135).
При вполне естественном желании обеспечить себе в походных условиях необходимый комфорт Брюс в целом отличался скромностью и непритязательностью. Он избегал шумных застолий высшего офицерства, был умерен в еде и не интересовался пленными женщинами, посвящая весь свой досуг научным занятиям.
Глава седьмая
В местах государственных
Приказный быт
Важнейшими государственными учреждениями допетровской Руси являлись приказы – центральные органы управления, сформированные преимущественно по отраслевому принципу В начале петровского царствования семь приказов (Посольский, Разрядный, Большой казны, Поместный, Новгородский, Казанского дворца и Стрелецкий) по-прежнему размещались в Кремле в двухэтажном здании «покоем» (оно напоминало своей формой букву «П»). Строение находилось между Архангельским собором и Спасскими воротами и было возведено в 1680 году на месте старого здания приказов, существовавшего со времен Бориса Годунова (136). В 1699 году И. Г Корб отмечал: «Внутри Кремля находятся разные приказы; важнейший из них приказ Посольский или Посольская канцелярия: в нем решаются все государственные дела царства и производятся совещания с посланниками иностранных государей» (137).
С начала самостоятельного правления Петра I во второй половине 1690-х годов произошли перемены в приказном устройстве, которые стали особенно заметны на грани XVII – XVIII веков. В это время были ликвидированы приказы: Стрелецкий, Каменный, Сыскной, Сбора стрелецких денег; Военный, Иноземный и Рейтарский приказы слились в единое учреждение. Реорганизация не миновала и приказы патриаршего ведомства: все они были подчинены образованному в 1701 году Монастырскому приказу. Одновременно возник целый ряд новых приказов: Преображенский, Семеновский, Адмиралтейский, Военный морской, Провиантский, Приказ сбора печатных пошлин, Приказ крепостных дел, Ратуша (138).
В допетровскую эпоху приказы возникали как конкретные поручения служилым людям (отсюда и само название этих учреждений). Эта практика долгое время сохранялась и при Петре I. Например, Адмиралтейский приказ возник на основании указа царя: «Адмиралтейские и корабельные дела ведать стольнику комнатному Федору Матвеевичу Апраксину, а писать его во всех письмах адмиралтейцем». Указ об образовании Военного приказа от 18 февраля 1700 года гласил: «Велено генералов, полковников, подполковников и иных нижних чинов начальных людей… и всяких чинов ратных людей Сухова пути, которые ведомы были в Иноземском и в Рейтарском приказах, судом и росправою ведать боярину князю Якову Федоровичу Долгорукову и учинить ему тем людям особый приказ… и всякие дела, и с теми делами дьяков и подьячих, которые ему понадобятся, из Иноземского и из Рейтарского взять в тот особый приказ». Новое учреждение в течение полутора лет не имело названия, именуясь лишь «Приказом при генерал-комиссаре», и только летом 1701 года стало называться Приказом военных дел (139).
Современники и соратники Петра также рассматривали приказы как конкретные поручения. Т. Н. Стрешнев 25 февраля 1700 года писал царю: «По писму твоему, государь, сказано, кому в каких чинех и у каких дел быть: князь Яков Долгорукой – генерал-комисар, Семен Языков – генерал-провиант, другой адмиралтеец Федор Апраксин, и оне свои дела стали управлять». Точно таким же образом одиннадцатью годами ранее самому Стрешневу было поручено расследование дела Федора Шакловитого и тем самым был создан Приказ розыскных дел (140).
Стоявшему во главе каждого приказа судье подчинялись дьяки – письмоводители высокого ранга. Служители более низкой категории именовались подьячими, которые делились на старших, средних и младших. Приказы состояли из двух частей: передней и задней палат. В передней палате (канцелярии) сидели со своими бумагами подьячие. Канцелярия делилась на несколько «столов», позднее – отделов, которые отделялись от посетителей и друг от друга барьерами или перегородками, первоначально дощатыми, а позже – сооруженными из шкафов. В задней палате, более благоустроенной и удобной, располагались дьяки и приказные судьи. Там размещался «судейский стол» («присутствие») – особые покои, где судья и дьяки, сидя за большим столом, слушали и решали дела. В некоторых случаях судьи имели собственные рабочие кабинеты – выгороженные части помещений. В таком случае «присутствие» делилось на два «стола» – судейский и дьяческий (141).
Служебный быт первых десятилетий петровского царствования можно проследить на примере Посольского приказа – места работы боярина Федора Алексеевича Головина, важнейшего государственного учреждения, ведавшего внешними сношениями России. Он по-прежнему располагался на двух этажах в здании приказов в Кремле, занимая три комнаты с каменной «казёнкой» (чуланом) для хранения денег. Большой стол в задней палате, за которым сидели дьяки, отделялся от остальной части комнаты деревянной решеткой с двумя дверьми. Впоследствии дьякам из-за тесноты пришлось переместиться в «казёнку», получившую название «дьячьей».
Стены приказных помещений были обиты тесом и покрыты сверху красным или зеленым сукном. Наружные двери для сохранения тепла обивались войлоком и сукном ярких расцветок. В холодное время года палаты отапливались несколькими изразцовыми печами, первая из которых была установлена еще в 1627 году.
Немногочисленная мебель состояла из столов, лавок, скамей, а также используемых для хранения документов шкафов, сундуков, ящиков, коробов и рундуков – ящиков под скамьей с откидной крышкой-сиденьем. Столы, рундуки и ящики обивались сукном, преимущественно ярко-красным. Все служащие, включая бояр, сидели на скамьях и лавках, прибитых к стенам. Эти места для сидения в зависимости от ранга служащих покрывались войлоком или кожаными тюфяками ярких цветов, набитыми шерстью (142).
В приказных помещениях большую часть времени царил полумрак, поскольку маленькие слюдяные окна, закрытые зимой вторыми рамами, едва пропускали свет. Для освещения использовались свечи. Дорогие восковые свечи стояли только перед иконами и на столах у начальства; более широкое распространение имели свечи сальные, сильно чадившие, нередко изготавливавшиеся в самих приказах; они вставлялись в слюдяные фонари или шандалы – подсвечники на одну свечу, настольные или вислые.
Обязательными принадлежностями каждого стола являлись чернильницы, которые нередко помещались в одном станке с песочницами. На столах думных дьяков и других высших чинов стояли оловянные и серебряные чернильницы, у других служащих они были из глины и дерева. Рядовые чиновники писали гусиными перьями, а начальники – лебяжьими, являвшимися большой роскошью.
Записи в приходно-расходных книгах приказов нередко фиксируют приобретение столовой посуды: сковородок, противней, ложек и т. п. Это позволяет предположить, что приказные люди, не получавшие кормовых окладов, в связи с продолжительным рабочим днем готовили пищу тут же (143).
«Первейшее место державы»
Высшим государственным учреждением в начале царствования Петра I являлась Боярская дума, состоявшая из служилых людей высокого ранга, редких выдвиженцев из дворянских низов и одаренных приказных людей, а также царских родственников. Среди бояр было немало талантливых людей. В последнем «призыве» Думы состояли Ф. А. Головин, князь Я. Ф. Долгорукий, Т. Н. Стрешнев, П. М. Апраксин, окольничий А. А. Матвеев, постельничий Г. И. Головкин. Впоследствии они вошли в число ближайших сподвижников Петра I. В Думе обсуждались важнейшие государственные дела, и далеко не всегда ее члены просто утверждали переданные им бумаги стандартной резолюцией «Государь указал, а бояре приговорили». На заседаниях подчас разгорались нешуточные споры, и в таком случае делалась запись «бояре поговорили» (144).
В 1699 году при Боярской думе была учреждена Ближняя канцелярия, первоначально ведавшая контролем за приходом и расходом денежных средств всех приказов. Вскоре ее компетенция возросла: она стала местом заседаний членов Боярской думы. С 1704 года здесь стали собираться начальники приказов и их регулярно проводимые совещания получили название Консилии министров. Этот новый государственный орган обсуждал различные вопросы управления, а в отсутствие царя руководил государством. Заседания Консилии проводились в Кремле или на Генеральном дворе – в съезжей избе в селе Преображенском (145).
Частые отъезды Петра I побудили его создать высший государственный орган с более широкими полномочиями, чем Ближняя канцелярия и Консилия министров. 22 февраля 1711 года, накануне отправления в Прутский поход, государь подписал указ об учреждении Правительствующего сената, который, по-видимому, первоначально виделся временным («для отлучек наших»), но вскоре превратился в постоянно действующее высшее правительственное учреждение. Это был коллегиальный орган, члены которого назначались царем. Из девяти участников первого состава Сената только трое были представителями старинной титулованной знати: князья М. В. Долгорукий, Г. И. Волконский, П. А. Голицын. Т. Н. Стрешнев и И. А. Мусин-Пушкин принадлежали к малознатным родам, возвысившимся лишь в XVII веке. М. В. Самарин, В. Г. Апухтин и Н. П. Мельницкий происходили из ничем не примечательных дворянских родов. Г. А. Племянников относился к числу приказных служителей и возвысился благодаря собственным выдающимся способностям. Лишь трое сенаторов – Мусин-Пушкин, Стрешнев и Племянников – в прошлом являлись членами Боярской думы (146). В конце 1711 года учреждение пополнилось еще одним членом – в него вошел и был поставлен на первое место в иерархии сенаторов бежавший из шведского плена князь Я. Ф. Долгорукий.
Примечательно, что в составе Сената первоначально не было таких крупных деятелей из числа соратников Петра, как А. Д. Меншиков, Г. И. Головкин и Ф. М. Апраксин, – вероятно, потому, что они были заняты другими неотложными делами: ведением военных действий, руководством внешней политикой страны, строительством флота и новой столицы. В Сенате оказались люди из «второго эшелона» сподвижников великого реформатора.
Царский указ от 4 апреля 1714 года установил детальный порядок работы Сената. Вначале дело зачитывалось сенатским секретарем или дьяком, затем начинали «спрашивать снизу по одному и записывать всякого мнение… А когда подпишут все мнение, тогда диспуту иметь. И с той диспуты куда более голосов явитца, так и вершить. И подписывать всем общую сентенцию, кто и спорить будет, понеже более его голосов туды стало». Обсуждение открывал «нижний» сенатор Н. П. Мельницкий, а последним брал слово князь Я. Ф. Долгорукий (147).
До переезда Сената в Петербург его заседания проводились в «присутствии» в Кремле. Канцелярия Сената находилась там же, для нее были отведены палаты бывшего Казенного приказа, расположенные около Благовещенского собора. По указу от 16 апреля 1711 года архитектору Григорию Устинову было велено эти помещения «очистить и очистя починить, и устроить что надлежит, где быть канцелярии Правительствующего Сената» (148).
Как канцелярские служители, так и сами сенаторы должны были являться на работу неукоснительно, за прогул грозил весьма значительный по тем временам штраф в 50 рублей. Указ от 20 января 1716 года установил три присутственных дня в неделю: понедельник, среду и пятницу. Кроме того, один из сенаторов в течение месяца нес дежурство, находясь в Сенате ежедневно (149).
Двенадцатого января 1722 года Петр I подписал указ, направленный на улучшение деятельности всех органов государства. Он предписывал «быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору». Спустя шесть дней царь назначил на должность генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского, а в обер-прокуроры произвел Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева (150). Представляя сенаторам первого генерал-прокурора, государь сказал: «Вот мое око, коим я буду всё видеть. Он знает мои намерения и желания; что он заблагорассудит, то вы делайте; а хотя бы вам показалось, что он поступает противно моим и государственным выгодам, вы, однако ж, выполняйте и, уведомив меня о том, ожидайте моего повеления».
Жак Кампредон в донесении от 30 января также отметил, что Ягужинский «возведен в должность генерал-прокурора в Сенате… он будет исполнять обязанности фискала около сенаторов, будет следить за тем, исполняют ли они свой долг, и назначать дела, которые они должны рассматривать в каждом заседании» (151).
Положение Ягужинского оказалось достаточно сложным. Царь, будучи человеком исключительно энергичным, сам нередко выполнял прокурорские обязанности: постоянно ездил в Сенат и строго следил за принимаемыми там решениями. Однако в отсутствие государя господа сенаторы порой забывали о правилах приличия. Коллегиальные решения были еще чужды сознанию самолюбивых сановников. Они не привыкли считаться с чужим мнением и уважать его, поэтому в сенатском собрании зачастую возникали споры, крики и брань, а иногда и драки. В связи с этим 16 октября 1722 года Ягужинский написал особое «предложение», в котором просил сенаторов воздерживаться от ссор и споров, «ибо прежде всего это неприлично для такого учреждения как Сенат» (152). Государь всячески поддерживал стремление Ягужинского навести порядок в работе «первого места государства». Известен его строгий приказ: «А ежели кто из сенаторов станет браниться или невежливо поступать, то такого арестовать и отвесть в крепость» (153).
Первый пункт первого раздела указа Петра I от 27 апреля 1722 года «О должности Сената» гласил: «Сенату надлежит состоять из тайных действительных и тайных советников, кому от нас ныне повелено и впредь повелено будет, и сидеть по рангам». Следующие два пункта определяли круг лиц, имевших право присутствовать на сенатских заседаниях: «И кроме их, также и генерала– и обер-прокуроров и обор-секретаря и секретарей и протоколиста, никакой незванной персоне не входить в то время, когда советы отправляются… А когда кто впущен будет из высоких персон, то сенаторы велят подать стул, но и то такому, который бы ранг имел между первейшими чинами, а имянно, до бригадира, и почтут ево сесть» (154).
В девятом разделе указа определялся порядок обсуждения дел: «…когда какое дело будет слушать, тогда между собою не говорить и, выслушав, буде дело не важное, в то время приговаривать с нижних голосов и решить». Но при решении более сложных вопросов сенаторы могли вставать из-за стола и совещаться «кто с кем за благо рассудит, о том деле толковать надлежащее время», которое им отводил генерал-прокурор, отмеряя его по нескольким песочным часам, рассчитанным на разные интервалы – от получаса до трех часов. «И, как встанут и будут толковать, тогда, объявя им песочные часы, обратя, поставить на стол такие, сколько к тому толкованию время надлежит. А как то время пройдет, тогда сесть всем по своим местам и по вышеозначенному голосы свои давать снизу, один по другом. И, дав голосы, решить, а больше показанного времени в решении продолжения не чинить». В десятом разделе подчеркивалось: «Никому в Сенате позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не касаются к службе нашей, меньше же кому дерзновение иметь безделными разговорами или шутками являтися» (155).