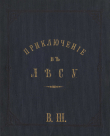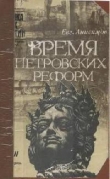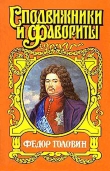Текст книги "Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников"
Автор книги: Виктор Наумов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Физические недомогания царя и его соратников отнимали у них немало сил и времени, мешали им работать и отдыхать. Но страдания от телесных болезней иногда было легче переносить, чем душевные недуги.
Болезни нервные и душевные
Нервные и психические расстройства Петра I и лиц из его окружения возникали как из-за врожденной предрасположенности к заболеваниям, так и вследствие физического и нервного перенапряжения, а в случае петровских сподвижников – еще и из-за постоянного опасения за свою судьбу, находившуюся под скипетром скорого на расправу монарха.
Поведение Петра I отличалось заметными проявлениями аномалии, что зачастую поражало современников. На двадцатом году жизни у него стала трястись голова, и на красивом круглом лице в минуты напряженного раздумья или душевного волнения появлялись судороги. Его большие глаза приобретали тогда резкое, даже дикое выражение.
Юст Юль приводит довольно устрашающую зарисовку с натуры, сделанную на торжествах по случаю полтавской победы: «Мы вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами, быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но всё продолжал делать… страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован». Датский посланник отметил, что «описанные выше страшные движения и жесты царя доктора зовут конвульсиями. Они случаются с ним часто, преимущественно когда он сердит, когда получил дурные вести, вообще когда чем-нибудь недоволен или погружен в глубокую задумчивость. Нередко подобные подергивания в мускулах рук находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и ножик, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себе лицо». Юль предположил, что причиной нервно-психического расстройства Петра I является «острота крови» и что «эти ужасные на вид движения – топание, дрыгание и кивание – вызываются известным припадком сродни апоплексическому удару» (56).
Парижская газета «Ведомости иностранных дел» при описании внешности российского монарха, прибывшего во французскую столицу в 1717 году, отметила: «Он очень часто гримасничает. Привычное его движение – смотреть на свою шпагу, стараясь склонить голову через плечо, при этом отставляя назад ногу. Иногда он ворочает головой, словно желая втянуть ее в плечи. Приближенные уверяют, будто бы такое судорожное подергивание появляется у него при усиленной сосредоточенности мыслей» (57).
Только Екатерина могла совладать с царем во время его припадков гнева – он начинал успокаиваться от одного звука ее голоса. Жена умела снимать его судорожные головные боли: «…сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым» (58).
Современники и историки называют две причины неуравновешенности Петра: детский испуг во время кровавых кремлевских событий 1682 года и частые кутежи в юности в Немецкой слободе, подточившие здоровье еще не окрепшего организма. Однако не исключено, что царь страдал врожденным психическим недугом, получившим дальнейшее развитие из-за названных неблагоприятных факторов.
Приступы ярости у государя происходили довольно часто. Они возникали внезапно под воздействием неприятных известий или каких-то иных внешних раздражителей, но иногда и без видимой причины. Вероятно, в ряде случаев монарх при желании мог бы себя сдерживать, но его твердое убеждение во вседозволенности, присущей самодержавной власти, обычно исключало всякое стремление к самоконтролю. Во время новогоднего праздника 1 сентября 1698 года повод для недовольства Петра был вполне определенным: стало известно, что первый русский генералиссимус А. С. Шеин раздавал высшие офицерские чины за взятки. Дальнейший, весьма драматичный, эпизод описан в дневнике Иоганна Георга Корба. После оживленного спора с провинившимся вельможей царь выскочил из-за праздничного стола в соседнюю комнату и через несколько минут появился с обнаженной шпагой; ударив ею по столу перед Шейным, он закричал: «Так истреблю я твой полк!» В порыве ярости Петр начал размахивать оружием, приводя в ужас всех пирующих. Князь-кесарь Ф. Ю. Ромодановский был легко ранен в палец; Н. М. Зотов, отводя от себя «удар царского меча, поранил себе руку». Царь уже занес шпагу над Шейным, но Ф. Я. Лефорт успел схватить сзади разбушевавшегося державного друга и сжать его в своих крепких объятиях. Петр, рассказывает Корб, «напрягал все усилия вырваться из рук Лефорта и, освободившись, крепко хватил его по спине. Наконец, один только человек, пользовавшийся наибольшей любовью царя перед всеми московитянами, сумел поправить это дело. Говорят, что этот человек достиг настоящего завидного своего положения, происходя из самого низшего сословия (несомненно, речь идет об А. Д. Меншикове, которого австрийский дипломат в данном случае почему-то не называет по имени. – В.Н.). Он так успел смягчить сердце царя, что тот воздержался от убийства, а ограничился одними только угрозами» (59).
25 мая (6 июня) 1719 года французский консул Лави писал министру иностранных дел Дюбуа: «Беспокойные движения царя и порывы гнева, которым он предается, показывают силу волнующих его страстей; колеблясь между гневом и опасением, он часто переходит с места на место» (60). Очевидно, с годами болезнь Петра I проявлялась всё сильнее.
Внезапные приступы ярости, судорожные припадки, непроизвольные телодвижения Петра являются несомненными признаками эпилепсии, однако нет никаких оснований говорить о случаях помрачения его сознания. Н. Н. Пуховский предполагает несколько диагнозов нервно-психических расстройств царя, в числе которых – такие малоправдоподобные, как вторичная паранойя, бисексуализм, сифилофобия, перешедшая в сифиломанию, и т. д. Возможно, он прав в том, что Петр страдал симптоматической фокальной (локализованной) эпилепсией (синдромом Кожевникова) (61). Эту форму болезни можно отнести к разряду нервных, а не душевных (62). В данном случае речь идет о внезапных избыточных возбуждениях нейронов коры головного мозга в результате органического или функционального повреждения, вызванного недостаточным кровообращением, травмами головы, инфекционными заболеваниями, опухолями, нарушением обмена веществ и другими факторами: на месте структурного повреждения образуется рубец, а периодически возникающие острый отек и раздражение нервных клеток двигательной зоны ведут к судорожным сокращениям мышц.
Признаки нездоровой психики проявлял царевич Алексей Петрович. Иностранные современники утверждали, что он страдал галлюцинациями и был склонен к религиозной экзальтированности. Современный исследователь, доктор медицинских наук В. Л. Минутко считает, что задумчивость царевича, его неразговорчивость в незнакомом обществе, скрытность, боязливость и подозрительность свидетельствуют о развивавшейся у него депрессии (63).
В конце 1719 года иностранные дипломаты стали замечать распространение депрессии среди сподвижников Петра 1.10(22) декабря 1719 года Лави сообщил Дюбуа, что «Шафиров и день и ночь испытывает душевные мучения; у него бывают припадки апоплексии или меланхолии, после которых он, придя в себя, плачет и поверяет своим лучшим друзьям, что… постоянно о чем-то беспокоится, чего-то боится, ему представляется близкая опасность чего-то» (64). 20 декабря 1719 года (1 января 1720-го) Лави вернулся к этой теме: «Бар<он> Шафиров выказывает полное равнодушие к делам… Кажется, что его болезнь, представляющая смесь ипохондрии с меланхолией, начинает распространяться здесь. Ею страдают ген<ерал> Вейде, Остерман и многие другие; первый уехал на Олонецкие воды» (65). Несомненно, давали знать нервное перенапряжение и обеспокоенность своей судьбой. Шафирова недобрые предчувствия не обманули: три года спустя он оказался в ссылке.
Маленький внук царя Петр Алексеевич, в отличие от своего апатичного отца, был очень активным, непоседливым. Несомненно, он пошел в деда, который в детстве тоже фонтанировал энергией. Трудно сказать, унаследовал ли мальчик его недуги. Известно только, что гиперактивность ребенка приводила к нервным перегрузкам. 20 декабря 1719 года (1 января 1720-го) Лави сообщил Дюбуа: «Недавно великий князь захворал, что приписывают чрезмерной живости, заставляющей его делать больше движения, чем следовало бы принцу его лет. Теперь он поправляется» (66).
В конце 1711 года тяжелая психическая болезнь настигла генерал-майора Михаила Борисовича Шереметева, сына фельдмаршала. 8 (20) декабря секретарь английского посольства в Москве Людвиг Христофор Вейсброд известил статс-секретаря виконта Генриха Сен-Джона: «Рассказывают… будто молодой Шереметев помешался. Он, впрочем, еще и до отъезда из дому (в Прутский поход. – В.Н.) имел склонность к помешательству: с ним случались припадки бешенства» (67). Несомненно, его болезнь развилась под влиянием неблагоприятных внешних факторов, когда летом 1711 года он был отправлен в Турцию в качестве заложника (подробнее об этом речь пойдет ниже). Ностальгия, вынужденное безделье, тяжелые условия содержания в турецкой тюрьме, опасение за свою жизнь – всего этого было достаточно, чтобы сломать и более устойчивую психику. Михаил Борисович так и не оправился от недуга и 23 сентября 1714 года скончался по дороге из Турции на родину.
Глава четырнадцатая
«От трудов отдохнуть едва нам мочно»
Баталии с русским Бахусом
Ежедневная напряженная работа Петра I и его соратников требовала хорошего отдыха и восстановления сил для новых «трудовых подвигов». Наиболее распространенный вид досуга на Руси допетровского времени хорошо известен, поскольку он сохранился до наших дней: до сих пор «отдохнуть» для большинства наших соотечественников означает «напиться». Это не значит, что до Петра у представителей правящей элиты не существовало других форм досуга: чтение, игра в шахматы и другие интеллектуальные виды отдыха известны по крайней мере со времен Ивана Грозного. Любимым развлечением первых Романовых, как и большинства представителей верхушки русского общества, была охота. Но Петр I ее терпеть не мог, считая пустой тратой времени, что, конечно, способствовало снижению интереса этому занятию и у лиц из его окружения, старавшихся во всём ориентироваться на вкусы и жизненные установки монарха. Петр не любил также карточные игры, но в этом отношении его соратники не следовали его примеру: карты являлись, пожалуй, самой любимой формой их досуга после выпивки. А зачастую «застольное питие», курение и карточная игра происходили одновременно. Правда, это случалось по большей части в отсутствие государя, поскольку при нем пьянка обычно принимала такие чудовищные размеры – до одури, до драк, а иногда и до смерти тех, кто не был достаточно крепок здоровьем, – что было уже не до игры.
Петр I пристрастился к вину очень рано, в 16 – 17 лет, в компании известного пьяницы и дебошира Франца Лефорта. Вокруг них сложилась «кумпания» ближайших друзей, также любивших выпить или же подстраивавшихся под вкус молодого царя. Со временем это веселое общество выпивох оформилось в своеобразную шутовскую организацию – Всешутейший собор, о котором выше уже шла речь. Но компания друзей и собутыльников Петра была гораздо шире, состав ее с годами менялся, однако суть оставалась прежней: царь и его окружение пили без меры, пока выдерживал организм.
Античный бог виноделия и покровитель пьяниц (греческий Дионис, римский Вакх, или Бахус), именовался в России Ивашкой Хмельницким. На Руси пьянка зачастую не обходится без драки, что образно отражено и в питейном мифотворчестве. Шутливая переписка Петра I и его друзей изобилует упоминаниями о «сражениях» с Ивашкой, в которых тот неизменно одерживал верх. Яркое описание одной такой битвы находим в письме Петру I от фельдмаршала Шереметева, присланном из военного похода. Он получил известие о рождении царевича Петра Петровича и поделился этой радостью с генералами Аникитой Репниным, Петром Ласси, Федором Шарфом и Алексеем Глебовым, собравшимся на военный совет. «И как о той всемирной радости услышали, – доносил Борис Петрович, – и бысть между нами шум и дыхание бурно; и, благодаря Бога, были зело веселы».
«Быть навеселе» – известный эвфемизм, сохранившийся в русском языке до наших дней. Всем понятно, что автор письма имеет в виду основательную пьянку. И тут в дело вступает задиристый русский Бахус: «И умысля над нами Ивашко Хмельницкой, незнаемо откуда прибыв, учал нас бить и по земле волочить, что друг друга не свидали. И сперва напал на генерал-маеора Леси, видя его безсильна, ударил ево в правую ланиту и так ево ушиб, что не мог на ногах устоять. А потом генерала маеора Шарфа изувечил без милости». Репнин якобы хотел оказать помощь товарищам, но «Хмельницкой воровски зделал, под ноги ударил и на лавку не попал, а на землю упал». В строю остались лишь два бравых участника военного совета, сумевшие ретироваться, не сложив перед Бахусом оружия. «И я з Глебовым, – продолжает Шереметев, – видя такую силу, совокупившися, пошли на него Хмельницкого, дескурацией (контратакой. – В.Н.) и насилу от него спаслися, ибо по щастию нашему, прилучилися дефилеи надежные». Однако поле боя осталось не за ними. «Я на утрее опамятовался, – заканчивает свой драматический рассказ Борис Петрович, – на постели в сапогах без рубашки, только в одном галстухе и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, не знал, как и куда вытить» (68).
Безмерное пьянство при дворе Петра I составляло предмет мучений иностранных дипломатов, не привыкших к подобным излишествам. «Вечер прошел в сильной выпивке»; «день прошел в попойке; отговорки от питья помогали мало», – то и дело сообщает в своих записках датчанин Ю. Юль. «Для иностранного посланника в России, – сетует дипломат, – такого рода попойки представляют великое бедствие: если он в них участвует, то губит свое здоровье; если же устраняется, то становится неугодным царю…» От необходимости общения с русским Бахусом не спасали никакие хитрости. Юль описывает забавный случай, произошедший на корабле вице-адмирала Крюйса 20 апреля (2 мая) 1710 года. Когда царский ключник поднес датскому посланнику большой стакан вина, трезвенник Юль попытался спастись бегством и ретировался на переднюю часть судна, где взобрался на снасти, поддерживавшие фок-мачту. Но его маневр не удался: «…когда ключник доложил об этом царю, его величество полез за мною сам на фокванты, держа в зубах тот стакан, от которого я только что спасся, уселся рядом со мною, и там, где я рассчитывал найти полную безопасность, мне пришлось выпить не только стакан, принесенный самим царем, но еще и четыре других стакана. После этого я так захмелел, что мог спуститься вниз лишь с великой опасностью» (69).
Христиан Фридрих Вебер зачастую оказывался в столь же плачевном положении: «Дюжина бокалов венгерского и две кварты водки, которые я должен был выпить в два приема из рук.. вице-царя Ромодановского, отняли у меня всякое чувство и разум; почти все другие гости спали уже на полу» (70). Прочие иностранные дипломаты страдали не меньше. «Пили страшно много, – жаловался французский посланник Жак Кампредон, – а караул никого не выпускал, так что я никогда в жизни не подвергался такому тяжкому испытанию» (71). Немаловажную роль в спаивании иностранцев и других трезвенников играли в компании Петра I дамы. Как отметил Юль, «в обществе русских женщин благодаря их усердному канючению и просьбам в самый короткий срок выпиваешь более, чем в обществе самых завзятых пьяниц» (72).
Любопытны догадки иностранных наблюдателей относительно того, что пьянство под эгидой Петра I не было лишено тайного смысла. Юль утверждал, что «царь охотно допускает в свое общество разных лиц, и тут-то на обязанности шутов лежит напаивать в его присутствии офицеров и других служащих, с тем чтобы из их пьяных разговоров друг с другом и перебранки он мог незаметно узнавать об их мошеннических проделках и потом отымать у них возможность воровать или наказывать их» (73). Ему вторит Кампредон: «…так как он знает, что его не особенно любят, то часто подпаивает тех, чьи секреты хочет выведать» (74).
Под влиянием винных паров нередко происходили ссоры между ближайшими соратниками Петра. Например, Юль сообщает, что на свадьбе герцога Курляндского и царевны Анны Иоанновны между А. Д. Меншиковым и Ф. М. Апраксиным «в присутствии всех гостей и царя произошла… великая перебранка; пущены были в ход разнообразные ругательства». «У русских, – добавляет датский дипломат, – на их собраниях такие перебранки и руготня случаются то и дело. Так как царь сам принуждает присутствующих напиваться, то и не обращает на оные внимания, предоставляя их собственному течению, и бранящиеся не подвергаются его гневу и немилости. Когда двое русских рассердятся друг на друга, то называют один другого вором и плутом и, следуя весьма распространенному здесь обычаю, плюют друг другу в лицо. Но до кулачной расправы и до шпаг их обыкновенно не допускают» (75).
Порой провоцируемые царем излишества приводили к трагическим последствиям. 5(17) февраля 1710 года стало известно о смерти отца известного дипломата В. Л. Долгорукого. Юль описал обстоятельства кончины князя Луки, которые были достаточно характерны для петровского времени. «Накануне вечером, – рассказывает датский посланник, – он был в Преображенской слободе в гостях у царя, и там ему предложили выпить большой кубок вина. Но будучи трезвым от природы и имея более 70 лет от роду, к тому же женившись всего за четыре дня тому назад, князь решился вылить часть кубка, чтоб не быть вынужденным пить его весь. Узнав о том, царь велел ему выпить стакан водки размером, как уверяют, в полтора пэля (пэль равен четверти литра. – В.Н.).Лишь только Долгоруков выпил этот стакан, ноги у него подкосились, он лишился чувств и в обмороке был вынесен в другую комнату; там он через час скончался». Говорили, что эта смерть весьма опечалила царя, но, как пишет Юль, «горе было изобильно залито добрым венгерским вином» (76).
Местом попоек Петра I и его друзей часто служила австерия, то есть гостиница на Троицкой площади, принадлежащая царскому обер-кухмейстеру Иоганну Фельтену. Здесь они иногда напивались до умопомрачения, о чем свидетельствует тот факт, что Александр Данилович Меншиков вечером 6 ноября 1715 года потерял в австерии свой орден Андрея Первозванного. Наутро опомнившийся светлейший князь издал по всем петербургским полкам приказ о поисках пропажи и пообещал пожаловать 200 рублей тому, кто ее обнаружит.
К тому времени орден был уже найден: квартирмейстер Белозерского полка Яким Ивакин зашел в австерию сразу же после ухода из нее царя с друзьями и «увидел, на полулежит кавалерия, которую поднял, осмотрел, что при ней нет камня». Без этого большого алмаза Ивакин побоялся возвращать орденский крест всесильному владельцу – попробуй докажи, что не ты выломал камень. А алмаз, как впоследствии выяснилось, был найден в тот же вечер на полу австерии солдатом Ратуши Фомой Худяковым. Он, по-видимому, хотел продать драгоценную находку, но человек, которому она была показана, поспешил донести об этом властям. Когда об обнаружении камня стало известно Ивакину, он с чистой совестью сдал куда положено найденный им крест. Таким образом, части ордена Меншикова были собраны и воссоединены. Александр Данилович постановил разделить обещанную им награду между всеми участниками этого эпизода. Наибольшую сумму – 100 рублей – получил посадский человек Иван Мартьянов, сообщивший подьячим Ратуши о том, что камень находится в руках у Худякова. Подьячие, донесшие о находке по инстанции, получили по 30 рублей. «Солдату Худякову, – постановил Меншиков, – хотя он в том и погрешил, что никому не объявил, то достоин наказания, однако ж в том щастлив, что в ево руки прежде оный камень пришел, то дать ему тритцать рублев; а за крест квартермистру Ивакину – десять рублев» (77). Последнюю часть этого решения вряд ли можно считать справедливой: ведь сам орденский знак был не менее важен, чем украшавший его бриллиант.
«Ассамблея – слово французское»
Знаменитые петровские ассамблеи начали проводиться в Петербурге с 27 ноября 1718 года. Несомненно, это новшество было навеяно впечатлениями Петра от поездки во Францию годом раньше. Непринужденные собрания французского «света» очень ему понравились, и он пожелал завести нечто подобное в своем отечестве. Условия для этого были уже подготовлены: за неполные десять лет со времени пребывания в Петербурге Юста Юля описанные им дикие черты быта ушли в прошлое, и теперь никто уже не опасался, что после ухода гостей придется убирать покрытое нечистотами сено.
Объявление об учреждении ассамблей извещало подданных: «Ассамблея – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать: вольное, в каком доме собрание или съезд; делается не для только забавы, но для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, притом же и забава». На эти собрания «вольно всякому прийти, как мужескому полу, так и женскому». Далее этот пункт конкретизировался: «…каким чинам на оные ассамблеи ходить, а именно: с вышних чинов до обор-офицеров и дворян, также знатным купцам и начальным мастеровым людям, также и знатным приказным; тож разумеется и о женском полу, их жен и детей». Под «начальными мастеровыми», как пояснил Вебер, подразумевались «преимущественно кораблестроители».
Определялось время проведения ассамблеи: «ранее пяти или четырех часов не начинается, а далее десяти по полудни не продолжается». Хозяин дома, в котором проводилось собрание, не был обязан встречать, провожать и потчевать гостей. Более того, он мог даже отсутствовать. Ему вменялось в обязанность только «несколько покоев очистить», поставить столы и приготовить на них свечи, «питье употребляемое в жажду» и «игры на столах употребляемые», то есть карты, шахматы и шашки. Каждый из гостей мог явиться в любое удобное для него время, лишь бы не раньше и не позже установленного срока, «также тут быть сколько кто хочет и отъехать волен когда хочет».
Хозяину и гостям предписывалось вести себя раскованно и непринужденно: «Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить или унимать, также церемонии делать вставанием, провожанием и прочим отнюдь да не дерзает, под штрафом Великого Орла, но только при приезде и отъезде поклоном почтить должно» (78).
Упомянутый кубок Большого (Великого) орла мог явиться достаточно тяжелой мерой наказания для малопьющих: он вмещал больше литра вина, и выпить его полагалось «в один дух». Однако большинство лиц из ближайшего окружения государя вряд ли боялись подобного штрафа. «Хотя на ассамблеях, – отмечал Вебер, – никому не предлагается вина или водки больше того, сколько кто сам пожелает, кроме случаев (которые нередко повторяются), когда кто поступит в противность установленным правилам; тем не менее иной русский порядочно напивается и смотрит на учреждение ассамблей как на одно из лучших нововведений в России» (79).
Порой действие алкоголя заставляло забывать о хороших манерах. Берхгольц рассказывает, как на ассамблее 22 марта 1722 года подрались два «почтенных старика» – адмирал К. И. Крюйс и вице-адмирал К Г. Зоммер, в результате чего последний упал под стол и потерял парик (80). Думается, подобные случаи не были редкостью.
На ассамблеях Петр принципиально демонстрировал отсутствие деликатных манер и обходительности в обращении. Он запросто садился играть в шахматы с корабельными мастерами, вместе с ними пил пиво и тянул махорку из длинной голландской трубки, не обращая внимания на танцевавших в той же зале дам (81).
Французский консул Анри Лави 19 (31) декабря 1718 года был на ассамблее у вице-адмирала Корнелиуса Крюйса, где присутствовали царь, царица, многие российские вельможи, а также иностранные дипломаты. Порядок проведения подобных собраний французский дипломат описал следующим образом: «Такого рода ассамблеи устраиваются три раза в неделю, поочередно у знатных придворных. На них одни играют в шахматы или в карты, другие курят, пьют, разговаривают о новостях дня, даже о торговле, так как и именитые купцы допускаются на эти собрания. Если кто, когда царь проходит мимо, почтительности ради, встанет, того подвергают штрафу, т. е. заставляют выпить огромный кубок вина. Дамы сидят в отдельном апартаменте, куда к ним иногда призывают для танцев министров и других сановников» (82).
Для проведения ассамблей в соответствии с правилами хорошего тона требовалось по меньшей мере четыре помещения: «одна комната назначена для танцев, другая для всякого рода карточной игры и особенно для шахматной (в которой отличаются самые простые русские люди), в третьей комнате курят и ведут беседы, а в четвертой женщины играют в фанты и другие забавные игры». Однако этот идеальный порядок не всегда соблюдался, по всей видимости, из-за недостатка свободных помещений в некоторых домах. «Что мне не нравится в этих ассамблеях, – замечает Берхгольц, – так это, во-первых, то, что в комнате, где дамы и где танцуют, курят табак и играют в шашки, отчего бывают вонь и стукотня, вовсе неуместные при дамах и при музыке, и, во-вторых, то, что дамы всегда сидят отдельно от мужчин, так что с ними не только нельзя разговаривать, но не удается почти сказать и слова. Когда не танцуют, все сидят как немые и только смотрят друг на друга» (83).
Основным увеселением на ассамблеях являлись танцы, которые открывали хозяин, хозяйка или кто-нибудь из домашних. Поскольку на ассамблеях установлено было полное равенство, каждый мог пригласить на танец не только любую даму или девицу, но и саму государыню или царевен.
Петр нередко нарушал установленные им самим правила проведения ассамблей, приказывая дамам через генерал-полицеймейстера продолжать танцы после десяти часов вечера. В таких случаях царь давал гостям некоторое время для отдыха и «подкрепления едой», а затем начинал сам управлять танцами со свойственной ему неукротимой энергией. При этом он иногда проявлял присущий ему грубоватый юмор, что бывало весьма тягостно для тех, кто удостаивался монаршего внимания. Например, он мог поставить в ряды танцующих самых дряхлых стариков, дав им в партнерши молодых дам, и сам становился с Екатериной в первой паре. Все престарелые кавалеры обязаны были в точности повторять движения государя, а между тем Петр, по словам Берхгольца, выделывал такие «каприоли», которые составили бы честь лучшим европейским балетмейстерам. Танец, разумеется, не удавался. «Царь, – продолжает очевидец, – со свойственною ему настойчивостью принялся обучать танцоров и объявил им, что выучит их скоро. Как ни бился, однако, государь, дело не шло на лад: ученики его чуть держались на ногах, а царь прискакивал и вертелся перед ними без устали. Старики путались, задыхались, кряхтели, у некоторых кружились головы, другими овладевали припадки одышки; некоторые не выдержали и повалились на пол, другие присели на корточки; Петр рассердился, приказал прекратить музыку и заставил каждого из неудачных танцоров выпить по большому штрафному бокалу крепкого венгерского. Отпустив после этого стариков, он начал танцевать с молодыми новый, им самим придуманный, трудный и замысловатый "цепной танец"» (84).
Екатерина, как и Петр, умела танцевать очень хорошо: в паре с супругом она делала три круга, в то время как остальные не успевали еще окончить первый. Но с другими кавалерами она не проявляла такого усердия и вместо положенных подпрыгиваний, приседаний и пируэтов ходила обыкновенным шагом. С 1721 года в ассамблеях участвовали юные дочери императора – тринадцатилетняя Анна и двенадцатилетняя Елизавета, которые, по словам очевидца, «танцевали много и весело, с большим изяществом».
Во время ассамблей Петр обычно ходил из комнаты в комнату, подсаживаясь время от времени к какой-нибудь компании и вступая в общий разговор. В хорошем настроении он шутил, смеялся и передразнивал неловких танцоров, изображая, как они нелепо вертят руками и ногами. Но любезен и весел он бывал не всегда. Очевидец рассказывает, как однажды царь приехал в дом Меншикова «в самом тяжелом расположении духа»: «Вместо того чтобы танцевать, он начал ходить по комнате взад и вперед и так сильно тряс головой и подергивал плечами, что присутствующими овладел страх и трепет; поэтому все были очень довольны, когда он в десять часов уехал, ни с кем не простясь».
Такие случаи бывали, по всей видимости, всё же нечасто. Обычно ассамблеи проходили в обстановке всеобщего веселья, особенно если на них присутствовал генерал-прокурор П. И. Ягужинский – «душа петербургских собраний». Будучи прекрасным танцором, он любил изобретать новые забавные «фигуры», которые все должны были повторять. Однажды на ассамблее у вице-канцлера П. П. Шафирова он предложил каждой танцующей паре «проделать что-нибудь необычное». Пример подала его дама – молодая красавица Наталья Лопухина, которая во время танца стащила Ягужинскому на нос парик, а затем поцеловала его. Проделки прочих присутствующих зависели от их находчивости и остроумия. Одни кавалеры приседали перед своими дамами в глубоком реверансе, другие доставали во время танца табакерку и нюхали табак, третьи щелкали пальцами в воздухе, четвертые подбегали к столу и пили за здоровье общества (85). Место для подобного веселья находилось далеко не во всех петербургских домах, поэтому гости иногда делились на две группы, одна из которых ужинала, другая танцевала, а затем они менялись местами.
Как справедливо отметил историк В. В. Мавродин, «в Петербурге вели открытую жизнь и не было той сословной замкнутости, которая так характерна для старомосковских времен… На ассамблее знатный дворянин, Рюрикович и Гедиминович, беседовал и пил вино с лекарем, генерал играл в шахматы с купцом, шкипер "кружку пенил" с ученым, гвардейский офицер слушал рассказ "начального" мастерового» (86).