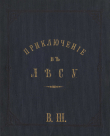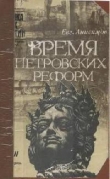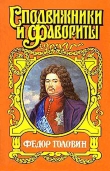Текст книги "Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников"
Автор книги: Виктор Наумов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
На обеды в доме князя иногда приглашались иностранные дипломаты. Датский посол Ю. Юль отметил: «Всё у него пышнее, чем у других сановников и бояр, а кушанье приготовлено лучше. Гости сидели за прекрасным серебряным столом. Тем не менее старинные русские обычаи прогладывали во многом». Голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц также утверждал, что «нигде в Петербурге так хорошо не обедают, как у князя» (213).
В отличие от своего «сердешного друга Алексашки», Петр I в быту не любил излишеств. Только в торжественных случаях на столе, покрытом камчатной [48]скатертью, появлялись серебряные блюда, вазы, ножи и вилки. В обычные дни за царским столом пользовались оловянной посудой. «Государь, – считал Петр, – должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а менее еще роскошью; но неусыпным ношением на себе бремени государственного и попечением о их пользе и облегчении; к тому же таковые убранства только что вяжут меня и отнимают руки» (214). Умеренность Петра, возведенная в жизненный принцип, могла, как он полагал, оказывать моральное воздействие на окружающих: «Самый способнейший способ к уменьшению пороков есть уменьшение надобностей, то и должен я в том быть примером подданным своим» (215).
Государь не любил присутствия большого количества слуг; когда он обедал дома с Екатериной Алексеевной, ему обычно прислуживали только один из юных пажей и служанка. Если приглашались послы и генералы, подавали и убирали блюда личный повар царя, денщик и два пажа, которые отсылались из столовой, когда очередь доходила до вин и десерта. В беседе с прусским послом Густавом Мардефельдом Петр объяснил: «Наемники, лакеи, при столе смотрят только всякому в рот, подслушивают всё, что за столом говорится, понимают криво и после так же криво пересказывают» (216).
X. Ф. Вебер ярко описал свои посещения домов русской знати в Петербурге, во время которых он имел случай познакомиться с порядком русского угощения: «…прежде всего подают холодные кушанья: ветчину, колбасы, студень и всякого рода мяса, изготовленные с деревянным (прованским) маслом, луком и чесноком; все эти кушанья остаются на столе с час времени и долее, затем идут супы, жаркое и другие горячие блюда, а уже в третьих подают конфекты» (217).
Наглядное представление о застолье высокопоставленного чиновника дает описание обеда в доме нарвского коменданта К Н. Зотова – сына знаменитого «князя-папы». Побывавший у него в гостях Юст Юль сообщает в своих записках: «Обед проходил по русскому обычаю следующим образом. Прежде чем мы сели за стол, русские много раз перекрестились и поклонились на образа, висевшие на стене. Стол, накрытый человек на 12, был уставлен кругом блюдами; но блюда стояли возле самых тарелок, так что середина стола оставалась свободною; на этом свободном месте находились уксус, соль, перец и большой стакан с крепким пивом. На блюдах находились лишь холодные соленые яства: ветчина, копченые языки, солонина, селедка, соленья; всё это было очень солоно и сильно приправлено перцем и чесноком. За сею первою переменою последовала другая – из различных жарких. Третья перемена состояла исключительно из супов». Берхгольц также обратил внимание на то, что «холодные кушанья и жаркие по старому русскому обычаю подавались на стол прежде супов». Весьма любопытно описание десерта на обеде у Зотова, состоявшего «из фиников, имбирного варенья, каких-то персидских плодов, соленых огурцов, сырого зеленого гороха в стручках и сырой моркови» (218). Сладости, которыми лакомились гости у Меншикова, были несравненно более изысканными: «на сахаре тертые лимоны», «конфекты венециянския», мускатный сахар, «смоковицы», финики, изюм (219).
Обед в постные дни состоял главным образом из рыбных блюд. Побывавший в гостях у Ф. М. Апраксина датский посланник отметил: «…на столе ничего не было, кроме рыбы: осетрины, стерляди и других неизвестных в Дании пород, воняющих ворванью. Вдобавок все яства были присыпаны перцем и крошеным луком. В числе других кушаний был суп, сваренный из пива, уксуса, мелко накрошенного лука и перца» Несомненно, «суп» был не чем иным, как окрошкой, и конечно же не на пиве, в пост не употреблявшемся, а на квасе. Не привыкший к рыбным деликатесам датчанин обронил удивительное для современного читателя замечание: «Такого плохого обеда мне еще не доводилось есть». Но другие иностранцы оценивали рыбные блюда по достоинству: «…так как стерлядь, белуга и другая вкусная привозимая с Волги рыба очень ценна, то русские на своих пирах подают рыбу как роскошнейшее блюдо. Но всякую рыбу готовят они, во время постов, с ореховым маслом» (220).
В постные дни на стол подавались также пироги с горохом, кислая капуста, свекла с постным маслом, гречневая и овсяная каши, лапша из гороховой муки, оладьи, отварные и жареные грибы, хрен, редька, овсяный кисель, овощи. Петр I всем кашам предпочитал перловую, из крупных зерен ячменя, и стремился увеличить потребление перловой крупы среди жителей Петербурга; однако из-за высокой продажной цены она не пользовалась спросом (221).
Грибы как важная часть рациона столичных жителей привлекали особое внимание иностранных наблюдателей. Вебер отмечал: «…в Петербурге много видов различнейших грибов, и они, имеясь любого желаемого сорта, почитаются за изысканный деликатес. Их поедают многими тысячами… Это очень грубая и неудобоваримая еда, однако, поскольку строгие посты запрещают наиболее здоровую и приятную пищу, то русским приходится удовлетворяться такой, помогая пищеварению водкой в качестве обычной для них желудочной эссенции» (222).
Описание обеда в Адмиралтействе, где 14 июня 1720 года угощали членов польского посольства, дает представление о трапезах русских адмиралов и других командиров флота в служебное время. Анонимный автор из числа посольской свиты рассказывал, что «адмирал Апраксин… подчивал нас одними корабельными блюдами, т. е. копченой говядиной, сосисками, окороками, языками, морскими рыбами, а также маслом, сыром, селедками, вареньем, солеными устрицами, лимонами, сладкими апельсинами, осетрами; было несколько блюд раков, но мелкие. Давали пиво и полпиво холодное, так как здесь всюду много льда; на башне в это время играла музыка» (223).
Манеры приглашенных на званые обеды в дома вельмож долгое время поражали иностранцев. Датский дипломат отметил, что гости во дворце Меншикова «напились как свиньи» и, «предвидя это, князь, по весьма распространенному на русских пирах обычаю, велел устлать полы во всех горницах и залах толстым слоем сена, дабы по уходе пьяных гостей можно было с большим удобством убрать их нечистоты, блевотину и мочу» (224).
Петр I в сопровождении денщиков и слуг нередко посещал дома состоятельных петербуржцев без предупреждения, и на этот случай следовало всегда иметь в запасе немалое количество продовольствия и крепких напитков. Ю. Юль отмечал, что «будучи приглашен к кому-либо или приходя по собственному побуждению, царь обыкновенно сидит до позднего вечера». Расходы петербургских жителей в подобных случаях бывали порой весьма значительны: в апреле 1706 года П. П. Шафиров сообщал в письме Ф. А. Головину, что на два угощения государя и его свиты «изошло ведра четыре» рейнского вина, поскольку «весьма то угодно было». Петр мог явиться не только к ужину, но и к обеду; в таком случае после трапезы он на какое-то время ложился спать, как у себя дома. Например, в «Повседневных записках» Меншикова отмечено, что 5 января 1716 года «после кушанья его величество отчасти изволил покоитца у коменданта Чемесова» (225).
Местом обедов и ужинов царя и его окружения нередко служила гостиница «Австерия» («Остерия») [49], получившая впоследствии название «Австерия четырех фрегатов». Она была построена летом 1703 года в самом центре города – на Троицкой площади у Петровского моста. Это первое в Петербурге предприятие общественного питания завел датчанин из Гамбурга Иоганн Фельтен, ставший вскоре царским кухмейстером. «Австерия» не предназначалась для обслуживания представителей низших сословий; солдаты, матросы, работные люди питались в харчевнях. А на огонек к Фельтену заглядывали чиновники, офицеры, корабельные и парусные мастера, купцы. Многочисленных посетителей привлекали приемлемые цены, широкий выбор приготавливаемых на заказ блюд, высокий уровень обслуживания (226). Здесь продавали вино, водку, пиво, мед, табак и карты. Царь и вельможи часто заходили сюда среди дня выпить рюмку водки и закусить, а по вечерам порой устраивались шумные застолья. Например, 5 ноября 1704 года после закладки Адмиралтейства Петр и его приближенные, как записано в «Походном журнале», «были в Овстерии и веселились» (227). После назначения Фельтена в конце 1704 года царским кухмейстером его заведение стало пользоваться еще большей популярностью. В нем «каждую пятницу при желании сходились знатнейшие господа и офицеры, русские и немцы». За угощение они платили Фельтену по дукату, и «порой в день набиралось 30, 40 и более дукатов» (228).
В этом заведении Петр I часто отмечал новогодние и другие праздники. Так, 2 января 1716 года государь и Меншиков в шесть часов пополудни «отъехали в австерию, где были господа генералы, сенаторы и министры и другие знатные особы и чюжестранных дворов резиденты и посланники. И отчасти веселясь, в 7-м часу зажгли феэрверк, на котором написано было "виктория", в середине ветвь и другие фигуры. По созжении оного пускали довольно ракет и бомб; по окончании оного, паки быв мало в австерии, разъехались по домам» (229). Еженедельные собрания в заведении Фельтена явились в какой-то мере предтечей знаменитых ассамблей, которые начали проводиться в Петербурге с 27 ноября 1718 года.
Испокон веков и до наших дней пиры на Руси не ограничивались простым употреблением пищи. Их важное значение в русской жизни отметил наблюдательный и практичный Юст Юль: «В России пиры и обеды – самые удобные случаи для улаживания дел: тут, за стаканом вина, обсуждаются и решаются все вопросы» (230).
Следует особо остановиться на окружении Петра I, присутствовавшем при его трапезах и пирах. И. Г. Корб уже в 1699 году отметил стремление молодого царя отказаться от старомосковских обычаев русских государей обедать в гордом одиночестве. «Прежние цари, – подчеркивает австрийский дипломат, – строже наблюдали дворские обычаи: они, никого не допуская к своему столу, одни обедали и только для изъявления особенной милости некоторым боярам обыкновенно посылали им некоторые кушанья со своего стола. Но нынешний царь считает немалой обидой для царей лишать их приятности общества с частными людьми. Он говорит: "С какой стати одних только царей подчинять варварскому, бесчеловечному закону: ни с кем не быть в сношениях!" Поэтому, часто отступая от правил гордости, царь обедает не один, но кушает и беседует со своими советниками, с немецкими офицерами, с купцами и даже с посланниками иностранных государей. Это весьма не нравится московитянам, но и они, хотя их лбы частенько-таки невольно морщатся, подражают царю и с умилением в лице беседуют со своими сотоварищами, так как они должны повиноваться царю» (231).
Дороги, экипажи, кони
Главными транспортными магистралями России в петровское время (как, впрочем, и раньше) являлись реки. Их общая протяженность составляла более ста тысяч верст, и почти треть из них были судоходными. При Петре I было начато строительство первых каналов в России, однако при жизни царя-реформатора удалось завершить лишь один его замысел – устройство Вышневолоцкого водного пути, связывавшего Балтийское побережье с бассейном Волги (232).
Петр I предпочитал, насколько возможно, передвигаться по воде. Из Петербурга он доплывал по Финскому заливу на яхтах или шнявах до Нарвы и Дерпта, из Дерпта по Чудскому озеру добирался до Олонецкой верфи. В июне 1705 года государь спустился по Западной Двине от Витебска до Полоцка, в мае 1706-го прошел по реке Великой «от Гдова до Пскова водяным путем на шхутах [50]», а затем проплыл вниз по Днепру от Смоленска до Орши. В конце того же месяца и в начале следующего он добрался по Десне от Чернигова до Киева (233). С 19 по 22 октября 1707 года Петр проделал путь от Великих Лук через Новгород до Старой Ладоги «рекою Ловотью (Ловатью. – В.Н.), водяным путем» (234). От Воронежа царь многократно совершал плавания до Азова. Перемещение по водным путям осуществлялось гораздо быстрее, чем посуху, по привычному российскому бездорожью. Кроме того, такие путешествия соответствовали пристрастию государя к воде.
Да и сухопутные дороги были связаны с водными путями. В зимнее время передвижение на санях зачастую осуществлялось по руслу замерзших рек.
Транспортным центром была Москва, из которой начиналось несколько больших трактов: на Ярославль, Вологду и Холмогоры к Архангельску (ее ответвление шло от Ярославля на восток через Соль Вычегодскую на Урал и в Сибирь); на Владимир и Нижний Новгород вдоль Волги к Астрахани; на Коломну к Рязани; на Серпухов, Тулу и Курск, далее на юг; на Калугу к Киеву; на Волоколамск и Ржев; на Можайск и Вязьму к Смоленску; на Тверь к Новгороду; на Дмитров и Кашин к Устюжне (235).
С первого десятилетия XVIII века особое значение приобрела дорога из Москвы через Тверь и Новгород в Петербург. В петровское царствование она интенсивно строилась и постоянно ремонтировалась. Прямого пути от Новгорода к Петербургу не было, поэтому в конце 1705 года Петр I направил для геодезических измерений и проектирования дороги преподавателей Навигацкой школы шотландских математиков А. Д. Фарварсона и С. Гвина. Через несколько лет они проложили на карте совершенно прямую трассу между старой и новой столицами. По замыслу Петра I Московско-Петербургская дорога должна была иметь твердое покрытие в виде сплошного бревенчатого настила, на который укладывалась глина. Однако от частых дождей дорожный грунт то и дело превращался в непролазную грязь (236).
На дальние расстояния обычно ездили на ямских лошадях. X. Ф. Вебер описал свои впечатления от ямщиков: «Возящие проезжих почтальоны или извозчики носят… крестьянскую одежду и вместо почтового рожка очень звонко свищут губами; этим же свистом подгоняют они лошадей и поворачивают с дороги встречных проезжих. Приезжая на следующую станцию, они поднимают громкий крик перед станционным домом и кричат: "давай!", т. е. давай лошадей, до тех пор, пока не запрягут новых лошадей и не поедут далее. Они гонят лошадей всегда в галоп, чуть только позволяет дорога, хотя седоки и не требуют этого» (237).
По данным Юста Юля, в конце 1709 года на дороге от Петербурга до Москвы при расстоянии в 742 версты было девять ямских станций. Наибольшее расстояние (170 верст) составлял путь от столицы до Новгорода, самым коротким (20 верст) был перегон от Новгорода до Бронницы (238). Шестью годами позже Вебер насчитал на этой дороге уже 24 почтовые станции на расстоянии четырех-пяти миль друг от друга (немецкая миля была равна семи верстам). Дипломат отметил: «…на каждой станции стоят 20 и более почтовых лошадей, содержимых особыми, приставленными для того крестьянами, кои, получая ничтожные почтовые деньги с проезжающих, освобождаются от всех других повинностей и служат только для провоза проезжающих. Такое удобство и дешевизна езды очень облегчают двор и купцов в их путешествиях между Петербургом, Москвою и Архангельском, которые иначе совершались бы с великими трудностями» (239).
В официальных документах петровского времени упоминаются ямские и почтовые лошади. Голштинский камер-юнкер Берхгольц поясняет разницу: «…с первыми нужно ехать три и четыре станции, тогда как последние меняются на каждой станции». Он же приводит расценки за услуги ямщиков: от Петербурга до Новгорода положено было платить «по полкопейки за каждую лошадь и каждую версту, от Новгорода же до Москвы только по три копейки за каждые 10 верст, следовательно почти вдвое менее». При переезде двора герцога Карла Фридриха из Петербурга в Москву расходы на прогоны составили 75 рублей. За день Берхгольц и его спутники, обремененные обозом, проезжали по 35 – 40 верст и потратили на дорогу 19 дней; в то же время герцог, ехавший налегке, добрался до Москвы за четыре дня (240).
Петр I передвигался с невероятной быстротой, зачастую продолжая путь ночью, поэтому мог добраться от Петербурга до Москвы за трое суток. Таким же образом он преодолевал и гораздо большие расстояния. В конце декабря 1705 года английский посланник Ч. Уитворт отметил, что Петр проделал путь от Гродно до Москвы за пять дней, проехав не менее 800 миль. Дипломат поясняет: «…он день и ночь ехал в санях, лежа (по здешнему обычаю), менял лошадей через каждые пять миль, без малейшей потери времени, и затем гнал от станции до станции с возможной скоростью» (241). Уитворт всё же несколько преувеличил скорость передвижения царя; согласно Походному журналу, тот ехал от Гродно до Москвы 12 дней (242).
Петр любил безостановочную езду, но в то же время имел все условия для отдыха в случае остановок. Юль отмечает, что «по всей России на ямах и между ямами, где по дальности расстояния приходится кормить лошадей, царь выстроил для себя особенные дома. В каждом он содержит дворецкого, обязанного смотреть за порядком в доме, а также иметь в погребе пиво и небольшое количество съестных припасов, чтобы царю во время быстрых переездов его по России, предпринимаемых для неожиданной ревизии губернаторов и комендантов, было что есть и что пить и где приютиться» (243).
Датский посланник обратил внимание на примечательный факт, касающийся передвижений Петра I по стране. «Любопытно, – пишет он, – что, путешествуя по России, царь ввиду малочисленности своей свиты ездит не в качестве царя, а в качестве генерал-лейтенанта и на этот конец берет у князя Меншикова особую подорожную. Так как по всей России приказания князя исполняются наравне с царскими, то с этою подорожной царь едет и день и ночь без малейшей задержки» (244).
Основными средствами передвижения в зимнее время являлись сани и возки. У выездных саней (пошевней [51]) полозья загибались спереди так, что представляли собой полукруг. Кузов имел высокие заднюю и переднюю части и пониженную среднюю, в нем устанавливались две скамейки – на одной размещались пассажиры, на другой – ездовой. Для дальних поездок использовались небольшие сани с полузакрытой задней частью кузова; пассажир в них лежал, прикрываясь сверху меховой или войлочной полостью (245). Голландский путешественник Корнелий де Бруин описывает русское средство передвижения: «Сани эти делаются так, что один человек может удобно улечься в них. Нужно иметь также свою постель, шубы и добрые одеяла, чтобы защититься от сильного холода. Задок саней покрывают рогожей, а всё остальное обивают сукном или кожею. Сверху сани покрываются мехом или кожей, подбитой сукном, или одной кожей для защиты себя от дождя и снега». Юст Юль на себе испытал комфорт этого транспортного средства: «…в санях, несмотря ни на какой холод и мороз, мне лежалось так хорошо и тепло, что когда по моему приказанию их закрывали со всех сторон, я скорее мог пожаловаться на жару, чем на холод. У каждого из моих людей были тоже свои отдельные сани, снабженные, как следует, покрывалами и полостями, так что нельзя было путешествовать удобнее» (246).
Датский дипломат приводит короткую зарисовку отбытия царя из Нарвы в Петербург 21 ноября (2 декабря) 1709 года: «В 10 часов вечера царь выехал из Нарвы при орудийном салюте с вала… Лица царской свиты, все пьяные, улеглись каждый в свои сани. За городом, при громе орудий, лошади их помчались по разным направлениям, одни туда, другие сюда» (247).
Для переездов на большие расстояния в зимнее время использовался возок, представлявший собой стоящую на полозьях «комнатку» с маленькими окошечками и широкими дверями, обогревавшуюся жаровнями. Внутри возков размещались стол и лавки (248). 8 декабря 1721 года императрица Екатерина Алексеевна подарила такой экипаж герцогу Карлу Фридриху. Берхгольц отмечает, что это были «большие двухместные, превосходно сделанные дорожные сани, очень удобные для путешествия и устроенные как карета (с окнами по обеим сторонам), так что могут вместить в себя и хороший запас съестного. Но здешних маленьких почтовых лошадей для них нужно не менее шести или восьми» (249).
Летом в России, как и на Западе, представители высшего сословия ездили в основном в каретах. Разновидностью этого типа экипажей являлись колымаги – большие двух– и четырехместные кареты с кузовом прямоугольной формы. У карет первой четверти XVIII века кузов обычно суживался книзу, передняя и задняя стенки были изогнуты в нижней части. В верхней части передней и боковых стенок и дверей были окна с зеркальными стеклами. Задние колеса были больше передних. Так выглядела, например, четырехместная карета, принадлежавшая герцогу Гольштейн-Готторпскому (250). В петровское время существовали также полукаретья – экипажи с раздвижным кузовом, что было удобно для путешествий в летнюю жару.
У Петра I имелась коляска облегченной конструкции с откидным верхом. Подвеска кузова в ней была осуществлена с помощью широких и толстых ремней, заменявших рессоры (251). В начале XVIII века коленчатые рессоры (пружины) появились в конструкции западноевропейских и отечественных карет, однако для такого легкого экипажа они не требовались. Но любимым средством передвижения Петра в летнее время являлся легкий двухколесный экипаж. Г. Ф. Бассевич отмечал, что царь обычно «ездил по городу в одноколке, имея одного денщика рядом с собою, другого следовавшего позади верхом» (252). Я. Я. Штелин также утверждал, что Петр «никогда не ездил в карете или в коляске, но всегда в одноколке, в которой по нужде могли сидеть двое. Во время его царствования находились в придворной конюшне только две четвероместные кареты для императрицы и императорской фамилии да еще у князя Меншикова две старинные парадные кареты» (253). Ф. В. Берхгольц писал: «…бедный император не имеет своего собственного цуга; он всегда ездит на плохой паре и в кабриолете под стать лошадям, в каком даже не всякий из здешних граждан решился бы ехать». Однако современная исследовательница О. Г. Агеева утверждает, что у Петра имелся собственный выезд, которым еще с 1б90-х годов ведал глава его конюшни С. Алабердеев (254).
Действительно, в источниках отмечено несколько торжественных случаев, когда государь выезжал в роскошных экипажах. Например, во время свадьбы Ивана Федоровича Головина и Анны Борисовны Шереметевой 16(28) декабря 1702 года Петр ехал «в отличной голландской карете, с шестернею лошадей, серых с яблоками» (255). Однако подобные эпизоды происходили крайне редко, обычно же царь предпочитал легкие и простые средства передвижения. Этим он отличался от своих соратников и других представителей знати, для которых великолепие выезда являлось вопросом престижа. Юль отмечал, что «в Москве люди, которым дозволяет состояние, всегда ездят шестериком: впереди едут верхом 4 – 6 человек прислуги». По его словам, то же происходило и в Петербурге: «всякий, кому позволяют средства, ездит здесь шестериком. Ездит так не только генерал-адмирал (Ф. М. Апраксин. – В.Н.), но и генерал-майор Брюс, и обер– и унтер-коменданты, притом по самому городу, когда иной раз им не приходится проехать и ста шагов» (256).
Барон Генрих фон Гюйссен составил описание торжественного въезда в Москву Б. П. Шереметева в ноябре 1708 года после взятия Яма и Копорья: «Вначале генерал-фельдмаршал Шереметев в санях пространных с дышлом о шти (шести. – В.Н.) возниках (то есть упряжных лошадях. – В.Н.) в бронях немецких, на которых шоры зело пребогатыя и изрядныя были. Перед ним ехали в убранстве французском дворовые его походные люди 30 человек и конюшей его верхами. И прежде тех дворовых людей ведены его ж, фельдмаршала, три лошади простыя (без всадников. – В.Н.) во всём конском немецком изрядном наряде, а за теми простыми лошадьми его ж, фельдмаршала, сани походныя везены шестернею» (257).
Каждый петровский вельможа имел несколько экипажей на все случаи жизни. Так, в 1718 году в «анбаре» адмиралтейского советника А. В. Кикина на Коростынском погосте Новгородского уезда стояли «каляска отметная на дрогах, обита кожею, с покрышкою, гвозди железные, а в ней подбито стамедом васильковым; другая каляска на дрогах отметная, крыта кожею, в ней подбито пестрою крашениною, бес калес, назади кожа прошибина; третья каляска на дрогах лубеная, верх холстиной черной, в ней подбито крашениною пестрою; четвертая каляска на дрогах лубеная, верх парусной черной, в ней подбито пестрою крашениною». На дворе барона П. П. Шафирова в Ломовской слободе Пензенского уезда в 1723 году имелись «4 коляски с крышками, кожи черные, волчки крыты кожами, что ездят зимою; однаколка, обита сукном на ремнях; 7 телег, ящиков с колесы» (258).
Разумеется, для выездов использовались самые красивые кони. Выше речь уже шла о том, как гордился своими чубарыми, чалыми и гнедыми фельдмаршал Б. П. Шереметев. Секретарь австрийского посольства И. Г. Корб отмечал: «…у московитян в цене лошади большие и видные. Они охотники до арабских и альтенбургских лошадей [52]; но и Московия производит лошадей особенно замечательных по их быстроте; лошадей этих называют бахматами [53]» (259).
Однако в то время даже знатным людям приходилось много ездить верхом, особенно на войне. По свидетельству Берхгольца, Петр I предпочитал ездить на маленьких верховых лошадях, на которых было удобнее садиться (260). Но любимая лошадь государя по кличке Лизетт [54]была персидской породы, высоко ценившейся в России. Петр увидел ее в военном лагере под Ригой в ноябре 1709 года и тут же приобрел, отдав за нее 100 голландских червонцев и свою прежнюю лошадь. С той поры он редко расставался с Лизетт, которая оказалась на редкость выносливой – могла пробежать в день до полутораста верст «без всякого при том себе вреда и надсады». Лошадь носила своего венценосного всадника во время Полтавской битвы (1709) и в Прутском походе (1711). Лизетт, преданно любившая его, иногда, соскучившись, убегала из стойла и сама разыскивала своего хозяина. Если же откладывалась намеченная поездка и лошадь, уже оседланную, уводили обратно в конюшню, она, «как бы будучи тем обижена, потупляла вниз голову и казалась печальною до такой степени, что слезы из глаз ея выкатывались».
Государь приказал поставить любимицу на пожизненное довольствие, а после ее смерти сделать из нее чучело, которое выставлялось в Кунсткамере в полном убранстве: под седлом и чепраком из темно-зеленого бархата с золотой вышивкой и бахромой, с низко висящими, приспособленными к росту венценосного всадника, стременами. Ныне чучело Лизетт находится в Санкт-Петербургском зоологическом музее Российской академии наук. (см.илл.)
Глава десятая
«Смехом искореняя пороки»
Юмор Петра I
Шутки царя, особенно в его молодом возрасте, отличались грубостью и содержали издевательства над достоинством близких ему людей. В октябре 1698 года на обеде в австрийском посольстве государь предпринял нападение на Федора Алексеевича Головина, который испытывал «врожденное отвращение к салату и уксусу». По свидетельству секретаря австрийского посольства И. Г. Корба, полковник Иван Чемберс «по царскому повелению схватил сего боярина и крепко держал, а царь наполнял в это время ноздри и рот Головина салатом и уксусом, пока тот не закашлялся так, что у него бросилась из носу кровь» (261).
Своеобразным проявлением юмора Петра I были так называемые потешные пожары. Обычно их устраивали по инициативе царя «веселия ради» в первый и последний дни апреля. 30 апреля 1718 года был организован «обманный пожар» на Конюшенном дворе (262). Ровно пятью годами позже свидетелем подобного развлечения стал голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, отметивший в своем дневнике: «После полуночи мы увидели позади императорского сада большое пламя и в то же время услышали колокольный звон, бой барабанов и усердную трескотню, производимую на улицах трещотками ночных сторожей. Почти весь город пришел в движение, и вдруг оказалось, что огонь этот развели нарочно, чтоб подшутить над многими тысячами жителей по случаю последнего дня апреля. Когда они сбежались на мнимый пожар, вокруг огня уже расставлены были часовые, которым велено было говорить всем, что это последнее апреля. Но так как никто не хотел показать другим, что попался на удочку, то толпы спешили за толпами, желая взглянуть на опустошительное действие огня. Всё это немало потешало императора. Он, говорят, ежегодно об эту пору придумывает что-нибудь подобное» (263).
Забавы государя зачастую были сопряжены с риском для здоровья и жизни окружавших его лиц. Так, в январе 1710 года Петр устроил катания по Немецкой слободе, ярко описанные Юстом Юлем: «Он велел привязать друг к другу 50 с лишком не запряженных саней и лишь в передние, в которых сидел сам, приказал запрячь десять лошадей; в остальных санях разместились важнейшие русские сановники. Забавно было видеть, как, огибая угловые дома, сани раскатывались и то тот, то другой седок опрокидывался. Едва успеют подобрать упавших, как у следующего углового дома опять вывалятся человек десять, двенадцать, а то и больше» (264).
Царь веселился, наблюдая свары приближенных. 31 августа 1710 года во время большого обеда в доме князя Меншикова глава Всешутейшего собора Никита Моисеевич Зотов, сидевший на почетном месте, попросил Петра подарить ему в Ингерманландии маленькое поместье, на что тот изъявил согласие. Но Меншиков резко спросил у Зотова, как ему пришло в голову выпрашивать у государя поместье в герцогстве, принадлежащем ему, светлейшему князю. Свидетель происшествия Юст Юль рассказывает: «…в ответ на это патриарх, рассердившись, крупно выругал князя, сказав, что он обкрадывает своего господина, как вор, пользуется своею долею во всех его доходах и все же остается обманщиком; что он завидует лицам, которым царь оказывает какую-либо милость, хотя нередко лица эти являются более старыми и верными слугами царя, чем он сам». Разошедшийся старик начал приводить примеры двоедушия, мошенничества, высокомерия, алчности и других пороков светлейшего. Петр делал вид, что желает помирить ссорящихся и прекратить их перебранку, но в действительности ситуация явно забавляла его и доставляла удовольствие. На следующий день во время плавания по Неве из Шлиссельбурга в Петербург опомнившийся Зотов выразил царю свои опасения, как бы всесильный Меншиков не отомстил ему. Петр ответил: «Не бойся!»