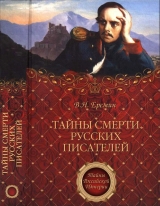
Текст книги "Тайны смерти русских писателей"
Автор книги: Виктор Еремин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
Вечером мы с Вл. Мих. Латкиным[290]290
Владимир Михайлович Латкин – горный инженер, институтский приятель В. М. Гаршина, родственник Н. М. Гаршиной.
[Закрыть] перевезли его в больницу: там в часовне, мимо которой его проносили, совершалась, вероятно, всенощная, так как была суббота. Всев. Мих. перекрестился. Вероятно, и у Бога он просил прощения. Всев. Мих. всегда носил крест на шее и высоко чтил Христа.
В больнице мне разрешили сидеть с больным с утра до ночи, но только не оставаться на ночь.
Когда на другое утро я приехала в больницу, я встретила ходивших по коридору доктора Фрея и Ал. Як. Герда. Они сказали мне, что Вс. Мих. спит. Я прошла к нему в палату и по всем признакам увидала, что это не был простой сон, а было коматозное состояние, то есть Вс. Мих. был без сознания, в чем убедились и Герд, и Фрей. Сестра милосердия сказала мне, что Всев. Мих. заснул во втором часу ночи. И вот этот обыкновенный сон перешел в коматозное состояние, которое закончилось на пятый день смертью».
Всеволод Михайлович Гаршин умер 24 марта 1888 г. Похоронили его на Волновом кладбище Петербурга по христианскому обряду. В последний путь писателя провожала многотысячная толпа. До самой могилы гроб несли на руках.
10
Гаршин был слишком неординарной личностью в общественной жизни России 1880-х гг., чтобы его трагический уход не спровоцировал интеллигентскую истерику. Для человека XXI в. подобные вакханалии привычны – чуть помрет кто-то из тех, кто хоть каким-нибудь краем засветился на экране или сцене, а то и без этого, как в СМИ начинается кампания по прославлению «героя» и публичному разбору причин его кончины. И непременно покойный оказывается гением, мучеником эпохи, и смерть его покрыта великой тайной. А истоки подобного следует искать во второй половине XIX в., когда набирала силу молодая российская интеллигенция, всеми силами стремившаяся сравняться в своей общественной значимости с аристократией.
Всеволод Михайлович оказался одной из первых жертв такой кампанейщины. Особенно широко в прессе обсуждались причины его самоубийства. Первоначальное мнение «общественности» было однозначное: гений стал жертвой наследственной болезни и страха перед грядущим сумасшествием. В связи с этим друзья и родственники, а в большей мере сторонние люди, получившие возможность показать себя публике, занялись шумным прославлением и увековечиванием памяти писателя.
Действовали они столь напористо и навязчиво, что в конце концов не выдержали люди, глубоко уважавшие Гаршина как человека и любившие его творчество, – великие русские писатели-богоискатели Николай Семенович Лесков и Лев Николаевич Толстой. Оба отказались участвовать в сборниках, посвященных памяти В. М. Гаршина (таких вышло целых два). Причины отказа они объяснили письменно и в мягкой форме, каждый по-своему. Но когда дело зашло слишком далеко, резкий Лесков направил разъяснительное письмо издателю Алексею Сергеевичу Суворину (1834–1912). Письмо это настолько актуально для России наших дней, что не процитировать его просто невозможно.
«…у Вас печатают письмо о «сборнике Гаршина», с назначением его «на доброе дело»… Это новость. Третьего дня я дал письменный ответ, что я отказываюсь от участия, ибо я «не сочувствую культу мертвых и не дам моего труда на камень, пока слышу просьбы живых о хлебе». Я думаю, что этим оскорбились, хотя письмо мое было очень вежливое и кончалось готовностью участвовать, если будут собирать не на камень. – Сегодня читаю в «Нов. вр.» новость… Какое, однако, «доброе дело» на чужой счет?! Какие все это глупости! Как бы хотелось написать об этих товарищеских кривляньях и о «культе мертвых». Дал бы я им занозу прямо через бесстыжие очи в разжиженные мозги, болтающиеся в их сентиментально-глупых башках. Первое «доброе дело» – не беспокоить никого без крайней надобности. У Гаршина не осталось сирот, а одна вдова 27 лет с медицинским дипломом… Кому это будут помогать? или просто хочется суетиться? – Чем и когда Г. был обижен? Он не нес никакой несправедливости, а прожил свою короткую жизнь в «любимчиках» – с 3000 рублей жалованья в о.ж. дорог и 200 р. гонорара с самого начала. Чего еще было нужно? – «Литературный фонд», смею сказать, есть учреждение фальшивое и, может быть, вредное. Наши старцы бесприютны, наши сироты без опекунов. Это бы надо делать. Дом бы надо купить да приютить бескровных, а к сиротам назначить кураторов и иметь сведения о том, что делают с сиротками. Вон Лиду Пальма обирают ежемесячно на 25 рублей и Европеус одевает ее в лохмотки, которые где-нибудь выпросит, а мать Лиды, по удачному выражению одного горячего человека, представляет «… мать» и 25 рублей Лиды дает пропивать своему… сыщику. Отчего нет кураторов при сиротах? Отчего не разбить это пошлое учреждение? Вот и собирайте! А пойдет все свинье под хвост»[291]291
Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах. Т. 11. М.: ГИХЛ, 1957.
[Закрыть].
Другими словами, хочешь почтить память хорошего человека, не ори о своей любви к нему на каждом углу, не причитай и не рыдай, не взывай и не клянчи денег на увековечение, а тихо, без шума сделай доброе дело в память о нем и останься при этом безымянным – не пошло скалящимся в щедрой улыбке спонсором. За доброе дело ни похвальбы, ни вознаграждения не требуется, а если человек того достоин, память о нем и без твоих тревог и забот сохранится. В таких делах все свершается само собой, без человеческой воли.
Диссонансом общему хору исследователей причин самоубийства Гаршина стало выступление писателя Глеба Ивановича Успенского (1843–1902), которое заложило основу для более чем столетнего представления о Гаршине – страдальце за человечество, павшем под гнетом ига царского самодержавия.
Свою концепцию гибели Гаршина Глеб Иванович построил на публикациях известного популяризатора научных знаний в России Лазаря Константиновича Попова (1851—?), выступавшего под псевдонимом Эльпе. Рассуждения писателя весьма любопытны и опять же актуальны для России XXI в.
«Теперь обратимся к выяснению вопроса о том, какие именно причины могут довести нормального, физически здорового человека до такого невероятного психического состояния?
Причин, перечисленных г. Эльпе в его научном обозрении, указано великое множество – от неумеренного употребления опия до чуткости к страху и т. д. Но мы здесь их перечислять не будем, а остановимся только на одной, имеющей для нас самое существенное значение.
«Когда ребенок, – говорит г. Эльпе, – не знает с детства себе другой клички, кроме злого, гадкого, когда отовсюду он слышит себе предсказания: <из него выйдет разбойник>, <быть ему в каторге> и т. д., то нередко он и действительно становится таковым: достаточно ничтожного повода, чтобы внушенная идея проложила себе путь в жизни. Точно так же бывает и тогда, когда ребенку внушается недоверие к своим силам, способностям, когда это внушение поддерживается в нем всем ходом его воспитания; в душе ребенка зарождается сомнение в своих силах; ему кажется, что он действительно <не может> и не способен, и затем является сознание бессилия, переходящее в слабость действия». Указав, таким образом, значение внешних влияний на отдельную личность, г. Эльпе говорит и о значении таких же внешних влияний и в психическом настроении общества и, следовательно, каждого живущего в этом обществе человека. «Когда обществу устами его авторитетнейших представителей внушается, на разные варианты, но всегда настойчиво, мысль о его слабости, беспомощности; когда печатным словом и иными способами с особенным усердием бракуется всякое начинание своего, родного; с особенным удовольствием подчеркивается и размазывается та или другая неудача; поднимается на смех малейшая попытка к самостоятельности; когда атмосфера, в которой живет и дышит общество, насыщается недоверием к своим силам; когда только и слышится: куда нам, где нам; тогда это внушаемое недоверие исподволь переходит в действительное бессилие и постепенно понижает энергию общественной жизни – деятельности, приучает общество к мысли, что оно действительно беспомощно, что оно не может жить без помочей». Оставляя в стороне особенность и качества тех внушений, которые отмечает г. Эльпе, и взяв из вышеприведенного отрывка только то, что объясняет факт нравственного общественного бессилия, мы увидим, что вообще тон общественной жизни, влияния, преобладающие в нем, однообразие и, главное, настойчивость этих влияний, разнообразие средств, которыми они проводятся в общество, и непрестанное однообразие в сущности этих влияний, – все это может развить в человеке, живущем среди этих влияний, точно такие же симптомы психического недуга, точно так же парализовать волю, привести это расстройство к тем самым последствиям, к которым приводят и другие, перечисляемые г. Эльпе, причины недуга: опиум, страх и т. д. Все эти выводы г. Эльпе делает, ссылаясь на авторитетные европейской науке имена, и мы, простые смертные, не можем сделать ничего иного, как принять их за выводы, достоверные и для нас поучительные. Попробуем же теперь, пересмотрев факты жизни и литературной деятельности В. М., отметить и в том и в другом значение внешних общественных настроений и веяний, которым он, как человек известного времени, родившийся и живший в известные годы, невольно должен был, как и все его сверстники, подчиняться и покоряться. Не значат ли что-нибудь эти веяния и внешние влияния известного времени в развитии в нем того недуга, который довел его до возможности поступать совершенно противоположно желательному?..
… В двух маленьких книжках Гаршин пережил все окружающее нас зло, пережил до последней мелочи, и, приняв в соображение размеры этого пережитого и чрезмерную впечатлительность нервов Гаршина, читатель не может не видеть, что жить и переживать то же самое, и писать на те же темы, то есть, как говорится, «разрабатывать» те же самые ужасы жизни, которые уже пережиты дотла, было решительно не по натуре, не по нервам Гаршина. Если бы какой-нибудь «прискорбный случай» удалил его из привычной обстановки жизни куда-нибудь в глушь, поставил бы его в условия совершенно иного строя жизни, отодвинул бы от нашего века на два-три столетия, – несомненно, обновление мыслей новым материалом жизни оживило бы духовную деятельность Гаршина. Но помимо того, что Гаршин вырос в Петербурге, то есть в самом источнике влияний, которым должно подчиняться общество, он должен был всю свою жизнь испытывать ту неумолимую настойчивость в неразрешимости всех тех жгучих вопросов, которые он уже пережил. Жизнь не только не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла к чему-нибудь… да, хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, как бы окаменела в неподвижности, ожесточилась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» – и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно притом по больному, и непременно по такому месту, которому надобно «зажить», поправиться, отдохнуть от страдания; удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя. Десятками лет идет какое-то беспрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкивание человека от малейшей попытки «поступить» – вот что дала Гаршину жизнь после того, как он уже жгуче перестрадал ее горе. Немудрено после этого понять, что, загипнотизированный окаменевшей на десятки лет действительностью, подавленный неподвижностью грозных вопросов жизни, он мог, при обилии мыслей о своих к этой действительности обязанностях, потерять даже тень хотения жить во имя желательного и пришел к возможности, думая об одном, делать совершенно ему противоположное»[292]292
Успенский Г. И. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1957.
[Закрыть].
Какое потрясающее противостояние обычного человеческого понимания жизни умным человеком в письме Н. С. Лескова и колерованной интеллигентщины в статье Г. И. Успенского! Проще и ярче примера и не придумать.
Но вот случилась революция, и рассуждения Успенского получили соответствующую социальную окраску, сделав Всеволода Михайловича великомучеником самодержавного строя. «Было бы неверно отрицать предрасположение Гаршина к нервному заболеванию, его острую восприимчивость к впечатлениям внешней жизни. Но какова была эта жизнь, которую он воспринимал своими обнаженными, болезненными, тонко чувствующими нервами?
Гаршин жил и творил в один из самых тяжелых периодов русской истории. На протяжении всей жизни писателя нарастал конфликт между его стремлением к свободе, добру и справедливости и жестокой русской действительностью эпохи Победоносцева.
Болезнь Гаршина питалась впечатлениями внешней жизни. Оттуда, из жизни, шли толчки, обострявшие ее.
Бесполезная борьба группы террористов с самодержавием, выстрел Млодецкого, попытка заступничества за осужденного к смерти, лицемерие и обман Лорис-Меликова – вот цепь событий, выбившая Гаршина из «нормальной» колеи жизни.
Гаршин был окружен славой, любовью друзей и признанием читателей. Но чего стоит слава, если уход с мелкой чиновничьей должности грозит ему полным материальным крахом и нищетой! Слава приносила Гаршину и врагов и завистников. Визиты литературных паразитов отнимали у него остатки сил и здоровья. Слава на каждом шагу оборачивалась к Гаршину своей теневой стороной.
Однако ни одно из гнетущих обстоятельств его быта не загораживало от него окружающей жизни, неисчислимых страданий людей его родины и всего человечества той эпохи…
Политическая реакция в стране укрепилась. Все прогрессивное, все честное бралось мракобесами под политическое сомнение и изгонялось. Цензура свирепствовала. Подлость, угодничество, обывательщина расцветали пышным цветом.
Попытки, как десять лет назад, броситься в гущу политической борьбы с горячими словами любви и всепрощения казались Гаршину сейчас уже наивными и бесполезными.
Гаршин не понимал той громадной освободительной роли, которую должен был сыграть в русской жизни нарождающийся пролетариат. Гаршин был современником знаменитой морозовской стачки 1885 года, но не оценил ее настоящего значения.
Великий народ собирал силы для новой, настоящей борьбы за свое счастье и освобождение. Больной Гаршин этого не видел и не понимал. Он не дождался эпохи, когда молодой рабочий класс выковал в кровопролитных боях свою большевистскую партию, своих гениальных вождей и под их руководством начал штурмовать столь могучее, казалось, здание самодержавия.
«Муза писателя не находила в окружающей его действительности ничего радостного, ничего положительного», – обычно заключают критики гаршинского творчества. Гаршин и не хотел искать в этой действительности ничего положительного, он не мог и не хотел мириться с гнусностями современного ему реакционного режима, он не верил, что в этой кромешной тьме может сиять луч света. Вот в чем корни пресловутого «пессимизма» Гаршина, который так охотно выдвигался на первый план многими критиками. Пессимизм Гаршина – это слезы скованного мечтателя над судьбой любимой родины. Его пессимизм выражал нежелание благородного писателя мириться с гнусностями современного ему общества; это был своеобразный социальный протест. Пессимизм Гаршина часто непосредственно противопоставлялся казенному «оптимизму» представителей реакционного буржуазно-либерального лагеря, призывавших к апологетике мрачной действительности…
Царское правительство боялось произведений Гаршина и старалось спрятать их от народа. Недавно найденные документы из архива царской цензуры показывают, как свирепо преследовало самодержавное правительство гаршинские рассказы при жизни и после смерти писателя.
Цензурный комитет считал, что гаршинские рассказы могут нанести «ущерб значению как царской власти, так и церковной иерархии и питать мысли, клонящиеся к унижению их достоинства».
Целый поток грозных циркуляров предписывал «запретить» гаршинские рассказы, «не допускать их в школьные библиотеки и народные читальни». Царский цензор Кочетов писал о рассказе «Четыре дня», что «…это тенденциозный и вредный рассказ не должен иметь доступа не только в школы, но и в руки народа»; по его мнению, этот рассказ нужно было изъять из обращения и уничтожить.
Запрещая и преследуя гаршинские рассказы, царские цензоры (например, Шемякин) исходили из того, что «все эти сказки и рассказы написаны весьма талантливо, языком живым и образным», – это, по-видимому, особенно подстегивало в стремлении спрятать их от народа.
Лишь сейчас, в Советской стране, произведения Гаршина стали доступны народу. Печаль и безысходность в произведениях Гаршина легко преодолеваются советским читателем, живущим в эпоху, когда вопросы, мучившие Гаршина, давно разрешены, когда с угнетением, насилием и эксплуатацией в нашей стране покончено навсегда, когда сам народ строит свою счастливую, радостную жизнь»[293]293
Беляев Н. З. Гаршин. М.: Молодая гвардия, 1938.
[Закрыть].
Только не подумайте, что такой длинной цитатой я вознамерился обличить советских литературных критиков. Не дождетесь! Простота и наивность данных рассуждений есть дань времени, свойственному постреволюционному периоду в любом обществе. В целом сказанное столь мило и забавно, что просто нет сил удержаться и не процитировать идеи, на которые теперь с остервенением цепных псов кидаются толпы современных историков и литературоведов. Правда, их трактовка мало чем отличается от первоначальной, общепризнанной в конце 1880-х гг.
11
Для любого объективно настроенного читателя ясно, что Всеволод Михайлович пал жертвой. Но чьей?
Легче всего свести причины его самоубийства к совокупности событий, из которых выделяются три наиболее существенных – острая депрессивная фаза циклического психоза и страх перед окончательным безумием, на которые наложился многомесячный домашний скандал. Но все это причины возможности самоубийства! Болезнь и страх, своевременно выявленные, лечатся сейчас и успешно лечились в XIX в. От домашнего скандала писатель мог быть огражден, и не только домашними.
Был ли кто-либо повинен в состоявшемся конкретном самоубийстве? Да, был. Главным и единственным виновником гибели Гаршина определенно является доктор А. Я. Фрей! Он досконально знал болезнь писателя, наблюдал больного с 1873 г., то есть в течение пятнадцати лет, являлся специалистом в области таких заболеваний, накануне трагедии принимал Гаршина в своей специализированной именно в данной области медицины лечебнице, по свидетельству жены писателя, установил точный диагноз и знал о возможных последствиях, но отказал Всеволоду Михайловичу в госпитализации по причине беспокойства за коммерческое будущее своего предприятия – вдруг Гаршин покончил бы с собой не где-то, а в его частной клинике. Это было явное профессиональное преступление в интересах сохранения престижа частного заведения.
Всеволод Михайлович Гаршин стал одной из наиболее известных в истории жертв коммерческой медицины, для которой на первом месте всегда и безраздельно стоит прибыль, а все прочие аспекты вторичны, в том числе и профессиональная этика, личная нравственность врача и жизнь и здоровье больного.
Лягушки житейского болота сожрали соловья-человеколюба!









