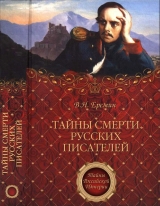
Текст книги "Тайны смерти русских писателей"
Автор книги: Виктор Еремин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Как бы там ни было, но один из наиболее авторитетных в широкой публике лермонтоведов второй половины XX столетия Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990) утверждал, что последняя дуэль Лермонтова – результат политического заговора, инспирированного царем при участии Бенкендорфа, жандармского полковника Кушинникова и пятигорской генеральши Мерлини – тайного агента III Отделения. Эта точка зрения неоднократно опровергалась уже в наше время.
Диссонансом версии Андроникова звучат слова профессора Дерптского университета П. А. Висковатого о том, что Лермонтов в свой последний приезд в Пятигорск быстро довел ситуацию до состояния, когда «некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный им из терпения, проучит ядовитую гадину. (Выражение, которым клеймили поэта многие.)»[225]225
Висковатый П. Л. Михаил Юрьевич Лермонтов. М.: Захаров, 2004. Далее цитируется по этому изданию.
[Закрыть].
Доподлинно известно, что в 1841 г. кто-то действительно очень хотел втянуть Михаила Юрьевича в дуэль. Кто эти люди? История о том умалчивает. Но сохранились точные свидетельства нескольких современников, что первоначально на дуэль с поэтом подстрекали прапорщика Семена Дмитриевича Лисаневича (1822–1877), которого Лермонтов не раз высмеивал в обществе. Как записал со слов очевидцев П. А. Висковатый, «к Лисаневичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль – проучить. «Что вы, – возражал Лисаневич, – чтобы у меня поднялась рука на такого человека!»». Некоторые историки предполагают, будто подстрекательством занималась шестнадцатилетняя Н. П. Верзилина, за которой ухаживал Лисаневич и предположительно ухаживал Н. С. Мартынов.
6. В советское время, начиная с 1920-х гг., лермонтоведы начали разрабатывать версию, будто устранить поэта решил сам император. Якобы именно с этой целью по его поручению в апреле 1841 г. Бенкендорф командировал на Кавказ жандармского подполковника Александра Николаевича Кушинникова (1799–1860).
Другой вариант этой версии: царь повелел организовать убийство поэта военному министру А. И. Чернышеву, который поручил эту операцию начальнику штаба войск на Кавказской линии и в Черномории полковнику Александру Семеновичу Траскину (1803–1855). Предполагают, что именно с целью убийства Лермонтова Траскин разрешил Михаилу Юрьевичу подлечиться в Пятигорске, а не проследовать прямиком к месту назначения.
Сплетни о косвенном участии императора и его ближнего окружения в убийстве Лермонтова начали распространяться еще в XIX в., сразу же после гибели поэта. Сохранилась запись из беседы П. А. Вяземского с А. Н. Голицыным 4 августа 1841 г. в Царском Селе: «По случаю дуэли Лермонтова князь Алек. Ник. Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке»[226]226
Герштейн Э. Т. Отклики современников на смерть Лермонтова. По неопубликованным материалам архивов Елагиных, Булгаковых, Каткова и Самариных // М. Ю. Лермонтов: Статьи и материалы. М.: Гос. соц. – эконом. изд-во «Соцэкгиз», 1939.
[Закрыть].
(Смысл этой цитаты можно понять из записи A.C. Пушкина в «Замечаниях о бунте» (Пугачева) 1834 г.: «Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: «Как он хорош! настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла Потемкина». – В. Е).
Исследователи обычно подчеркивают, что версия об организации убийства поэта ближним окружением императора исходит из самого окружения Николая I, поскольку трудно назвать более близкого к нему человека, чем Александр Николаевич Голицын. Доверенное лицо императора, он имел исключительное право входить к Николаю Павловичу без доклада; именно Голицын осуществлял надзор за царскими детьми во время отсутствия в столице родителей. Александр Николаевич занимал должность начальника почтового департамента, где осуществлялась перлюстрация писем, в том числе и корреспонденции III Отделения – как всего ведомства, так и лично Бенкендорфа, в частности.
Так что советские историки имели весьма серьезные основания для подозрений. Правда, они, как и всегда, искали прежде всего политическую подоплеку трагедии.
7. Сегодня все более распространенной становится версия о психическом заболевании Н. С. Мартынова, вызванном его вынужденной отставкой «по семейным обстоятельствам» в феврале 1841 г. Считается, что с этого времени он сильно озлобился на весь мир, тосковал, начал страдать подозрительностью и истеричностью. Лермонтов оказался удобной и своевременной мишенью для умиротворения его расстроенных нервов.
8. Совершенно невероятная, но при этом вполне возможная, а потому имеющая право быть версия. Появилась она относительно недавно. Якобы убедившись в том, что Николай I Лермонтова из армии не отпустит и будет его гнобить-«перевоспитывать» на войне до последнего вздоха, друзья сговорились устроить поэту ложную дуэль, ранить его – опасно, но не смертельно – и предоставить ему таким образом возможность выйти в отставку по ранению. По этой причине противником Михаила Юрьевича стал один из наиболее близких ему людей, к тому же плохо стрелявший. Оттого и целился Мартынов так долго, что должен был непременно ранить поэта серьезно, но «не опасно», дабы его сочли неспособным служить далее. Потому и поднял Лермонтов правую руку вверх, чтобы ранили его именно в нее.
Однако далее сам собой случился «несчастный случай». Потому все участники дуэли и были столь потрясены гибелью Михаила Юрьевича и поначалу впали в панику.
Против этой версии выдвигаются очень серьезные аргументы, и главный из них – дуэлянты не пригласили с собой доктора и не взяли транспорт для перевозки раненого.
9. К этой версии примыкает еще одна: Лермонтов сам искал дуэли с Мартыновым и делал все возможное, чтобы не дать последнему возможности пойти на примирение. И происходило это по сугубо психологической причине: в Лермонтова вселился Печорин.
Я, конечно, пишу напрямую. Автор данной концепции современный литературовед и литературный критик Владимир Исаакович Левин в нашумевшей статье в еженедельнике «Литературная Россия» высказался со множеством оговорок и расшаркиваний: «Но вот Лермонтов выпускает свой роман. И тут происходит чрезвычайно интересное явление. В широко известной восточной сказке джинн, заточенный в бутылку, вселяется в освободившего его человека и подчиняет себе его. Нечто подобное произошло и с Лермонтовым: сойдя со страниц романа, Печорин словно начинает воздействовать на поступки и мировосприятие автора.
Предпосылки для такого влияния были. Не следует забывать, что Лермонтов был очень молод, что характер его, как мы видим из воспоминаний современников, был еще недостаточно устойчив и полон противоречий, так как находился, видимо, еще в процессе формирования. В то же время Печорин, человек, умудренный значительно большим жизненным опытом, закаливший свой характер в различных бурях, уже прошедший в своих отношениях с обществом тот этап, на котором пока еще находился Лермонтов, натура в данный момент, пожалуй, более сильная, чем Лермонтов.
Очень существенно также, что герой и автор находятся по своему интеллекту на одном уровне. Лермонтов создал образ человека, в этом плане ничем не уступающего ему самому. Интеллектуальная близость Печорина и Лермонтова такова, что, встреться они в жизни, между ними вполне могли бы возникнуть близкие отношения – в тех пределах, разумеется, в каких допустил бы их Печорин, который, безусловно, был бы в этой дружбе старшим.
Важно и другое. В представлении Лермонтова Печорин вовсе не был «отрицательным героем», типичным сыном века, зараженным всеми его болезнями и пороками.
Печорин находится в оппозиционном положении по отношению к своему времени, по отношению к тлетворному духу николаевской России. При всей своей силе он бессилен перед временем. Но для Лермонтова важно то, что Печорин, который имеет все возможности (имя, состояние, способности), чтобы сделать карьеру в общественных условиях того времени, не идет на это, сознательно предпочитая общественное прозябание. В этой абсолютной бескомпромиссности Печорина выражен определенный лермонтовский идеал: поэт так же относился к своей карьере в николаевской России, как и его герой.
И наконец, последнее: в характерах героя и автора была очень существенная для обоих общая черта, которая вполне могла послужить своего рода плацдармом для возникновения и роста влияния Печорина на Лермонтова, для развития общности в их характерах: это глубочайший интерес обоих к психологии человека. При том – одинаковом – отношении к русскому обществу 30-х годов, которое отличало и Лермонтова, и Печорина, эта черта приобрела жизненно важное значение для них обоих.
По этой линии вполне могло развиваться влияние героя на автора.
Мы не знаем, когда впервые возникло это влияние: в процессе ли работы Лермонтова над романом или когда «Герой нашего времени» был уже закончен. Но, в сущности, это не имеет значения. Важен самый факт: создание оказывает влияние на создателя!
Вряд ли сам Лермонтов сознавал развивающуюся в его характере близость Печорину. (Эту близость отметил Белинский, посетивший в апреле 1840 года находившегося под арестом поэта.)
… Лермонтов ведет себя с истинно печоринским хладнокровием. Именно Печорин «заставляет» его неподвижно стоять, взведя курок, подняв пистолет дулом вверх, «заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста».
Мартынов быстрыми шагами идет к барьеру. Сомневаться не приходится – сейчас он будет стрелять.
Ну что ж, Мартынов ясен – и Лермонтов, с презрением глядя на него, поднимает руку, чтоб выстрелить в воздух.
Выстрелить в воздух поэт не успел…»
10. Версия о выполнении «приговора 16». Весь вечер 13 июля кружковцы Столыпин (Монго), А. И. Васильчиков и С. А. Трубецкой нашептывали Мартынову о том, какие гадости рассказывает о нем Лермонтов, и о том, что далее терпеть такое глумление нельзя. Особо преуспел в этом деле Васильчиков. Исследователь Александр Борисович Галкин писал: «Расследовавший по горячим следам дело о дуэли П. К. Мартьянов был убежден в причастности князя Васильчикова к гибели поэта: «Недобрая роль выпала в этой интриге на долю князя.
Затаив в душе нерасположение к поэту за беспощадное разоблачение его княжеских слабостей, он, как истинный рыцарь иезуитизма, сохраняя к нему по наружности прежние дружеские отношения, взялся руководить интригою в сердце кружка и, надо отдать справедливость, мастерски исполнил порученное ему дело. Он сумел подстрекнуть Мартынова обуздать человека, соперничавшего с ним за обладание красавицей, раздуть вспышку и, несмотря на старания прочих товарищей к примирению, довести соперников до дуэли, уничтожить <выскочку и задиру> и после его смерти прикинуться и числиться одним из его лучших друзей». «От него самого я и слышал, – говорил В. И. Чиляев, – Мишеля, что бы там ни говорили, а поставить в рамки следует! Итак, Мартынов, похоже, стал орудием мщения для мстительного Васильчикова, а заодно «козлом отпущения» во время следствия по делу о дуэли»[227]227
Галкин А. Б. Военная судьба М. Ю. Лермонтова // Армейский сборник, Октябрь 2008.
[Закрыть].
И без того болезненно самолюбивый Николай Соломонович был возбужден «кружком шестнадцати» до высшей степени, сорвался и вызвал поэта на дуэль. Далее заговорщикам оставалось только организовать условия, при которых Лермонтов был бы гарантированно убит.
11. Совершенно дикая по своей бессмысленности, но все же существующая версия. Эмилия Клингенберг подмочила свою репутацию, спутавшись с ротмистром Владимиром Ивановичем Барятинским (1817–1875), младшим братом любимца царя, будущего генерал-фельдмаршала Александра Ивановича Барятинского (1815–1879), покорителя Кавказа и пленителя имама Шамиля. Чтобы замять скандал и уберечь свою придворную репутацию, А. И. Барятинский якобы взял на содержание семейство Верзилиных, разово выплатив Марии Александровне 50 тысяч рублей. Об этом стало известно Лермонтову, и он был устранен как опасный свидетель, поскольку мог описать историю Барятинских в продолжении «Героя нашего времени».
12. Современная версия. 13 июля 1841 г. исполнилась 15-я годовщина со дня казни вождей декабристов. У Верзилиных собралась революционно настроенная молодежь под эгидой членов «кружка шестнадцати». Мартынов оказался там случайно и возмутился поднятому Лермонтовым поминальному тосту. Произошла перепалка, результатом которой стал вызов на дуэль.
Свидетельств этому не сохранилось, поскольку слишком опасная тема была затронута. Потому и следствие постаралось увести дело в бытовую сторону.
13. «Дуэль Лермонтова – замаскированное самоубийство. Самоубийство Вертера – с той же самой психологией «неприятия мира» и только без Шарлотты. По отношению к себе он был, может быть, и прав: он не боялся «исчезнуть», а хотелось поскорее «мир увидеть новый». Но он, несомненно, был не прав объективно – забыв свой гений. Сила личности (и отсюда самососредоточенности) слишком ослабила в нем чувство обязанности (своей относительности)»[228]228
Перцев П. П. Лермонтов – торжественный венок. Слово о поэте. М.: Прогресс, 1999.
[Закрыть].
10
Первую часть дня 15 июля 1841 г., когда была назначена дуэль, Лермонтов провел довольно весело. Об этом мы узнаем из подробного письма от 5 августа 1841 г. правнучатой сестры поэта Екатерины Григорьевны Быховец (в замужестве Ивановской) (1820–1880). В нем рассказано: «Через четыре дня он (Лермонтов) поехал на Железные; был этот день несколько раз у нас и все меня упрашивал приехать на Железные; это 14 верст отсюда. Я ему обещала и 15-го (июля) мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной (sic) в коляске, а Дмитревский, и Бенкендорф, и Пушкин – брат сочинителя – верхами.
На половине дороги, в колонке мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лерм<онтов> сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо (заколка для волос. – B. Е.). Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же; уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез (он меня) благодарил, что я приехала, умаливал, чтобы я пошла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.
В колонке обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:
– Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.
Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов, а (в) 8 пришли сказать, что он убит».
11
«Сохранилось два свидетельства о трагедии, разыгравшейся 15 июля 1841 г. у подножия Машука: официальное донесение коменданта Ильяшенкова командующему войсками на Кавказской линии – генерал-адъютанту Граббе и воспоминания А. И. Васильчикова, которые и послужили профессору Висковатому материалом для описания дуэли в его труде «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество»»[229]229
Яковкина Е. И. Последний приют поэта: Домик М. Ю. Лермонтова. Ставрополь: Кн. изд-во, 1970.
[Закрыть].
Итак, дуэль М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым состоялась во вторник 15 июля 1841 г. близ Пятигорска, у подножия горы Машук. О том, что тогда произошло, мы имеем весьма смутное представление, поскольку участники событий явно сговорились и давали в основном ложные показания. Причины этого сговора – тоже тайна, навеки сокрытая во мраке истории. Кто-то говорит, что дуэлянты сделали все возможное, чтобы приуменьшить собственную вину. Кто-то утверждает, что оставшимися пятью участниками дуэли были предприняты действия к тому, чтобы дружески выгородить Столыпина (Монго) и Трубецкого от более сурового наказания. Сторонники версии заговора, само собой разумеется, настаивают на том, что «убийцы замели все следы» (о версии подсадного снайпера в кустах поговорим позже).
Вызов на дуэль был сделан Мартыновым во время объяснения с поэтом сразу после выхода из дома Верзилиных вечером 13 июля. Свидетелей ссоры не было, позднее все рассказывали о случившемся со слов Мартынова. На следствии Николай Соломонович показал: «…я сказал ему, что я прежде просил его прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если он еще раз вздумает выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду: что ему тон моей проповеди не нравится; что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, – и в довершение сказал мне: «Вместо пустых угроз, ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэлей никогда не отказываюсь, следовательно, ты никого этим не испугаешь»… Я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта».
Несмотря на то что ответ поэта полностью соответствует его характеру и манере ведения разговора, многие исследователи полагают, что Мартынов все выдумал, чтобы представить Михаила Юрьевича инициатором дуэли. Ничего не доказывает и тот факт, что секунданты на следствии дружно подтвердили слова Мартынова: хотя формальный вызов сделал он, однако Лермонтов намеренно поставил беднягу в безвыходную ситуацию.
Согласно показаниям Глебова Мартынов, «…не видя конца его насмешкам, объявил Лермонтову, что он заставит его молчать, на что Лермонтов отвечал ему, что вместо угроз… требовал бы удовлетворения… Формальный вызов сделал Мартынов… я с Васильчиковым употребили все усилия, от нас зависящие, к отклонению этой дуэли; но Мартынов… говорил, что… не может взять своего вызова назад, упираясь на слова Лермонтова, который сам намекал ему о требовании удовлетворения». Васильчиков рассказал (как обычно, ученые указывают на несостоятельность важнейшей части его показаний): «Формальный вызов был сделан майором Мартыновым; но… когда майор Мартынов при мне подошел к поручику Лермонтову и просил его не повторять насмешек, сей последний отвечал, что он не вправе запретить ему говорить и смеяться, что, впрочем, если обижен, то может его вызвать и что он всегда готов к удовлетворению». На все попытки примирить противников Мартынов отвечал, что слова Лермонтова, «которыми он как бы подстрекал его к вызову, не позволяют ему, Мартынову, отклоняться от дуэли».
Лермонтоведы на основании письма начальника штаба А. С. Траскина, который был на тот момент старшим воинским начальником в Пятигорске, П. Х. Граббе утверждают, что показания Мартынова и секундантов даны по сговору. В первый день начальнику штаба было заявлено иное: «Мартынов сказал ему, что он заставит его замолчать… Лермонтов ответил, что не боится его угроз и готов дать ему удовлетворение, если он считает себя оскорбленным». Эти слова ученые трактуют как угрозу со стороны Мартынова и попытку миролюбиво решить спор со стороны Лермонтова. Хотя в принципе это всего лишь пересказ чужих слов сторонним человеком и служить доказательством не может.
Удивляет то, что секундантов было четверо, а в выработке условий дуэли участвовал еще и первый командир Лермонтовского отряда, отчаянный забияка и дуэлянт Руфин Иванович Дорохов (1801–1852)1 Некоторые исследователи предполагают, что он был очевидцем дуэли, но в деле вообще не фигурирует. Так же как два неизвестных местных мальчика, которые, по словам дуэлянтов, знали обо всем, но дали слово молчать. Любопытно, что имена Дорохова, Столыпина и Трубецкого как участников дуэли были названы только после их смерти!
В любом случае, если верить Васильчикову и Мартынову, секундантами стали трое членов «кружка шестнадцати» – титулярный советник князь Александр Илларионович Васильчиков, капитан Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго) и штабс-капитан Сергей Васильевич Трубецкой. Четвертый – корнет Михаил Павлович Глебов – был просто общим приятелем. Васильчикова и Глебова нынче называют официальными секундантами, Столыпина и Трубецкого – негласными.
На следствии Глебов назвал себя секундантом Мартынова, Васильчиков – секундантом Лермонтова. О присутствии на месте дуэли Столыпина и Трубецкого от комиссии скрыли, поскольку оба являлись ссыльными и находились в немилости у Николая I. На самом деле кто чьим секундантом был, выяснить не удалось по сей день, а гадать по такому мелкому вопросу не стоит.
Такая же путаница произошла во время следствия, когда начали выяснять, кто с кем, как и когда приехал к месту дуэли. Из сохранившейся в архивах Мартынова записки от секундантов известно, что Глебов и Васильчиков приехали в беговых дрожках, принадлежавших Мартынову! Сразу возникает вопрос: почему впоследствии на них нельзя было привезти раненого или убитого Лермонтова? Или зачем надо было рассказывать о каких-то дрожках на следствии, если их не было? Вопросов много, и все они теперь неразрешимы.
Дуэль произошла примерно в 7 часов вечера на небольшой поляне у дороги, ведущей из Пятигорска в Николаевскую колонию вдоль северозападного склона горы Машук, в 4 верстах от города. По признанным официальными показаниям Мартынова, «был отмерен барьер в 15 шагов и от него в каждую сторону еще по десяти. Мы стали на крайних точках. По условию дуэли каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру…». Сохранились черновики показаний того же Мартынова, где говорится: «Условия дуэли были: 1-е. Каждый имеет право стрелять, когда ему угодно… 2-е. Осечки должны были считаться за выстрелы. 3-е. После первого промаха… противник имел право вызвать выстрелившего на барьер. 4-е. Более трех выстрелов с каждой стороны не было допущено…» Использованы были дальнобойные крупнокалиберные дуэльные пистолеты Кухенройтера с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом, принадлежавшие A.A. Столыпину.
По предположениям лермонтоведов, все участники дуэли, за исключением Мартынова, всерьез ее не воспринимали, а потому Р. И. Дорохов, участвовавший в выработке условий дуэли, предложил самый жесткий вариант из всех возможных. Кто-то считает, что этим Дорохов хотел остудить пыл драчунов, кто-то – что он хотел гарантированного убийства Лермонтова…
Вообще остается только удивляться всей нелепости происходившего! Ведь к месту дуэли даже не позвали врача и не наняли на всякий случай экипаж, чтобы увезти раненого (этот факт однозначно разрушает версию о благородной попытке помочь поэту уйти из армии). Либо господа офицеры играли в дуэль, либо и в самом деле правы сторонники версии заговора. Но, скорее всего, решающую роль в этой дуэли сыграл «заговор» солдафонского фанфаронства, аристократической дури и лени. Все было пущено на авось!
Далее Мартынов показал: «… Я первый пришел на барьер; ждал несколько времени выстрела Лермонтова, потом спустил курок…» Васильчиков его дополнил: «…расставив противников, мы, секунданты, зарядили пистолеты, и по данному знаку господа дуэлисты начали сходиться: дойдя до барьера, оба стали; майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела; из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух». Глебов дополнил: «Дуэлисты стрелялись… на расстоянии 15 шагов и сходились на барьер по данному мною знаку… После первого выстрела, сделанного Мартыновым, Лермонтов упал, будучи ранен в правый бок навылет, почему и не мог сделать своего выстрела».
И вновь путаница, и непонятно, кто врет. Дело в том, что, как только стало известно о гибели Михаила Юрьевича, по Пятигорску сразу начали распространяться слухи, будто Лермонтов категорически отказывался стрелять в противника и пустил пулю в небо, а Мартынов долго целился и убил поэта. Именно эти слухи были записаны в дневниках и распространились посредством многочисленных писем. Лермонтоведы подтвердили именно эту версию следующим образом.
Во-первых, А. С. Траскин на основании первых допросов дуэлянтов в письме Граббе, в частности, сообщил: «Лермонтов сказал, что он не будет стрелять и станет ждать выстрела Мартынова». Во-вторых, в акте медицинского освидетельствования трупа указано: «При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны». Как объясняют современные криминалисты, такой угол раневого канала возможен лишь при условии, если пуля попала в поэта, когда он стоял к стрелявшему правым боком с сильно вытянутой вверх правой рукой, отогнувшись для равновесия влево. Имеется еще ряд свидетельств того, что Лермонтов стрелял в воздух, а Мартынов убил или ранил его именно в этот момент.
Исследования современных ученых-медиков позволили им прийти к любопытным выводам: «Обратим внимание на следующие моменты. Из-за неровности дуэльной площадки Лермонтов находился выше Мартынова, поэтому пуля шла по восходящей траектории. В момент выстрела противника поэт стоял, развернувшись вполоборота, правым боком вперед, его правая рука с пистолетом была максимально вытянута вверх, а корпус от отдачи (Лермонтов только что выстрелил в воздух) и для противовеса вытянутой правой руке был отклонен кзади и влево. Правое плечо и соответственно правая половина грудной клетки располагались значительно выше левого плеча и левой половины грудной клетки. Асимметричное и неестественное положение верхней половины корпуса Лермонтова усиливалось от кифоза (горба) его и деформаций грудной клетки в результате врожденного и приобретенного (рахит) уродства костей. Кроме того, в правом кармане сюртука Лермонтова располагалась дамская золотая заколка для волос, взятая им перед дуэлью (на счастье?) у своей кузины Екатерины Быховец. Оставленная по забывчивости поэтом в кармане, она дополнительно отклонила пулю в крайне невыгодное для Лермонтова направление.
Все эти факторы способствовали формированию своеобразного восходящего направления раневого канала, а высокая убойная сила оружия и предельно короткое расстояние между противниками обусловили пробивание грудной клетки насквозь»[230]230
Давидов М. И. Выстрел у подножия Машука (о смертельном ранении М. Ю. Лермонтова) // Врачебное сословие. № 2.2006. Далее цитируется по этому изданию.
[Закрыть].
Продолжим цитировать, поскольку эти рассуждения очень важны для понимания истории исследований трагедии и причин возникновения тайны гибели поэта: «Лермонтов получил огнестрельное ранение около 18 часов 30 минут. Сразу после выстрела противника туловище Лермонтова словно переломилось, он безмолвно упал, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обычно делают раненые. В правом боку его дымилась рана, в левом – сочилась кровь. По телу раненого прошло несколько судорожных движений, затем оно затихло. Поэт потерял сознание, глаза его были открыты, но смотрели мутным, непонимающим взором.
Дыхание было сохранено. Через несколько минут после ранения сознание возвратилось, но было заторможенным. Глебов, склонившись к раненому, услышал: «Миша, умираю…»
Состояние раненого в первые 20 минут после ранения следует оценивать как критическое. У него наблюдался болевой шок, началось массивное кровотечение, по-видимому, из крупных сосудов, расположенных в грудной полости. Кровь изливалась наружу из обеих ран грудной клетки, но больше ее вытекало из выходного отверстия пули, расположенного в левой половине грудной клетки, в V межреберье по задней подмышечной линии. Существовала еще третья рана, умеренно кровоточащая, расположенная на задней поверхности верхней трети левого плеча, где пуля, вышедшая из грудной клетки, прорезала кожу, подкожную клетчатку и частично мышцы. Кровотечение из двух ран груди было интенсивным, и раненый за время нахождения на месте дуэли потерял большое количество крови. Ее скопилось под пострадавшим так много, что сильнейший грозовой дождь, продолжавшийся с перерывами несколько часов, не смог смыть ее с земли, где лежал поэт, и она была обнаружена на следующий день, 16 июля, при осмотре места происшествия членами следственной комиссии. Кровь насквозь пропитала всю одежду поэта (армейский сюртук и рубашку). Наряду с наружной геморрагией[231]231
Геморрагия – истечение крови из сосудов при нарушении целостности, проницаемости их стенок.
[Закрыть], несомненно, наблюдалось такой же интенсивности внутреннее кровотечение (в грудную полость). По нашим расчетам, поэт мог потерять на месте дуэли около 2,5–3 л крови (50–60 % ОЦК[232]232
ОЦК – объем циркулирующей крови.
[Закрыть]).
Раненый находился в сознании около 10 минут, а затем снова и надолго потерял его. Поэт в течение 4 с половиной часов оставался на месте поединка под открытым небом, поливаемый проливным дождем. С момента ранения в течение 2 часов его окружали Столыпин, Трубецкой и Глебов, а затем Трубецкой и Васильчиков.
Данные о продолжительности жизни поэта после ранения противоречивы.
Официальная точка зрения литературоведов указана в «Лермонтовской энциклопедии»: «Лермонтов скончался, не приходя в сознание, в течение нескольких минут». Подобная точка зрения базируется на материалах сфальсифицированного следствия и рассказах секунданта Мартынова Михаила Глебова.
Данная версия о почти мгновенной смерти Лермонтова после выстрела противника была чрезвычайно выгодна не только Глебову, но и всем секундантам, ибо: а) снимала с них ответственность за то, что они не побеспокоились о приглашении доктора на дуэль (при мгновенной смерти доктор бы не помог); б) оправдывала их нерасторопность, приведшую к тому, что Лермонтов 4 с половиной часа пролежал в поле под дождем без оказания помощи (не все ли равно, когда убитого привезли в Пятигорск?).
Однако существует и противоположная точка зрения, утверждающая, что поэт жил значительно дольше, в течение 4 часов после ранения.
Приведем показания Мартынова из материалов следствия: «От сделанного мною выстрела он упал, и хотя признаки жизни еще были видны в нем, он не говорил. Я… отправился домой, полагая, что помощь может еще подоспеть к нему вовремя». Таким образом, Николай Соломонович простился с живым Лермонтовым. По внешнему виду раненого Мартынов всерьез надеялся, что к нему еще поспеет медицинская помощь и может спасти его от смерти.
Утверждение, что Лермонтов умер в ближайшие минуты после ранения, идет вразрез с приказанием коменданта Пятигорска В. И. Ильяшенкова отправить привезенного с места дуэли поручика… на гауптвахту. Ну не мог же, в самом деле, быть таким глупым, как это объясняют современные лермонтоведы, человек, дослужившийся до звания полковника, который много лет руководил военной и гражданской администрацией города? Скорее всего, Ильяшенков, отдавая приказ, был уверен из докладов (плац-адъютанта А. Г. Сид ери, секундантов или свидетелей дуэли), что Лермонтов еще жив. И лишь когда поэта подвезли к помещению гауптвахты, то убедились, что он уже мертв.
В современной литературе старательно замалчивается показание слуги Лермонтова, молодого гурийца Христофора Саникидзе[233]233
Христофор Дмитриевич Саникидзе (1825 – после 1891) – слуга Лермонтова в Пятигорске в 1841 г.
[Закрыть]: «При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым (при чем Саникидзе находился) Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал: «Умираю»; но на полдороге стонать перестал и умер спокойно». Один из первых биографов поэта П. К. Мартьянов, лично беседовавший с домовладельцем квартиры Лермонтова В. И. Чиляевым и другими лицами, жившими в Пятигорске в год дуэли, утверждал, что поэт умер уже в Пятигорске, когда его возили по городу.








