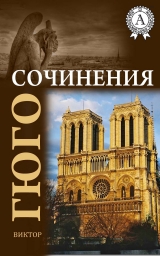
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 78 (всего у книги 125 страниц)
Когда воды в лодке стало меньше, давление снаружи усилилось. Пузырь из брезента вздувался все больше и больше, совсем как нарыв, готовый прорваться. Положение улучшилось лишь на время, а теперь оно вновь стало угрожающим.
Необходимо было заткнуть пробоину, и притом немедленно.
Но у Жильята осталась только одежда.
Как помнит читатель, он расстелил ее для просушки на выступах Малого Дувра.
Он принес ее и положил на борт лодки.
Взяв просмоленный плащ, он опустился на колени в воду и засунул его в пробоину, выталкивая наружу брезент и тем самым выжимая из пузыря воду. К плащу он добавил овчину, за ней последовала шерстяная рубаха, за рубахой – куртка.
Все вошло туда.
На нем остались лишь матросские штаны, он снял их и тоже заложил в пробоину; пробка стала больше и прочнее.
Итак, она была готова и казалась достаточно надежной.
Она выступила наружу из пролома вместе с облепившим ее брезентом. Вода, стремясь ворваться, давила на это препятствие, распластывала над пробоиной, что было весьма кстати, и чем укрепляла его. Это было нечто вроде давящей повязки.
Жильят вытолкнул изнутри только середину пузыря; вокруг пробоины и пробки остался круглый парусиновый валик, прилегавший к ним особенно плотно, потому что его удерживали неровные края пролома. Пробоина была закрыта.
Но как все это ненадежно! Острые зазубрины, придерживавшие брезент, могут его прорвать, и через дыры хлынет вода. В темноте Жильят даже не заметил бы этого. Вряд ли пластырь продержится до утра. Теперь Жильята беспокоило иное, и тревога его все росла: он чувствовал, как иссякают, его силы.
Он опять принялся выливать воду, но ослабевшие руки с трудом поднимали полный черпак. Жильят был раздет и дрожал от холода.
Он чувствовал приближение рокового конца.
Вдруг его осенила мысль, внушившая ему слабую надежду. Быть может, в открытом море появился парус? Рыбак, случайно заплывший в воды Дуврского рифа, мог бы прийти ему на выручку. Наступила минута, когда помощник стал просто необходим. Человек и фонарь – и все было бы спасено.
Вдвоем легко вылить воду из лодки, а как только лодка освободится от жидкого балласта, она приподнимется до своей ватерлинии, пробоина выйдет из воды, починка станет делом выполнимым; пластырь будет немедленно заменен доской из обшивки Дюранды, и, сняв временную перевязку, можно будет окончательно заделать пробоину. Иначе придется ждать до утра, ждать всю ночь! Опасное промедление, которое может стать гибельным. Жильят был в лихорадочном возбуждении.
Если бы случайно показались огни какого-нибудь корабля, Жильят мог бы с вершины Большого Дувра подать ему сигнал. Погода стояла тихая, безветренная, море дремало; резкие движения человека на фоне звездного неба были бы замечены.
Ни капитан судна, ни шкипер, плывя ночью близ Дуврских скал, не отводят от них подзорной трубы; делается это из предосторожности.
Жильят надеялся, что его увидят.
Он влез на разрушенный пароход, схватился за веревку и взобрался на Большой Дувр.
Ни одного паруса на горизонте. Ни одного сигнального огня. Необозримое пустынное море.
Никакой надежды на помощь, никакой надежды выстоять в этом единоборстве.
Жильят почувствовал себя обезоруженным, чего до сих пор не испытывал ни разу.
Теперь он был во власти злого рока. Скоро он сам, и лодка, и машина Дюранды, несмотря на весь его труд, на все удачи, на все его мужество, станут добычей бездны. Больше не осталось никаких средств борьбы; у него опустились руки. Как помешать начаться приливу, подняться воде, продолжаться ночи? Пластырь на пробоине – вот единственная точка опоры.
Жильят выбился из сил; он и разделся донага, чтобы соорудить и закончить его; ни укрепить, ни улучшить его он уже не мог; все как было, так и останется; к несчастью, всем его усилиям положен конец. Сейчас море по своему усмотрению распоряжается повязкой, наспех наложенной на пробоину., Как поведет себя эта неодушевленная преграда? Теперь борется она, а не Жильят. Все зависит от этого тряпья, разум тут бессилен. Вздуется волна, и этого довольно, чтобы пролом открылся снова. Сильнее или слабее напор – в этом все дело.
Все должна решить слепая борьба двух механических величин. Отныне Жильят не мог ни помочь союзнику, ни остановить врага. Он стал лишь наблюдателем собственной жизни или собственной смерти. Место Жильята, который был воплощением предвидения, в самый страшный час заступили тупые силы противодействия.
Все ужасы и испытания, через которые прошел Жильят, были ничто в сравнении с этим.
Приплыв на Дуврский риф, он увидел, что окружен, взят в тиски пустыней. Пустыня не только осаждала его, она на него наступала. Тысячи угроз сразу нависли над ним. Тут был ветер, готовый подуть; тут было море, готовое рычать.
Невозможно заткнуть этот зев – ветер; невозможно обломать зубы этой пасти – морю. И однако, он боролся; он, человек, сражался один на один с океаном; он схватился врукопашную с бурей.
Он подавлял в себе и другие тревоги, он справлялся и с другими напастями. Он сопротивлялся всем бедам, выпавшим на его долю. Ему пришлось строить без инструментов, таскать тяжести без помощника, решать задачи без знаний, есть и пить без запасов провизии, спать без постели и без крова.
На рифе, в этом трагическом застенке, его поочередно подвергали пыткам свирепые подручные природы – матери, когда ей угодно, и палача, когда ей вздумается.
Он победил одиночество, победил голод, победил жажду, победил холод, победил недомогание, победил усталость, победил сон. Ему преграждали путь сплотившиеся против него препятствия. После лишений – стихия; после прилива – шторм; после бури – спрут; после чудовищ – привидение.
Мрачная ирония конца. Недаром из темной пещеры того рифа, который Жильят рассчитывал покинуть победителем, смеясь глядел на него мертвый Клюбен.
Призрак издевался и был прав. Жильят видел свою гибель, видел, что сам он мертв, как Клюбен.
Стужа, голод, изнеможение, разборка поврежденного судна, спуск машины, бури равноденствия, ветер, гроза, спрут – все это ничто перед пробоиной. Можно было найти защиту от всего, и Жильят находил ее: против холода – огонь, против голода – ракушки на скалах, против жажды – дождь, против трудностей спасения машины – мастерство и мужество, против прилива и бури – волнорез, против спрута – нож.
Против течи в лодке – ничего.
То был зловещий прощальный привет урагана. Последняя схватка, предательская вылазка, исподтишка подготовленное нападение побежденного на победителя. Убегающая буря пустила в него стрелу. Отступая, она оборачивалась к врагу и продолжала разить. То был удар из-за угла, нанесенный бездной.
Человек поборол бурю; но как бороться с просачивающейся водой?
Если пробка не выдержит, если пробоина откроется, ничто не поможет: лодка пойдет ко дну. Повязка соскользнет с кровоточащей раны. А стоит ботику с таким грузом, как машина, очутиться на дне, поднять его будет невозможно.
Два месяца благородных титанических усилий потрачены даром. Сызнова начинать немыслимо. У Жильята не было больше ни кузницы, ни строительного материала. Быть может, с рассветом он увидит, как все плоды его трудов медленно и безвозвратно погрузятся в бездну.
Как страшно чувствовать под собой темную пучину!
Бездна тянула его к себе.
Море поглотит лодку, и ему останется одно: умереть, как тот, кто, потерпев кораблекрушение, умер от голода и холода на скале «Человек».
Два долгих месяца духи и ангелы незримого мира, витавшие здесь, видели два вражеских стана: в одном – беспредельные пространства, волны, ветры, молнии, силы стихии, в другом – человек; в одном – море, в другом – душа, в одном – бесконечность, в другом – атом.
И сражение произошло.
Но, быть может, эта чудесная победа напрасна.
Неслыханный героизм вылился в беспомощность, закончился отчаянием ужасный бой, принятый человеком, битва между Ничем и Всем, Илиада, воплощенная в едином герое.
Жильят в смятении смотрел вдаль.
На нем не было даже одежды. Нагой стоял он перед беспредельностью.
И вот, подавленный неведомой громадой, не зная больше, чего от него хотят, перед лицом неумолимой тьмы, в грохоте океана, волн, прибоя, клокочущих валов, шквалов, под туманами, на ветру, во власти беспредельной рассеянной силы, под таинственной небесной твердью – царством крыльев, светил и умерших миров, перед волей, которая, быть может, правит безмерной мощью стихий, видя вокруг себя и под собой океан, а над головой созвездия и бездонное небо, Жильят отказался от борьбы, опустился на скалу, лег навзничь, лицом к звездам и, побежденный, сложив руки перед грозной глубиной, крикнул в бесконечность: «Пощади!»
Поверженный на землю беспредельностью, – он взывал к ней.
Он был один на скале, ночью, посреди моря, изнемогающий, словно пораженный громом, нагой, как гладиатор на арене цирка; только вместо цирка перед ним была бездна, вместо хищных зверей – мрак, вместо глаз толпы – око неведомого, вместо весталок – звезды, вместо цезаря – бог.
Ему казалось, будто он растворяется в холоде, в безнадежности, в мольбе, во мраке, и глаза его сомкнулись.
VII. Неведомое слышит
Протекло несколько часов.
Взошло ослепительное солнце.
Его первый луч скользнул по неподвижной человеческой фигуре на вершине Большого Дувра. То был Жильят.
Он по-прежнему лежал на скале.
Окоченевшее и застывшее нагое тело уже не дрожало.
Сомкнутые веки были мертвенно бледны. И трудно было бы сказать, живой это человек или труп.
Казалось, солнце разглядывало его.
Быть может, обнаженный человек и не был мертв, но смерть стояла рядом, одно дуновенье холодного ветра могло пресечь его жизнь.
И ветер подул, но теплый, живительный; то было ласковое веянье мая.
А солнце поднималось в глубокой синеве неба; его косые лучи загорелись пурпуром. Свет стал теплым. И это тепло окутало Жильята.
Он не шевелился. Если он и дышал, то дыханье его было таким слабым, что лишь едва затуманило бы зеркало.
Солнце всходило все выше, лучи его все отвесней падали на Жильята. Ветер, вначале только теплый, теперь обдавал зноем.
Окаменевшее нагое тело по-прежнему было недвижно, но кожа чуть порозовела.
Солнце, приближаясь к зениту, бросило прямой луч на площадку Дувра. С высоты щедро пролился свет; он стал еще ярче, отразившись в зеркальной глади моря; согрелась скала и отогрела человека.
Из груди Жильята вырвался вздох.
Он был жив.
Солнце продолжало нежить его в своих жгучих объятиях.
Ветер, теперь уже летний, южный ветер, веял на Жильята теплым дыханьем.
Жильят пошевелился.
Невыразимо было спокойствие моря. Оно казалось кормилицей, тихонько убаюкивающей ребенка. Волны словно укачивали риф.
Морские птицы, знавшие Жильята, тревожно летали над ним. В их тревоге не было и следа прежнего слепого страха перед ним. Трогательное, почти братское беспокойство чувствовалось в ней. Слышались их негромкие крики. Птицы будто звали его. Чайка, видимо, привыкшая к Жильяту, опустилась возле него, совсем как ручная. Она словно что-то говорила ему.
Но он, казалось, ничего не слышал. Она вспорхнула ему на плечо и осторожно клюнула в губы.
Жильят открыл глаза.
Довольные и вместе с тем испуганные, птицы улетели.
Жильят вскочил, потянулся, как пробужденный лев, и, подбежав к краю площадки, заглянул вниз, в ущелье между Дуврами.
Лодка стояла на месте невредимая. Пластырь выдержал:
значит, море обошлось с ним не слишком сурово.
Все было спасено.
Жильят уже не чувствовал усталости. Силы его восстановились. Обморок оказался глубоким сном.
Он вычерпал воду из лодки, и, когда облегчил ее таким образом, место повреждения поднялось выше ватерлинии; затем он оделся, напился, поел и почувствовал прилив бодрости.
Оказалось, что пробоина, когда он рассмотрел ее при свете, требовала больше работы, чем он предполагал. Это было довольно серьезное повреждение. Жильят потратил почти весь день на починку ботика.
Утром, на заре, разобрав заграждение и открыв выход из теснины, одетый в лохмотья, победившие волну, затянутый в пояс Клюбена с семьюдесятью пятью тысячами франков, Жильят, стоя возле спасенной машины на починенной лодке, подгоняемой попутным ветром по прекрасному, спокойному морю, покинул Дуврский риф.
Он взял курс на Гернсей.
Если бы на скалах в это время очутился какой-нибудь человек, то он услышал бы, как, отплывая от рифа, Жильят вполголоса затянул песенку Славный Данди.
Часть третья. Дерюшетта
Книга первая. Ночь и Луна
I. Портовый колокол
Теперь Сен-Сансон почти город; сорок лет назад он был почти деревней.
Когда наступала весна и вечера становились короче, люди не засиживались допоздна и отходили ко сну, чуть стемнеет.
Сен-Сансон был старинным приходом, сохранившим обычай давать сигнал «тушения огня», и там рано задували свечи.
Жители ложились спать и вставали вместе с солнцем. Старые нормандские деревни переняли порядки курятников.
Добавим, что жители Сен-Сансона, не считая нескольких богатых горожан, в большинстве случаев – каменоломы и плотники. В порту Сен-Сансона чинят суда; здесь целый день ломают камень или обтесывают бревна; тут стучит молоток там – топор. Беспрерывно обрабатывается дубовый лес и гранит. К вечеру люди падают от усталости и засыпают, как убитые. Крепок сон после тяжелой работы.
Как-то вечером, в начале мая, месс Летьери, поглядев на месяц, плывший между деревьями, и прислушавшись к шагам Дерюшетты, которая гуляла одна по саду, объятому вечерней прохладой, вернулся в свою комнату, выходившую окнами на порт, и лег спать. Дус и Грае уже уснули. Все в доме спало кроме Дерюшетты. Все спало и в Сен-Сансоне. Двери и ставни были всюду заперты. На улице ни одного прохожего. Редкие огоньки, напоминавшие мигающие глаза, готовые закрыться, кое-где окрашивали в красный цвет оконца под крышами, возвещая о том, что и слуги укладываются спать. Уже давно пробило девять часов на древней романской колокольне, увитой плющом и делившей с церковью Сен-Брелад, что на Джерсее, честь носить одну и ту же примечательную дату из четырех единиц 1111, означающую тысяча сто одиннадцатый год.
Популярность месса Летьери зависела от успеха его предприятия. Успех сменился неудачей, и вокруг образовалась пустота. Надо думать, что несчастье – прилипчивая болезнь, что неудачники поражены чумой, так быстро попадают они в карантин. Сынки состоятельных родителей стали избегать Дерюшетту. Разобщенность «Приюта неустрашимых» с городом теперь была так велика, что в доме даже не знали о крупном событии, взбудоражившем в этот день весь Сен-Сансон. Приходский священник, его преподобие Эбенезер Кодре, стал богачом. Недавно в Лондоне скончался его дядя, почтенный декан Сент-Асафа. Известие привез сегодня почтовый шлюп «Кашмир», прибывший из Англии в порт Сен-Пьер; его мачта виднелась на рейде. «Кашмир» должен был отправиться обратно в Саутгемптон завтра в полдень и, как говорили, увезти священника, срочно вызванного в Англию, чтобы присутствовать при официальном вскрытии духовного завещания и для прочих неотложных дел, связанных с получением большого наследства. Весь день Сен-Сансон гудел от пересудов: «Кашмир», его преподобие Кодре, его покойный дядюшка, богатство, отъезд молодого священника, несомненное его повышение в будущем – все это было предметом бесконечных, толков.
Один лишь «Приют неустрашимых», до которого так и не дошло известие, хранил безмолвие..
Месс Летьери бросился на свою подвесную койку, не раздеваясь. После катастрофы с Дюрандой улечься на койке было его единственной отрадой. Растянуться на своем одре – средство, к которому прибегают все узники, а месс Летьери стал узником собственного горя. Он ложился, и это было для него отдохновением, передышкой, отрешением от дум. Спал ли он?
Нет. Бодрствовал? Нет. Два с половиной месяца месс Летьери жил, как лунатик. Он еще не пришел в себя. Он находился в том сложном, неопределенном состоянии, которое знакомо людям, перенесшим тяжелый удар. Его раздумье не было мыслью, сон не был отдыхом. Днем он точно и не просыпался, ночью словно и не засыпал. Днем он был на ногах, ночью лежал – только и всего. Улегшись на свою койку, он ненадолго забывался, он называл это сном; над ним витали и в нем самом словно гнездились химеры; ночной туман, полный неясных образов, обволакивал его мозг; император Наполеон диктовал ему свои мемуары, появлялось несколько Дерюшетт, какие-то странные птицы сидели на деревьях, улицы Лонле-Сонье превращались в змей. Кошмары были отсрочкой, данной отчаянием. Старик проводил ночи в бреду, а дни в дремоте.
Иногда он оставался все – послеобеденное время в своей комнате, которая, как уже упоминалось, выходила окнами на гавань; опершись локтями на подоконник, понурив голову, сжимая лоб руками, он сидел неподвижно, повернувшись спиной ко всему миру и устремив взгляд на знакомое железное кольцо, ввинченное в стену дома в нескольких футах от окошка, – к нему некогда пришвартовывалась Дюранда. Он смотрел на ржавчину, начинавшую покрывать кольцо.
Жизнь месса Летьери превратилась в бессмысленное прозябание.
Это удел даже самых мужественных людей, если они лишились идеи, одушевлявшей их. Это следствие бесцельного существования. Наша жизнь т – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало. Судьба обладает неведомой неограниченной властью. Она касается своим жезлом даже нашего внутреннего «я». Отчаяние – это опустошенность души. Только великий человек может устоять перед ним. И то не всегда.
Месс Летьери постоянно размышлял, если только размышлять означает погружаться в глубь какой-то мрачной пропасти.
Порой у него вырывались скорбные слова: «Одно остается: подать туда, в небеса, прошение о чистой отставке».
Отметим противоречие в его характере, сложном, как море, чьим творением, так сказать, и был Летьери. Он никогда не молился.
В беспомощности есть своя сила. Слепой перед лицом природы, слепой перед лицом судьбы, человек в самом бессилии своем нашел точку опоры – молитву.
Человек ищет помощи у страха, просит о поддержке собственную робость; душевное смятение – это совет преклонить колени.
Молитва – могучая сила души, сила непостижимая. Молитва обращается к великодушию мрака; молитва взывает к тайне, сама подобная тайне, и мнится, что перед неотступной, неустанной мольбой не может устоять Неведомое.
Проблеск надежды – это утешение.
Но Летьери не молился.
Когда он жил счастливо, бог существовал для него, можно сказать, во плоти; Летьери беседовал с ним, давал ему честное слово, чуть ли не обменивался с ним время от времени рукопожатием. Но в несчастье – такое явление отнюдь не редкость – бог скрылся от Летьери. Это случается с теми, кто придумывает себе милосердного бога, похожего на доброго старичка.
Теперь Летьери, в своем душевном состоянии, четко различал лишь одно: улыбку Дерюшетты. Вне ее, этой улыбки, все было тьмой.
С некоторых пор, конечно, из-за потери Дюранды, по-своему отозвавшейся и на Дерюшетте, очаровательная улыбка появлялась все реже. Дерюшетта была очень грустной. Исчезла ее детская шаловливость и резвость птички. Когда на рассвете раздавался пушечный выстрел, Дерюшетта больше не приветствовала восходящее солнце реверансом и словами:
«Бум! Вы уже здесь? Милости просим!» Иногда у нее был такой серьезный вид, что жаль было смотреть на это нежное создание. Хоть Дерюшетта и старалась улыбаться мессу Летьери, старалась развлечь его, но ее веселость тускнела с каждым днем и словно покрывалась пылью, как крылышко бабочки, в тельце которой вонзили булавку. Прибавим, что, опечаленная ли печалью дяди, – ибо существует горе отраженное, – или по каким-нибудь другим причинам, Дерюшетта стала очень богомольной. Во времена прежнего приходского священника, Жакмена Эрода, как известно, она бывала в церкви не больше четырех раз в год. Теперь она сделалась ее ревностной посетительницей. Она не пропускала ни одной службы пи по воскресеньям, ни по четвергам. Набожные прихожане с удовлетворением замечали в ней перемену: это большое счастье, когда девушка бежит от мужчин-искусителей и обращается к богу.
Тогда бедным родителям, по крайней мере, нечего опасаться за дочерей.
Каждый вечер, если позволяла погода, Дерюшетта гуляла часок-другой в саду «Приюта неустрашимых». Она всегда бродила там одна и была почти так же задумчива, как месс Летьери. Дерюшетта ложилась спать позже всех. Это не мешало Грае и Дус подсматривать за ней; они повиновались прирожденному влечению, свойственному слугам: соглядатайство рассеивает скуку подневольной работы.
От месса Летьери, сознание которого было как бы затуманено, ускользнули эти небольшие перемены в привычках Дерюшетты. К тому же он не был рожден для роли дуэньи.
Он даже не замечал, с какой аккуратностью Дерюшетта посещает церковные службы. Его предубеждение против церкви и духовенства было таким упорным, что вряд ли его порадовало бы ее усердие.
Это не значит, что душевное его состояние не могло измениться. Горе – это туча, и оно меняет свою форму.
Мы уже говорили, что иной раз и сильные души бывают оглушены внезапным несчастьем, но все же не до конца. Человек мужественный, подобно Летьери, через некоторое время приходит в себя. У отчаяния свои восходящие ступени. Сначала.
человек подавлен, затем удручен, потом его охватывает уныние, а оно ведет к меланхолии. Меланхолия – это сумерки.
Там страданье растворяется в отрадной грусти.
Меланхолия – это счастье в печали.
Однако такие элегические переходы были несвойственны Летьери: особенности его натуры и характер его несчастья не допускали этих оттенков чувства. И в ту пору, когда мы вновь возвратились к нему, первый приступ отчаяния стал как будто ослабевать: он по-прежнему грустил, но в последние дни казался не таким безучастным; он был все так же молчалив, но не угрюм; к нему до какой-то степени вернулась способность воспринимать факты и события: он начинал испытывать действие того удивительного явления, которое можно было бы назвать возвратом к действительности.
Так, днем, сидя в нижней зале, он не вслушивался в разговоры, но уже слышал их. Однажды утром Грае прибежала к Дерюшетте и с торжествующим видом сообщила, что месс Летьери сорвал бандероль с газеты.
Даже неполное восприятие действительности – само по себе очень хороший признак. Это – выздоровление. Большое несчастье оглушает. И такое неполное восприятие спасает человека. Сначала подобное улучшение представляется ухудшением. Прежде забытье смягчало скорбь; глаза человека застилал туман; человек почти ничего не чувствовал; теперь же он видит ясно, ничто от него не ускользает, все причиняет боль.
Рана открывается. Всякий пустяк обостряет муку. Все вновь оживает в памяти. А вспомнить все – значит скорбеть обо всем. В этом возврате к действительности есть привкус горечи.
Человеку как будто стало лучше, но и тяжелее. Вот что испытывал Летьери. Он отдавал себе отчет в своих страданиях.
Неожиданное событие вернуло его к жизни.
Расскажем, что это было за событие.
Как-то после полудня, 15 или 20 апреля, в двери нижней залы «Приюта неустрашимых» постучались два раза, – так обычно стучался почтальон. Дус открыла. В самом деле, принесли письмо.
Письмо пришло с моря. Оно было адресовано мессу Летьери. На почтовом штемпеле стояло «Лиссабон».
Дус отнесла письмо мессу Летьери, тот сидел запершись у себя в комнате. Он взял письмо и, даже не взглянув на него, машинально положил на стол.
Письмо провалялось нераспечатанным почти целую неделю.
Случилось так, что однажды утром Дус спросила у месса Летьери:
– Сударь! Не смахнуть ли пыль с письма?
Летьери как будто проснулся.
– Да, надо бы, – сказал он.
И распечатал письмо.
Он прочел следующее:
...
«В море, 10 сего марта.
Мессу Летьерп, в Сен-Сансон.
Известие, которое я вам сообщу, доставит вам удовольствие.
Я плыву на «Тамолипасе», нахожусь на пути к Невозвращению. В экипаже судна есть матрос Айе Тостевен с Гернсея, который вернется домой и кое о чем вам расскажет. Нам встретился корабль «Эрнан Кортес», который идет в Лиссабон; пользуюсь случаем и пересылаю вам это письмо.
Вы будете удивлены. Я человек честный.
Такой же честный, как сьер Клюбен.
Надо думать, вы уже знаете, что произошло; однако будет, пожалуй, не лишним, если и я сообщу вам об этом.
Дело вот в чем.
Я вам вернул ваши капиталы.
Я сделал у вас не совсем – приличным способом заем на сумму в пятьдесят тысяч франков. Перед отъездом из Сен-Мало я вручил вашему доверенному, сьеру Клюбену, три банковых билета по тысяче фунтов каждый, что составляет семьдесят пять тысяч франков. Полагаю, вы сочтете эту сумму вполне достаточным возмещением.
Съер Клюбен горячо отстаивал ваши интересы и получил ваши деньги. Мне показалось, что он чересчур усердствовал, Вот почему я и предупреждаю вас.
Ваш прежний доверенный
Рантен.
...
P. S. У сьера Клюбена был револьвер, поэтому я не взял расписки».
Дотроньтесь до электрического ската или до заряженной лейденской банки, и вы ощутите то, что почувствовал Летьери, читая это письмо.
В конверте, на который он сначала не обратил внимания, в листке бумаги, сложенном вчетверо, заключалось нечто потрясающее.
Он узнал почерк, он узнал подпись. А содержания письма он сначала совсем не понял.
Потрясение было настолько сильным, что оно, так сказать, водворило его ум на место.
Рантен вручил Клюбену семьдесят пять тысяч франков!
Этот необычайный, загадочный факт оказался полезной встряской: он принудил мозг Летьери работать. Строить предположения – здоровое занятие для мысли. У Летьери пробудилась способность рассуждать и делать логические выводы.
С некоторых пор общественное мнение Гернсея стало судить и рядить о Клюбене, об этом честном человеке, который столько лет пользовался общим уважением. Люди расспрашивали о нем друг друга, начинали сомневаться, бились об заклад. Странный свет проливался на его личность. Облик Клюбена начинал проясняться, точнее говоря – окрашиваться в черное.
В Сен-Мало было начато судебное следствие по поводу исчезновения берегового сторожа номер 619. Проницательное правосудие свернуло на ложный путь – это нередко случается.
Следователи исходили из предположения, что Зуэла сманил сторожа и увез его на «Тамолипасе» в Чили. Хитроумная гипотеза повлекла за собой немало заблуждений. По близорукости правосудие даже не заметило Рантена. Но попутно оно нечаянно напало на другие следы. Темное дело осложнилось.
Выяснили, что к загадке примешан Клюбен. Было установлено, что отплытие «Тамолипаса» совпало с гибелью Дюранды; быть может, здесь таилась и прямая связь. В кабачке у Динанских ворот, где, как полагал Клюбен, он никому не был известен, его, однако, узнали. Кабатчик показал: «Клюбен купил бутылку коньяку». Для кого? Оружейник с улицы Сен-Венсан показал: «Клюбен купил револьвер». Для чего? Содержатель «Гостиницы Жана» показал: «У Клюбена бывали необъяснимые отлучки». Капитан Жертре-Габуро показал: «Клюбен непременно хотел отплыть, хотя его и предупреждали, да он сам знал, что туман застигнет его в пути». Экипаж Дюранды показал: «Товара на пароходе почти не было, и погрузка была произведена небрежно». Это становится понятным, если капитан задумал погубить пароход. Пассажир-гернсеец показал:
«Клюбен думал, что потерпел крушение на скалах Гануа».
Тортвальцы показали: «Клюбен прибыл в Тортваль за несколько дней до гибели Дюранды и направился к Пленмону, расположенному неподалеку от Гануа. Он нес саквояж. Туда он пошел с саквояжем, а вернулся с пустыми руками». Мальчишки, разорители гнезд, дали свои показания; их рассказ, пожалуй, мог иметь отношение к исчезнувшему Клюбену, при условии, если напугавшие их призраки были просто контрабандистами. Наконец, дал показания и сам пленмонский заколдованный дом; люди, решившие докопаться до истины, проникли в дом – и что же там нашли? Саквояж Клюбена.
Тортвальская полиция вскрыла его. В нем обнаружили запас провизии, подзорную трубу, хронометр, мужское платье и белье с метками Клюбена. В толках жителей Сен-Мало и Гернсея все это объединилось и в конце концов предстало как злой умысел шкипера против судовладельца. Сопоставлялось все, что было в этой истории неясным: странное невнимание к дружеским советам, решение плыть, несмотря на предполагаемый туман, подозрительная небрежность при погрузке, бутылка коньяку, пьяный рулевой, подмена капитаном рулевого, более чем неловкий поворот руля. Подвиг Клюбена, оставшегося на пароходе, потерпевшем крушение, превращался в мошенническую уловку. Впрочем, Клюбен был сам обманут рифом.
Если допустить злой умысел, то станет понятно, почему он выбрал именно утесы Гануа – оттуда легко доплыть до берега; понятно посещение заколдованного дома – там можно дождаться удобной минуты для побега. Саквояж, приготовленный на случай надобности, был вещественным тому доказательством. Но что за нить связывала это происшествие с другим, с исчезновением берегового сторожа, так и не удалось уловить.
Чувствовалось, что он имел какое-то отношение к этому делу, и больше ничего. И все же сторож номер 619, видимо, сыграл роль жертвы в какой-то трагедии. Может быть, Клюбен и не выступал в ней, но, несомненно, прятался за кулисами.
Не все, впрочем, объяснялось злым умыслом. Так, револьвер остался без употребления. Он, очевидно, был предназначен для чего-то другого.
Чутье у народа тонкое и верное. Общественный инстинкт превосходно восстанавливает истину по обрывкам и крупицам сведений. Однако факты, говорившие о возможности злого умысла, внушали серьезное сомнение.
Все как будто было установлено, выяснено, но не хватало главного.
Кто погубит пароход из прихоти? Кто подвергнет себя всем опасным случайностям побега – поплывет навстречу туману, выбросится на риф, пустится вплавь до страшного убежища – без выгоды для себя? Но какую выгоду искал Клюбен?
Действия его были явны, причины же их скрыты.
У многих это вызвало сомнение. Там, где нет побудительной причины, казалось, нет и действия.
Тут был существенный пробел.
Теперь его восполнило письмо Рантена.
Письмо открыло причину поступков Клюбена. Этой причиной была кража семидесяти пяти тысяч франков.
Рантен выступил в роли бога из античной трагедии. Он спустился с облака с горящим факелом в руке.
Его письмо пролило свет на дело.
Оно все разъясняло и вдобавок оповещало о свидетеле-гернсейце Айе Тостевене.
Оно же самым определенным образом указывало на назначение револьвера.
Без сомнения, Рантену все было доподлинно известно. Его письмо давало точное представление о происшедшем.
Не осталось никаких обстоятельств, оправдывавших злодейский поступок Клюбена. Он задумал крушение парохода; доказательством служил саквояж с запасом провизии, припрятанный им в доме привидений. И если даже допустить, что крушение было случайным и Клюбен в этом неповинен, то в последнюю минуту, решившись пожертвовать собой и остаться на гибнущем судне, не обязан ли он был отдать спасающимся в лодке пассажирам семьдесят пять тысяч франков для передачи Летьери? Истина открылась. Но что же произошло с Клюбеном? По всей вероятности, он стал жертвой собственной оплошности. Он, конечно, погиб на Дуврском рифе.








