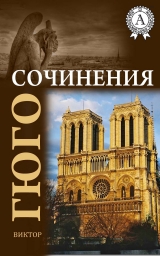
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 125 страниц)
Вдруг факел на вражеской батарее потух, и маркиз уже не мог ничего разглядеть в сгустившемся мраке.
– Ну, погоди! – проворчал он.
И, обернувшись к своим пушкарям-крестьянам, скомандовал:
– Картечь!
Говэн в свою очередь тоже был озабочен. Положение осложнилось. Бой вступил в новую стадию. Теперь баррикада бьет из орудий. Кто знает, не перейдет ли враг от обороны к наступлению? Против него, за вычетом убитых и бежавших с поля битвы, было не меньше пяти тысяч человек, а в его распоряжении осталось всего тысяча двести солдат. Что станется с республиканцами, если враг заметит, как ничтожно их число? Тогда роли могут перемениться. Из атакующего республиканский отряд превратится в атакуемого. Если вандейцы предпримут вылазку, тогда всему конец.
Что же делать? Нечего и думать штурмовать баррикаду в лоб; идти на приступ было химерой – тысяча двести человек не могут выбить из укрепления пять тысяч. Штурм – бессмыслица, промедление – гибель. Необходимо принять решение. Но какое?
Говэн был уроженцем Бретани и не раз заглядывал в Доль. Он знал, что к старому рынку, где засели вандейцы, примыкает целый лабиринт узеньких кривых уличек.
Он обернулся к своему помощнику, доблестному капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников Консизский лес, где родился Жан Шуан, преградил вандейцам дорогу к Шэнскому озеру и тем самым спас от падения Бурнеф.
– Гешан, передаю вам командование боем, – сказал он. – Ведите все время огонь. Разбейте баррикаду пушечными выстрелами, отвлеките всю эту банду.
– Понимаю, – ответил Гешан.
– Весь отряд собрать, ружья зарядить, подготовиться к атаке.
И, пригнувшись к уху Гешана, он шепнул ему несколько слов.
– Решено, – ответил Гешан.
Говэн продолжал:
– Все наши барабанщики живы?
– Все.
– У нас их девять человек. Оставьте себе двоих, а семеро пойдут со мной.
Семеро барабанщиков молча подошли и выстроились перед Говэном.
Тогда Говэн прокричал громовым голосом:
– Батальон Красный Колпак, за мной!
Одиннадцать человек под началом сержанта выступили из рядов.
– Я вызывал весь батальон, – сказал Говэн.
– Батальон в полном составе, – ответил сержант.
– Как! Вас всего двенадцать человек?
– Осталось двенадцать.
– Пусть будет так, – сказал Говэн.
Сержант, выступивший вперед, был славный и храбрый вояка Радуб, тот самый Радуб, который от имени батальона усыновил троих ребятишек, найденных в Содрейском лесу.
Добрая половина батальона, если читатель помнит, была перебита на ферме «Соломинка», но Радуб по счастливой случайности уцелел.
Неподалеку стояла телега с фуражом. Говэн указал на нее сержанту.
– Пусть ваши люди наделают соломенных жгутов, велите обмотать ружья, чтобы ни одно не звякнуло на ходу.
Через минуту приказ был выполнен в полном молчании и в полной темноте.
– Готово, – доложил сержант.
– Солдаты, сапоги снять, – скомандовал Говэн.
– Нет у нас сапог, – ответил сержант.
Вместе с семью барабанщиками составился отряд из девятнадцати человек. Говэн был двадцатым.
– В колонну по одному стройсь! – скомандовал он. – За мной! Барабанщики, вперед, весь батальон за ними. Сержант, командование поручаю вам.
Он пошел в голове колонны, и, пока орудия били с обеих сторон, двадцать человек, скользя как тени, углубились в пустынные улички.
Некоторое время они шли, держась у стен. Городок, казалось, вымер; жители забились в погреба. Все двери на запоре, на всех окнах – ставни. Нигде ни огонька.
Вокруг была тишина и тем сильнее доносился грохот с главной улицы; орудийный бой продолжался, батарея республиканцев и баррикада роялистов яростно осыпали друг друга картечью.
Минут двадцать Говэн уверенно вел свой отряд в темноте по кривым переходам и, наконец, вышел на главную улицу, позади рынка.
Позицию вандейцев обошли. По ту сторону рынка не было никаких укреплений; вследствие неисправимой беспечности строителей баррикад рынок с тыла оставался открытым и незащищенным, поэтому не составляло труда войти под каменные своды, куда свезли несколько повозок с войсковым имуществом и в полной упряжке. Теперь Говэну и его двенадцати бойцам противостояло пять тысяч вандейцев, но с тыла.
Говэн шопотом отдал сержанту приказ; солдаты размотали солому, накрученную вокруг ружей; двенадцать гренадеров построились за углом улички в полном боевом порядке, и семь барабанщиков, подняв палочки, ждали только команды.
Орудийные выстрелы следовали один за другим через известные промежутки. Воспользовавшись минутой затишья между двумя залпами, Говэн вдруг выхватил шпагу и голосом, прозвучавшим в тишине как пронзительный призыв трубы, прокричал:
– Двести человек вправо, двести влево, остальные вперед!
Грянул залп из двенадцати ружей, семь барабанщиков забили «в атаку».
А Говэн бросил грозный клич синих:
– В штыки! За мной!
Началось нечто неслыханное.
Вандейское воинство вообразило, что его обошли и что с тыла подступают целые полчища врага. В ту же самую минуту, услышав барабанный бой, республиканский отряд под командованием Гешана, занимавший верхнюю часть улицы, двинулся вперед, – оставшиеся при нем барабанщики тоже забили «в атаку», – и быстрым шагом приблизился к баррикаде; вандейцы очутились между двух огней; паника склонна все преувеличивать: в момент паники ружейный выстрел кажется орудийным залпом, крик – загробным гласом, лай собаки – львиным рыком. Добавим, что страх вообще охватывает крестьян с такой же быстротой, как пламя – стог соломы, и с такой же быстротой, с какою от горящего стога пламя перекидывается на ближайшие предметы, крестьянин в страхе кидается в бегство. Бегство вандейцев было поистине паническим.
Через несколько минут рынок опустел, крестьяне словно испарились в воздухе, оставив офицеров в растерянности. Хотя Иманус и убил двух или трех беглецов, ничто не помогало, – вандейцы с криком: «Спасайся, кто может!» – растеклись по городу, будто вода сквозь сито, и исчезли в полях стремительно, как тучи, подхваченные ураганным ветром. Одни бежали по направлению к Шатонефу, другие – к Плерге, третьи – к Антрэну.
Маркиз де Лантенак молча следил за разбегавшимися воинами. Он собственноручно заклепал орудия и, уходя последним спокойной, размеренной поступью, холодно бросил: «Нет, на крестьянина надежда плоха. Без англичан нам не обойтись».
IV. Во второй раз
Республиканцы одержали полную победу.
Говэн повернулся к гренадерам батальона Красный Колпак и сказал:
– Вас всего двенадцать, а стоите вы тысячи!
Для солдата тех времен похвала командира была почетной наградой.
Гешан, по приказу Говэна, преследовал беглецов за пределами Доля и взял много пленных.
Солдаты зажгли факелы и стали осматривать город.
Не успевшие убежать вандейцы сдались на милость победителя. Главную улицу осветили плошками. Ее усеивали вперемежку убитые и раненые. Как и обычно в конце каждого сражения, кучки самых отчаянных смельчаков, окруженные неприятелем, еще отбивались, но и им пришлось сложить оружие.
В беспорядочном потоке беглецов внимание Говэна привлек один храбрец; ловкий и проворный, как фавн, он прикрывал бегство товарищей, а сам и не собирался бежать. Этот крестьянин, мастерски владея карабином, то стрелял, то глушил врага прикладом и действовал с такой силой, что приклад, наконец, сломался; тогда вандеец вооружился пистолетом, а другой рукой схватил саблю. Никто не решался подступиться к нему. Вдруг Говэн заметил, что вандеец пошатнулся и оперся спиной о столб. Должно быть, его ранило. Но он все еще орудовал саблей и пистолетом. Взяв шпагу подмышку, Говэн подошел к нему.
– Сдавайся, – сказал он.
Вандеец пристально взглянул на говорившего. Кровь, бежавшая из раны, пропитала куртку и лужей расплывалась у его ног.
– Ты мой пленник, – повторил Говэн.
Вандеец молчал.
– Как тебя звать?
– Звать «Пляши в тени».
– Ты храбрый малый, – сказал Говэн.
И протянул вандейцу руку.
Но тот воскликнул:
– Да здравствует король!
Собрав последние силы, он быстро вскинул обе руки, нажал курок, намереваясь всадить Говэну в сердце пулю, и одновременно взмахнул над его головой саблей.
Он действовал с проворством тигра, но кто-то оказался еще проворнее. То был всадник, подскакавший к полю битвы всего несколько секунд тому назад и никем не замеченный. Видя, что вандеец поднял пистолет и занес саблю, незнакомец бросился между ним и Говэном. Не подоспей он, лежать бы Говэну в могиле. Пуля попала в лошадь, а удар сабли пришелся по всаднику, и лошадь и всадник рухнули наземь. Все это произошло с молниеносной быстротой.
Вандеец тоже свалился на землю.
Удар сабли рассек лицо незнакомца, упавшего без чувств. Лошадь была убита наповал.
Говэн подошел к лежащему.
– Кто этот человек? – спросил он.
Он нагнулся и посмотрел на незнакомца. Кровь, струившаяся из раны, залила все лицо и застыла красной маской. Видны были лишь седые волосы.
– Этот человек спас мне жизнь, – продолжал Говэн. – Кто-нибудь знает его? Откуда он явился?
– Командир, – ответил один из солдат. – Он только что въехал в город, я сам видел. А прискакал он по дороге из Понторсона.
Полковой хирург со своей сумкой поспешил на помощь. Раненый по прежнему лежал без сознания. Хирург осмотрел его и заключил:
– Пустяки. Опасности нет. Зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Великолепный сабельный удар.
На раненом был плащ, трехцветный пояс, пара пистолетов и сабля. Его положили на носилки. Раздели. Кто-то принес ведро свежей воды, и хирург промыл рану: из-под кровавой маски показалось лицо. Говэн присматривался к незнакомцу с глубоким вниманием.
– Есть при нем бумаги? – спросил он.
Хирург нащупал в боковом кармане раненого бумажник, вытащил его и протянул Говэну.
Меж тем от холодной примочки раненый пришел в себя. Его веки слабо дрогнули.
Говэн перебирал бумаги незнакомца; вдруг он обнаружил листок, сложенный вчетверо, развернул его и прочел:
«Комитет общественного спасения. Гражданин Симурдэн…»
Он закричал:
– Симурдэн!
Этот крик достиг слуха раненого, и он открыл глаза.
Говэн задыхался от волнения.
– Симурдэн! Это вы! Во второй раз вы спасаете мне жизнь.
Симурдэн посмотрел на Говэна. Непередаваемая радость озарила его окровавленное лицо.
Говэн упал на колени возле раненого и воскликнул:
– Мой учитель!
– Твой отец, – промолвил Симурдэн.
V. Капля холодной воды
Они не виделись много лет, но сердца их не разлучались ни на минуту; они признали друг друга, будто расстались только вчера.
В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдэна уложили в маленькой комнатке, примыкавшей к просторному залу, где разместили раненых солдат. Хирург зашил рану и пресек взаимные излияния друзей, заявив, что больному необходим покой. Впрочем, и самого Говэна требовали десятки неотложных дел, которые составляют долг и заботу победителя. Симурдэн остался один, но не мог уснуть; его мучила лихорадка, он дрожал от озноба и от радостного волнения.
Он не спал, но ему казалось, что он грезит. Неужели это явь? Свершилась его мечта. Симурдэн, по самому складу характера, не верил в свою счастливую звезду, и вот она взошла. Он нашел своего Говэна. Он оставил ребенка, а увидел взрослого мужчину, грозного, отважного воина. Увидел его в минуту победы и победы, одержанной во имя народа. Говэн являл собой в Вандее опору революции, и это он, Симурдэн, своими собственными руками, создал этот столп республики. Этот победитель – его, Симурдэна, ученик. Он видел, как молодое лицо, быть может предназначенное украсить собой Пантеон Революции, озарялось отблеском мысли, и это также была его, симурдэнова, мысль; его ученик, детище его духа, уже и сейчас вправе называться героем, и, кто знает, в скором времени он, быть может, прославит свою отчизну; Симурдэну казалось, что он узнает свою собственную душу в оболочке гения. Он только что любовался Говэном в бою, как Хирон Ахиллесом. Между священником и кентавром существует таинственное сходство, ибо и священник – человек только наполовину.
Недавнее ранение и бессонница – следствие сабельного удара – наполняли душу Симурдэна каким-то блаженным опьянением. Он видел, как, блистательный и великолепный, растет молодой герой, и радость была еще полнее от сознания своей власти над его судьбою; еще одна такая победа, и тогда Симурдэну достаточно будет сказать слово, чтобы республика поручила Говэну командование целой армией. Когда все чаяния человека сбываются, он как бы слепнет на миг от изумления. В ту пору каждый бредил воинской славой, каждый желал создать своего полководца: Дантон выдвинул Вестермана, Марат – Россиньоля, Эбер – Ронсана, а Робеспьер желал со всеми ними разделаться. «Почему бы и не Говэн?» – думалось Симурдэну, и он погружался в мечты. Ничто их не стесняло, Симурдэн переходил от одной грезы к другой; сами собой рушились все помехи; стоит только начать грезить, и уже трудно остановиться на полпути, впереди бесконечно высокая лестница, – и, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, восходишь к звездам. Великий генерал руководит лишь в сфере военной; великий полководец руководит также и в сфере идей. Симурдэн мечтал о Говэне-полководце. Он уже видел, – ведь мечта быстрокрыла, – как Говэн разбивает на море англичан, как на Рейне он карает северных монархов, как в Пиренеях теснит испанцев, в Альпах призывает Рим к восстанию. В Симурдэне жило два человека – один с нежной душой, а другой – суровый, и оба были ныне равно удовлетворены, ибо, подчиняясь своему идеалу непреклонности, он рисовал себе будущность Говэна столь же великолепной, сколь и грозной. Симурдэн думал обо всем, что придется разрушить, прежде чем строить новое, и говорил про себя: «Сейчас не время миндальничать». Говэн, как тогда говорили, «достигнет высот». И Симурдэну представлялся Говэн в светозарных латах, со сверкающей на челе звездою; попирая мрак, возносится он на мощных крыльях идеала – справедливости, разума и прогресса, а в руке сжимает обнаженный меч; он ангел, но ангел с карающей десницей.
Когда Симурдэн, размечтавшись, дошел почти до экстаза, он вдруг услышал через полуоткрытую дверь разговор в зале, превращенной в лазарет и примыкавшей к его комнатке; он сразу же узнал голос Говэна; все долгие годы разлуки этот голос звучал в ушах Симурдэна, и теперь в мужественных его раскатах ему чудился мальчишеский голосок. Симурдэн прислушался. Раздались шаги, затем заговорили наперебой солдаты:
– Вот, командир, тот самый человек, который в вас стрелял. Он спрятался в погреб. Но мы его отыскали. А ну-ка, покажись.
И Симурдэн услышал следующий диалог между Говэном и покушавшимся на его жизнь вандейцем:
– Ты ранен?
– У меня достаточно сил для того, чтобы пойти на расстрел.
– Уложите этого человека в постель. Перевяжите его раны, ухаживайте за ним, вылечите его.
– Я хочу умереть.
– Ты будешь жить. Ты хотел убить меня во славу короля, я дарую тебе жизнь во славу республики.
Тень омрачила чело Симурдэна. Он словно внезапно очнулся от сна и уныло пробормотал:
– Стало быть, он и вправду милосерден.
VI. Зажившая рана и кровоточащее сердце
Сабельный удар заживает быстро; но еще не зажили раны более глубокие, чем у Симурдэна. Мы говорим о расстрелянной женщине, которую на ферме «Соломинка» подобрал в луже крови старый нищий Тельмарш.
Тельмарш и не подозревал, что состояние Мишели Флешар куда серьезнее, чем ему показалось вначале. Пуля пробила ей грудь и вышла через лопатку, вторая пуля раздробила ключицу, а третья – плечевую кость; но поскольку легкое не было задето, оставалась надежда на выздоровление. Недаром крестьяне называли Тельмарша «философом», подразумевая под этим словом: немножко лекарь, немножко костоправ и немножко колдун. Он перенес раненую в свою нору, ухаживал за ней, уступил ей свое ложе из сухих водорослей, пользовал ее таинственными средствами, именуемыми обычно «простонародными», и благодаря ему она выжила.
Ключица срослась, раны в груди и на плече затянулись, и через несколько недель Мишель стала выздоравливать.
Как-то утром она, с помощью Тельмарша, выбралась из «пещерки» и присела на солнышке под деревом. Тельмарш мало что знал о своей гостье; при ранении в грудь предписывается полное молчание, да и сама раненая, бывшая почти при смерти, едва произносила несколько слов. А когда она пыталась заговорить с хозяином «пещерки», он всякий раз приказывал ей замолчать; но от старика не ускользнуло, что его гостья находится во власти каких-то неотвязных дум, и подмечал порой, как в глазах ее загорались и таяли мучительные воспоминания. В это утро она чувствовала себя лучше: она могла даже пройти несколько шагов без посторонней помощи; целитель – это почти отец, и Тельмарш с радостью глядел на свое детище. Добрый старик улыбнулся ей и завел разговор:
– Ну вот, мы и поправились. Теперь у нас все зажило.
– Только сердце не зажило, – ответила Мишель.
И добавила:
– Значит, вы совсем не знаете, где они?
– Кто они? – удивился Тельмарш.
– Мои дети.
Это «значит» заключало в себе целый мир мыслей; оно выражало: «Раз вы со мной о них не говорите, раз вы просидели у моего изголовья столько дней и даже ни разу не заикнулись о них, раз вы велите мне молчать, когда я пытаюсь расспросить вас, раз вы боитесь, что я о них спрошу, значит вам нечего мне ответить». Нередко в часы бреда, лихорадки, болезненного полузабытья она звала своих детей, и она заметила, – ибо в бреду человек по-своему наблюдателен, – что старик не отвечает на ее вопросы.
Но Тельмарш и в самом деле не мог ничего ей сказать. Не так-то легко говорить с матерью о ее пропавших детях. Да и что он знал? Ничего. Знал только, что какую-то женщину расстреляли, он сам нашел ее распростертою на земле, подобрал почти бездыханной, знал также, что она мать троих детей и что маркиз де Лантенак, приказав расстрелять мать, увел с собою детей. Этим и исчерпывались все его сведения. Что сталось с детьми? Живы они или нет? Узнал он из расспросов и то, что увели двух мальчиков и девочку, недавно отнятую от груди. И ничего больше. Он сам ломал голову над судьбой злосчастных малюток и терялся в догадках. В ответ на все его расспросы крестьяне молча покачивали головой. Не такой был человек господин де Лантенак, чтобы зря судачить о нем.
Да, в округе неохотно говорили о Лантенаке и так же неохотно говорили и с Тельмаршем. Крестьяне – народ подозрительный. Они не любили Тельмарша. Тельмарш-Нищеброд внушал им какую-то тревогу. С чего это он вечно смотрит на небо? Что он делает, о чем думает, когда полдня торчит в лесу, как пень, и не шелохнется? Ясно – все это неспроста. В здешнем краю, охваченном войной, смутой и огнем пожарищ, где у каждого была одна забота – уничтожать и одно занятие – резать, где все наперегонки старались поджечь дом, перебить семью, заколоть вражеский караул, разграбить поселок, где каждый думал лишь о том, как бы устроить другому засаду, завлечь в ловушку и убить недруга, пока он тебя не убил, – этот отшельник, этот созерцатель природы, сливавшийся душой с необъятным покоем всего сущего, этот собиратель трав и кореньев, этот друг цветка, птицы и звезды был, само собой разумеется, человеком весьма опасным. Сразу видно, что он не в своем уме: не выслеживает врага, притаившись за кустом, ни в кого не стреляет… Немудрено, что он внушал крестьянам страх.
– Умом повредился, – говорили прохожие.
Тельмарш жил на положении человека не только одинокого среди людей, но избегаемого людьми.
К нему не обращались с вопросами, и на его вопросы не отвечали. Так что при всем желании он не мог бы много разузнать. Война ушла из их округи в соседние, теперь люди бились где-то далеко, маркиз де Лантенак исчез с горизонта, а такой человек, как Тельмарш, замечает войну лишь тогда, когда она придавит его своей пятою.
Услышав слова «мои дети», Тельмарш перестал улыбаться, а мать углубилась в свои думы. Что происходило в ее душе? Она словно пребывала на дне пропасти. Вдруг она подняла на Тельмарша взор и снова воскликнула – на этот раз почти гневно:
– Мои дети!
Тельмарш опустил голову, точно виноватый.
Он думал о маркизе де Лантенаке, который, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл о его существовании. Тельмарш понимал это и твердил про себя: «Когда господа в опасности, они вас отлично знают; когда опасность миновала, они с вами и не знакомы».
Он спрашивал себя: «Зачем же в таком случае я спас маркиза?»
И отвечал себе: «Потому что он человек».
Он думал и думал, и снова перед ним возникал вопрос: «Да полно, человек ли он?»
И вновь он повторял про себя горькие слова: «Если бы я только знал!»
Случившееся угнетало его, ибо все, что он совершил тогда, стало для него самого неразрешимой загадкой. Он мучительно думал. Значит, добрый поступок может оказаться дурным поступком. Кто спасает волка, – убивает ягнят. Кто выхаживает коршуна с подбитым крылом, тот сам оттачивает его когти.
Он почувствовал себя и впрямь виноватым. Эта мать, в своем неразумном гневе, права.
Однако он спас ей жизнь, и это в какой-то мере извиняло его в том, что он спас жизнь маркиза.
А дети?
Мать тоже задумалась. И хотя оба молчали, мысли их текли в одном направлении, и, быть может, им суждено было встретиться где-то там, в глубине их общего тяжелого раздумья.
Но вот она снова подняла на Тельмарша темный, как ночь, взгляд.
– Что же это такое делается? – воскликнула она.
– Тс! – сказал Тельмарш, приложив палец к губам.
Но она продолжала:
– Напрасно вы меня спасли, я на вас в обиде. Лучше бы мне умереть, тогда бы я хоть оттуда видела их. Я знала бы, где они. Они бы меня не видели, но я бы все время была с ними. Мертвая, я бы им стала заступницей.
Тельмарш взял ее за руку и пощупал пульс.
– Успокойтесь, не то снова лихорадка начнется.
Она спросила его почти сурово:
– Когда я могу уйти?
– Уйти?
– Ну да. Прочь уйти.
– Никогда, если не будете вести себя благоразумно. А если будете умницей – завтра же.
– А что значит быть умницей?
– Во всем полагаться на бога.
– На бога! А куда он дел моих детей?
Она была словно в бреду. И заговорила тихим голосом:
– Поймите, не могу я оставаться здесь. У вас нет детей, а у меня были. А это разница. Нельзя судить о том, чего сам не испытал. Ведь нет у вас детей, нет?
– Нет, – ответил Тельмарш.
– А у меня только и было что дети. Что я такое без детей? Да объясните мне хоть кто-нибудь, почему нет моих детей? Чувствую, что-то случилось, а понять не могу. Мужа моего убили, меня расстреляли, – и все-таки я ничего не пойму.
– Ну вот, опять лихорадка началась, – сказал Тельмарш. – Вам вредно так много говорить.
Она взглянула на него и замолчала.
С этого дня она вообще перестала говорить.
Тельмарш уже не рад был, что велел ей молчать. Целые часы она в оцепенении сидела, скорчившись, у старого дуба. Она думала о чем-то и молчала. Молчание – прибежище простых душ, вступивших в зловещие недра скорби. Казалось, она не желает ничего понимать. Дойдя до известной глубины отчаянья, отчаявшийся уже не сознает этой глубины.
Тельмарш с волнением следил за ней. Перед лицом такого страдания душе старика открылась душа матери. «Да, – думал он, – уста ее безмолвны, но глаза говорят: я понимаю, какая мысль неотвязно мучит ее. Быть матерью и перестать быть ею! Кормить младенца и перестать кормить! Нет, не может она смириться. Она думает о малютке, которую еще так недавно отняла от груди. О ней она думает, о ней, о ней. И в самом деле, как должно быть сладостно чувствовать у своей груди крохотные розовые губки и с радостью отдавать вместе с материнским молоком всю себя, отдавать свою жизнь, чтобы младенцу жить и крепнуть».
И Тельмарш тоже молчал, он понял, как бессильны перед такой смертельной тоской все людские слова. Одержимый страшен своей молчаливостью. И можно ли заставить одержимую горем мать прислушаться к голосу рассудка? Материнство замкнуто в самом себе; с ним нельзя спорить. Мать чем-то близка к животному, и потому она так возвышенно прекрасна. Материнский инстинкт есть инстинкт в самом божественном смысле этого слова. Мать уже не женщина, мать – это самка.
Дети – это детеныши.
Потому-то в каждой матери есть нечто, что ниже рассудка и в то же время выше его. Мать наделена особым чутьем. В ней живет могучая и неосознанная воля к созиданию, и эта воля ведет ее. В слепоте матери есть что-то от ясновиденья.
Теперь уже сам Тельмарш старался вызвать бедняжку на разговор; но все его попытки были тщетны. Однажды он сказал:
– К несчастью, я старик и не могу много ходить. Я устаю, когда и уставать-то не от чего. Иной раз походишь с четверть часа, и ноги уже не слушаются; хочешь не хочешь, приходится присесть отдохнуть, а то я бы непременно пошел с вами. Впрочем, может быть, моя немощь и к лучшему. От меня вам, пожалуй, будет больше вреда, чем пользы; здесь ко мне притерпелись; но синие относятся ко мне с подозрением – мужик, мол, а крестьяне считают колдуном.
Он ждал ответа. Но она даже не взглянула в его сторону.
Навязчивая мысль приводит или к безумию, или к героизму. Но какой героический поступок способна совершить крестьянка? Увы, никакой. Она может быть лишь матерью, и только матерью. С каждым днем она все больше уходила в себя. А Тельмарш наблюдал за ней.
Он пытался развлечь ее; он принес ей ниток, иголку, наперсток, и, желая доставить удовольствие бедному старику, она взялась за шитье; она по прежнему была погружена в свои мысли, но работала – верный признак выздоровления; силы мало-помалу возвращались к ней; она перештопала свое белье, зачинила платье и башмаки, но глаза ее глядели стеклянным, невидящим взглядом. Иногда за работой она потихоньку напевала какие-то песенки, бормотала какие-то имена, должно быть имена своих детей, но Тельмарш ничего не мог разобрать. Временами она бросала шить и прислушивалась к пению птиц, словно надеясь, что они прощебечут ей долгожданную весть. Она смотрела на небо, не идут ли тучи, не будет ли непогоды. Губы ее беззвучно шевелились. Она о чем-то тихонько говорила сама с собой. Она сшила мешок и доверху набила его каштанами. Однажды утром Тельмарш увидел, что она тронулась в путь, глядя неподвижным взором в лесную чащу.
– Куда вы? – крикнул он.
– Иду за ними, – ответила она.
Он не пытался ее удержать.
VII. Два полюса истины
По прошествии нескольких недель, полных превратностей гражданской войны, во всем Фужерском краю только и было разговоров о том, как два человека, разные во всем, творили одно и то же дело, иначе сказать бились бок о бок в великой революционной битве.
Еще длился кровавый вандейский поединок, но под ногами вандейцев уже горела земля. В Иль-э-Вилэне после победы молодого полководца, столь умело противопоставившего в городке Доль отваге шести тысяч роялистов отвагу полутора тысяч патриотов, восстание если не совсем утихло, то во всяком случае действовало на сузившемся и ограниченном пространстве. Вслед за дольским ударом воспоследовали другие военные удачи, и благодаря этому сложилась новая ситуация.
Обстановка резко изменилась, но одновременно возникло и своеобразное осложнение.
Во всей этой части Вандеи республика взяла верх – в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но какая республика? В свете близкой уже победы обрисовывались две формы республики: республика террора и республика милосердия, одна стремилась победить суровостью, а другая кротостью. Какая же возобладает? Обе эти формы – примирение и беспощадность – были представлены двумя людьми, причем каждый пользовался и влиянием и авторитетом: один – военачальник, второй – гражданский делегат; какому из двух суждено было восторжествовать? Один из них – делегат, имел могучую и страшную поддержку; он привез грозный наказ Коммуны Парижа батальонам Сантерра: «Ни пощады, ни снисхождения!» Для вящего авторитета ему был дан декрет Конвента, гласивший: «Смертная казнь каждому, кто отпустит на свободу или будет способствовать бегству одного из пленных вождей мятежников»; он был облечен полномочиями Комитета общественного спасения и приказом за тремя подписями: Робеспьер, Дантон, Марат. На стороне другого была лишь сила милосердия.
За него были только его рука, разящая врагов, и сердце, милующее их. Победитель, он считал себя вправе щадить побежденного.
Так начался скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Оба они парили каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж, и каждый карал его своим мечом – один победоносно на поле боя, другой – террором.
По всей Дубраве только и говорили о них; и устремленные отовсюду взоры следили за их действиями с тем большей тревогой, что два эти человека, столь различные во всем, были в то же время связаны неразрывными узами. Эти два противника были и двумя друзьями. Никогда чувство, более возвышенное и глубокое, не соединяло двух сердец; беспощадный спас жизнь милосердному и поплатился за это рубцом на лице. Эти два человека воплощали: один – смерть, второй – жизнь; один олицетворял принцип устрашения, второй – принцип примирения, и оба любили друг друга. Странное противоречие! Вообразите себе милосердного Ореста и беспощадного Пилада. Вообразите Аримана родным братом Ормузда.
Добавим, что тот, кого именовали «жестоким», был также и самым мягкосердечным из людей; он собственноручно перевязывал раненых, выхаживал недужных, сутками не выходил из походных госпиталей и лазаретов; не мог без слез видеть какого-нибудь босоногого мальчонку и ничего не имел, так как раздавал бедным все, что у него было. Когда начиналась битва, он первым бросался в бой, он шел впереди солдат, кидался в самую гущу схватки, вооруженный двумя пистолетами и саблей и в то же время безоружный, ибо никто ни разу не видел, чтобы он вытащил саблю из ножен или выстрелил из пистолета. Он смело встречал удары, но не возвращал их. Ходил слух, что он был священником.
Один из них был Говэн, другой – Симурдэн.
Дружба царила меж этими двумя людьми, но меж двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки; и действительно, Симурдэн словно отдал Говэну половину души – ту, что являла собой кротость. Светлый ее луч почил на Говэне, а черный луч, если только бывают черные лучи, Симурдэн оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война рано или поздно должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась.
Симурдэн спросил:
– Каково положение дел?
Говэн ответил:
– Вы знаете это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенака. При нем теперь всего горстка людей. Мы загнали их в Фужерский лес. И через неделю окружим.
– А через две недели?
– Возьмем его в плен.
– А потом?
– Вы читали мое объявление?
– Читал. Ну и что же?
– Он будет расстрелян.
– Опять милосердие! Лантенак должен быть гильотинирован.








