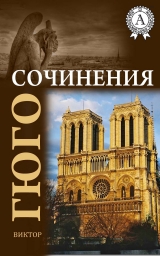
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 125 страниц)
– Клянусь душой! – воскликнул Гренгуар. – Мы бодры и веселы, как сычи! Молчим, как пифагорейцы или рыбы! Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил! Звук человеческого голоса – это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, – блестящее изречение!.. Дидим Александрийский – незаурядный философ, это не подлежит сомнению… Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово!.. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску! Скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты, и вы подвергались большой опасности в вашей келейке в Соборе Богоматери? Колибри вьет гнездышко в пасти крокодила!.. Учитель! А вот и луна выплывает… Только бы нас не приметили!.. Мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы! Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Катилину. Не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию инстинктивно, как пчелы геометрию, ut apes geometriam Ну что? Никто мне не отвечает? Вы оба, я вижу, не в духе! Приходится болтать одному. В трагедиях это именуется монологом. Клянусь Пасхой!.. Надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика Одиннадцатого и от него перенял эту божбу… Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Сите!.. Противный злюка этот старый король! Он весь запеленут в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером, а это было бы очень некстати… Он скряга и скупится на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть четыре тома Adversus avari tiam [580] Сальвиана Кельнского. Право, у него очень узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая то губка для высасывания денег из народа. Его казна – это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов. Вот почему жалобы на плохие времена превращаются в ропот на короля. Под властью этого благочестивого тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи гниют от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы! Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина Налога и государыни Виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков обременяют все новыми и новыми поборами Этот король ни в чем не знает меры! Не люблю я этого монарха. А вы, учитель?
Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Сите от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика.
– Кстати, учитель! – вдруг спохватился Гренгуар. – Заметили ли вы, ваше высокопреподобие, когда мы пробивались сквозь толпу взбесившихся бродяг, бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не мог его опознать. Кто бы это мог быть?
Незнакомец не ответил, но внезапно выпустил весла, руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слышала эти вздохи.
Лодка, предоставленная самой себе, несколько минут плыла по течению. Но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и направил лодку вверх по течению. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани.
– А, вот и особняк Барбо! – сказал Гренгуар. – Глядите, учитель! Видите эти черные крыши, образующие такие причудливые углы, – вон там, под низко нависшими, волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит раздавленная, расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца? Это прекрасное здание В нем есть часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад – там и пруд, и птичник, и «эхо», площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей, весьма любезных богине Венере. Есть там и любопытное дерево, которое называют «Сластолюбец», ибо оно своею сенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного коннетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед каким-нибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра Впрочем, это не имеет значения! Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется с дактилем. Учитель! Я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагически. Дело происходило в тысяча триста девятнадцатом году, в царствование Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль этого повествования заключается в том, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были ваши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности это удовлетворенное любопытство к наслаждению, которое испытывает другой… Ого! А шум-то все усиливается!
Действительно, суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали, и вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы: «Цыганка! Ведьма! Смерть цыганке!»
Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу Тем временем наш философ предался размышлениям. Он прижимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное, последнее ее прибежище.
Гренгуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что, «по существующим законам», козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена и что ему будет очень жаль бедняжку Джали; что двух жертв, ухватившихся за него, многовато для одного человека, что его спутник ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу; как Юпитер в Илиаде, он взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую влажными от слез глазами, бормоча: «Но я ведь не могу спасти вас обеих!»
Резкий толчок дал им знать, что лодка наконец причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Сите. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Гренгуара, а тот, весь отдавшись заботам о козочке, почти оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выпрыгнула из лодки. Она была очень взволнована и не понимала, что делает, куда надо идти. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки Когда же она пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Грекгуар воспользовался моментом высадки на берег и скрылся вместе с козочкой среди жавшихся друг к другу домов Складской улицы.
Бедная цыганка затрепетала, оставшись наедине с этим человеком. Ей хотелось крикнуть, позвать Гренгуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Зубы у нее застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила рока непреодолима. Ее охватила слабость, она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за ним. Набережная шла в гору А ей казалось, что она спускается по крутому откосу.
Она огляделась вокруг Ни одного прохожего Набережная была совершенно безлюдна. Шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Сите, от которого ее отделял рукав Сены Оттуда доносилось ее имя вперемежку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака.
Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула:
– Помогите!
Какой-то горожанин открыл окно, выглянул в одной рубашке, с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и опять захлопнул окно. Это был последний луч надежды, и тот угас.
Человек в черном не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал быстрее. Измученная, она уже не сопротивлялась и покорно следовала за ним.
Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала:
– Кто вы? Кто вы?
Он не отвечал.
Так шли они по набережной и дошли до какой-то довольно широкой площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится.
Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон.
– О! – пролепетала она, окаменев на месте. – Я так и знала, что это опять он.
То был священник. Он казался собственной тенью. Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками.
– Слушай! – сказал он, и она задрожала при звуке рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорило о его глубоком внутреннем волнении. – Слушай! Мы пришли. Я хочу тебе сказать… Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих – моя душа. Вот ночь и вот площадь, за их пределами пустота. Так выслушай же меня! Я хочу тебе сказать… Но только не упоминай о Фебе! (Не отпуская ее руки, он ходил взад и вперед, как человек, который не в силах стоять на месте.) Не упоминай о нем! Если ты произнесешь это имя, я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно!
Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, а голос становился все глуше:
– Не отворачивайся от меня. Слушай! Это очень важно. Во-первых, вот что произошло… Это вовсе не шутка, клянусь тебе… О чем я говорил? Напомни мне! Ах да! Есть постановление высшей судебной палаты, вновь посылающей тебя на виселицу. Я вырвал тебя из их рук. Но они преследуют тебя. Гляди!
Он протянул руку к Сите. Там продолжались поиски. Шум приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи, против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, слышались крики: «Цыганка! Где цыганка? Смерть ей! Смерть!»
– Ты видишь, что они ищут тебя и что я не лгу. Я люблю тебя. Молчи! Лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать!.. Я только что спас тебя… Подожди, дай мне договорить… Я могу спасти тебя Я все приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу…
Он резко оборвал свою речь:
– Нет, нет, не то я говорю!..
Быстрыми шагами, не отпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес:
– Выбирай между нами.
Она вырвалась из его рук и упала к подножию виселицы, обнимая эту зловещую, последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на божью матерь у подножия креста. Священник стоял недвижно, застывший, словно статуя, с поднятой рукой, указывавшей на виселицу.
Наконец цыганка проговорила:
– Я боюсь ее меньше, чем вас!
При этих словах рука его медленно опустилась, и, устремив безнадежный взгляд на камни мостовой, он прошептал:
– Если бы эти камни могли говорить, они сказали бы: «Этот человек воистину несчастен».
И снова обратился к девушке. Девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы, окутанная длинными своими волосами, не прерывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, составлявшие разительный контраст с надменной суровостью его лица.
– Я люблю вас! О, это правда! Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу? Увы, девушка, денно и нощно, денно и нощно пылает оно! Неужели тебе не жаль меня? Днем и ночью горит любовь – это пытка. О, как я страдаю, мое бедное дитя! Я заслуживаю сострадания, поверь мне. Ты видишь, что я говорю с тобой спокойно. Мне так хочется, чтобы ты не чувствовала ко мне отвращения! Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О боже! Как! Значит, ты никогда не простишь меня? Вечно будешь меня ненавидеть? Значит, все кончено? Вот почему я такой злобный, вот почему я страшен самому себе. Ты даже не глядишь на меня! Быть может, ты думаешь о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою перед тобой на пороге вечности, готовой поглотить нас обоих! Только не говори со мной об офицере! О! Пусть я паду к твоим ногам, пусть я буду лобзать, – не стопы твои, нет, этого ты мне не позволишь, – но землю, попираемую ими; пусть я, как ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди, – нет, не слова любви, а мое сердце, мою душу, – все будет напрасно, все! А между тем ты полна нежности и милосердия. Ты сияешь благостной кротостью, ты так пленительна, добра, сострадательна и прелестна! Увы! В твоем сердце живет жестокость лишь ко мне одному! О, какая судьба!
Он закрыл лицо руками. Девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз. Стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий, он был более жалок, чем если бы пал перед ней с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время.
– Нет, – несколько успокоившись, снова заговорил он, – я не нахожу нужных слов. Ведь я хорошо обдумал то, что должен был сказать тебе. А сейчас дрожу, трепещу, слабею, в решительную минуту чувствую какую-то высшую силу над нами, у меня заплетается язык. О, я сейчас упаду наземь, если ты не сжалишься надо мной, над собой! Не губи себя и меня! Если бы ты знала, как я люблю тебя! Какое сердце я отдаю тебе! О, какое полное отречение от всякой добродетели! Какое неслыханное небрежение к себе! Ученый – я надругался над наукой; дворянин – я опозорил свое имя; священнослужитель – я превратил требник в подушку для похотливых грез; я плюнул в лицо своему богу! Вся для тебя, чаровница! Чтобы быть достойным твоего ада! А ты отвергаешь грешника! О, я должен сказать тебе все! Еще более… нечто еще более ужасное! О да, еще более ужасное!..
Его лицо исказилось безумием. Он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе:
– Каин! Что сделал ты с братом своим?
Он опять замолк, потом продолжал:
– Что сделал я с ним. Господи? Я призрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил! Да, Господи, вот только что, на моих глазах, ему размозжили голову о плиты твоего дома, и это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине…
Его взор был дик. Его голос угасал. Он еще несколько раз, через долгие промежутки, словно колокол, длящий последний звук, повторил:
– По ее вине… По ее вине…
Потом он уже не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы его еще шевелились. Вдруг ноги у него подкосились, он рухнул на землю и, уронив голову на колени, остался неподвижен.
Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукою по впалым щекам и некоторое время с изумлением смотрел на свои мокрые пальцы.
– Что это? – прошептал он. – Я плакал!
Внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес:
– И ты равнодушно глядела на мои слезы! О, дитя, знаешь ли ты, что эти слезы – кипящая лава? Значит, это правда! Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я умирал на твоих глазах, ты бы смеялась. О нет! Я не хочу тебя видеть умирающей! Одно слово! Одно лишь слово прощения! Не говори мне, что ты любишь меня, скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет… О! Время бежит. Всем святым заклинаю тебя: не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя! Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить! Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы преследовать тебя вечно! Одно-единственное доброе слово! Скажи слово, одно только слово!
Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слову сострадания, которое, быть может, сорвется, наконец, с ее губ.
– Вы убийца! – проговорила она.
Священник сдавил ее в объятиях и разразился отвратительным хохотом.
– Ну, хорошо! Убийца! – сказал он. – Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей! У меня есть берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной! Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя! Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне! Принадлежать священнику, вероотступнику, убийце! И сегодня же ночью, слышишь? Идем! Веселей! Идем! Поцелуй меня, глупенькая! Могила – или мое ложе!
Его взор сверкал вожделением и яростью. Губы похотливо впивались в шею девушки. Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями.
– Не смей меня кусать, чудовище! – кричала она. – Гнусный, грязный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо.
Он покраснел, потом побледнел, наконец отпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала:
– Я принадлежу моему Фебу, я люблю Феба, Феб прекрасен! А ты, поп, стар! Ты уродлив! Уйди!
Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом.
– Так умри же! – вскричал он, заскрипев зубами.
Она увидела его страшный взгляд и побежала. Он поймал ее, встряхнул, бросил на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся:
– Спрашиваю тебя в последний раз: согласна ты быть моею?
Она ответила твердо:
– Нет.
Тогда он громко крикнул:
– Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей!
Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене; эта рука схватила ее, словно клещами.
– Держи ее крепко! – сказал священник. – Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят.
– Ха-ха-ха-ха! – послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей.
Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с необычайной силой. Худые, костлявые пальцы сомкнулись и впились в ее руку. Казалось, рука затворницы была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо, – то были мыслящие, одушевленные клещи, выступавшие из камня.
Обессилев, Эсмеральда прислонилась к стене, и тут ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба – обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней: о священнике, ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «Ага, ага! Тебя повесят!»
Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы.
– Что я вам сделала? – спросила она, почти теряя сознание.
Затворница не ответила; она возбужденно и насмешливо, нараспев забормотала:
– Цыганка, цыганка, цыганка!
Несчастная Эсмеральда поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого.
Внезапно затворница, словно вопрос цыганки только сейчас дошел до ее сознания, воскликнула:
– Ты хочешь знать, что ты мне сделала? А! Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай! У меня был ребенок! Понимаешь? Ребенок был у меня! Ребенок, говорят тебе!.. Прелестная девочка! Моя Агнесса, продолжала она взволнованно, целуя какой-то предмет в темноте. – И вот, видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя. Мое дитя сожрали! Вот что ты мне сделала.
Девушка робко промолвила:
– Быть может, меня тогда еще не было на свете!
– О нет! – возразила затворница. – Ты уже жила. Она была бы тебе ровесницей! Вот уже пятнадцать лет, как я нахожусь здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет я молюсь, пятнадцать лет бьюсь головой о стены… Говорят тебе: моего ребенка украли цыгане, слышишь? Они его загрызли… У тебя есть сердце? Так представь себе, что такое дитя, которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность! Так вот! Его у меня отняли и убили! Про это знает господь бог!.. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку! Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки! Моя голова через них не пролезет… Бедная малютка! Ее украли сонную! А если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно: меня там не было!.. Ага, цыганки, вы сожрали мое дитя! Теперь идите смотреть, как умрет ваше!
Невозможно было понять, хохочет или лязгает зубами это разъяренное существо. День только еще занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега, от моста Богоматери, все явственнее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.
– Сударыня! – воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растерзанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. – Сударыня, сжальтесь надо мной! Они приближаются! Я ничего вам не сделала! Неужели вы хотите, чтобы я умерла на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, что в вашем сердце есть жалость! Мне страшно! Дайте мне убежать! Отпустите меня! Сжальтесь! Я не хочу умирать!
– Отдай моего ребенка! – твердила затворница.
– Сжальтесь! Сжальтесь!
– Отдай ребенка!
– Отпустите меня, ради бога!
– Отдай ребенка!
Обессилевшая, сломленная, девушка опять повалилась на землю; глаза ее казались стеклянными, как у мертвой.
– Увы! – пролепетала она. – Вы ищете свою дочь, а я своих родителей.
– Отдай мою крошку Агнессу! – продолжала Гудула. – Ты не знаешь, где она? Так умри! Я объясню тебе. Послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли! Это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть? Когда твоя мать-цыганка придет за тобой, я скажу ей: «Мать, погляди на эту виселицу!» А может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок, – это все, что мне от нее осталось. Ты не знаешь, где другой? Если знаешь, скажи, и если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях.
Произнося эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть его форму и цвет.
– Покажите мне башмачок! – сказала, трепеща, цыганка. – Боже мой! Боже!
Свободной рукой она быстрым движением раскрыла украшенную зелеными бусами ладанку, которая висела у нее на шее.
– Ладно! Ладно! – ворчала про себя Гудула. – Хватайся за свой дьявольский амулет!
Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души:
– Дочь моя!
Цыганка вынула из ладанки точь-в-точь такой же башмачок. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано заклятие:
Еще один такой найди,
И мать прижмет тебя к груди.
Мгновенно сличив башмачки и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сиявшим неземным счастьем.
– Дочь моя! Дочь моя! – крикнула она.
– Мать моя! – ответила цыганка.
Перо бессильно описать эту встречу.
Стена и железные прутья решетки разделяли их.
– О эта стена! – воскликнула затворница. – Видеть тебя и не обнять! Дай руку! Дай руку!
Девушка просунула в оконце руку, затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам сотрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку темный, бездонный таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей пятнадцать лет копилась ее мука.
Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась обеими руками, яростнее, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не подавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами, сломался. Второй удар надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Старуха голыми руками сломала оставшиеся прутья и согнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой.
Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более одной минуты, она схватила дочь за талию и втащила в свою нору.
– Сюда! Я спасу тебя от гибели! – бормотала она.
Осторожно опустив дочь на землю, затворница снова подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнессой. Она ходила взад и вперед по узкой келье, опьяненная, обезумевшая, торжествующая. Придя в неистовство, она кричала, пела, целовала дочь, что-то говорила ей, разражалась хохотом, исходила слезами.
– Дочь моя! Дочь моя! – говорила она. – Моя дочь со мной! Вот она! Милосердный Господь вернул мне ее. Эй вы! Идите все сюда! Есть там кто-нибудь? Пусть взглянет, моя дочь со мной! Иисусе сладчайший, как она прекрасна! Пятнадцать лет ты заставил меня ждать, милосердный боже, для того, чтобы вернуть ее мне красавицей. Так, значит, цыганки не сожрали eel Кто же это выдумал? Доченька! Доченька, поцелуй меня! Добрые цыганки! Я люблю цыганок… Да, это ты! Так вот почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо! А я-то думала, что это от ненависти! Прости меня, моя Агнесса, прости меня! Я казалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя… Где твоя крошечная родинка на шейке, где она? Покажи! Вот она! О, как ты прекрасна! Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня. Я люблю тебя! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь. Вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? О, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники! Пятнадцать лет я плакала. Вся красота моя истаяла – и вновь расцвела в ней. Поцелуй меня!
Она шептала ей безумные слова, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та краснела; она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Девушка подчинялась всему и лишь изредка тихонько, с бесконечной нежностью повторяла:
– Матушка!
– Видишь ли, доченька, – говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, – я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда. Мы будем счастливы! Я получила кое-какое наследство в Реймсе, на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах нет, ты не можешь его помнить, ты была еще крошкой! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими приходили даже из Эперне, а ведь это за семь лье от Реймса! У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог этому поверить! Моя дочь со мной!
– Матушка! – продолжала девушка, справившись, наконец, со своим волнением. – Цыганка все это мне предсказывала. Была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне, как кормилица, – она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: «Малютка! Береги эту вещичку. Это сокровище. Она поможет тебе найти мать. Ты носишь мать свою на груди». Цыганка это предсказала!
Вретишница вновь сжала дочь в объятиях.
– Дай я тебя поцелую! Ты так мило все это рассказываешь! Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной пречистой Девы. Боже мой! Какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, твоя речь звучала, как музыка! Боже всемогущий! Я нашла своего ребенка! Это невероятно! Если я не умерла от такого счастья, от чего же тогда можно умереть?
И тут она опять принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать:
– Мы будем счастливы!
В эту минуту со стороны моста Богоматери и с набережной в келью донеслись бряцанье оружия и все приближавшийся конский топот. Цыганка в отчаянии бросилась в объятия вретишницы:
– Матушка! Спаси меня! Они идут!
Затворница побледнела.
– О небо! Что ты говоришь! Я совсем забыла. За тобой гонятся! Что же ты сделала?
– Не знаю, – ответила несчастная девушка, – но меня приговорили к смерти.
– К смерти! – воскликнула Гудула, пошатнувшись, словно сраженная молнией. – К смерти! – медленно повторила она, пристально глядя на дочь.
– Да, матушка, – растерянно продолжала девушка. – Они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица – для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко! Спаси меня!
Затворница несколько мгновений стояла, словно каменное изваяние, затем, с сомнением покачав головой, разразилась хохотом, своим ужасным прежним хохотом:
– О! О! Нет, ты бредишь! Как бы не так! Потерять ее – и чтобы это длилось пятнадцать лет, а потом найти – и только на одну минуту! И ее отберут у меня! Отнимут теперь, когда она прекрасна, когда она уже выросла, когда она говорит со мной, когда она любит меня! Они придут сожрать ее на моих глазах, на глазах матери! Нет! Это невозможно! Милосердный Господь не допустит этого.
Конный отряд, видимо, остановился, и чей-то голос крикнул издали:
– Сюда, господин Тристан! Священник сказал, что мы найдем ее возле Крысиной норы.
Снова послышался конский топот.
Затворница вскочила с отчаянным воплем.
– Беги! Беги, дитя мое! Я вспомнила все! Ты права. Это идет твоя смерть! О ужас! Проклятье! Беги!








