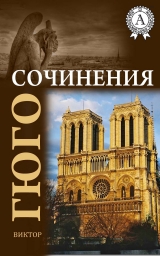
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 74 (всего у книги 125 страниц)
Надо было подменить раздражающее препятствие умиротворяющим.
Жильят, быстрый, как серна в горах или обезьяна в лесу, со свойственной ему ловкостью – а она сильнее силы, – пользуясь при головокружительных и опасных прыжках малейшим выступом, с веревкой в зубах и молотком в руке, то бросаясь в воду, то выскакивая из нее, плавая в бурунах, карабкаясь на скалу, отвязал перлинь, поддерживавший на весу уцелевший кусок борта Дюранды, плотно прилегавший к подножью Малого Дувра, сделал на концах перлиня нечто вроде петель и накинув их на огромные гвозди, вбитые заранее в гранит привязал его к скале; потом, повернув на этих петлях дощатое сооружение, похожее на подъемный затвор шлюза, поставил его боком, как перо руля, наперерез потоку, который толкнул и прижал один его край к Большому Дувру, тогда как другой держался на веревочных петлях у Малого Дувра; затем он укрепил свое заграждение на Большом Дувре, как это сделал на Малом, воспользовавшись вертикальным рядом гвоздей, тоже заранее вбитых в гранит, и крепко-накрепко принайтовил огромный деревянный щит к обоим утесам у входа в ущелье, накрест затянув цепь на этой плотине, словно перевязь на латах. Не прошло и часа, как перед приливом выросла преграда, и узкая улица в скалах точно закрылась воротами.
Жильят, воспользовавшись прибоем, с ловкостью настоящего акробата воздвиг этот мощный заслон, эту тяжелую громаду из балок и досок, которая, лежа на воде, была бы плотом а стоймя представляла собой стену. Фокус был проделан так быстро, что надвигающееся море, можно сказать, не успело опомниться.
Тут Жан Бар мог бы произнести те знаменитые слова с которыми он обращался к морским волнам всякий раз когда ему удавалось увернуться от кораблекрушения: «С носом остался, англичанин!» Известно, что, когда Жан Бар хотел оскорбить океан, он называл его «англичанином».
Перегородив теснину, Жильят подумал о ботике Он потравил канаты обоих якорей настолько, чтобы лодка могла подняться вместе с приливом; затем он проделал то, что в старину мореходы называли «завести шпринги». Жильят отнюдь не был застигнут врасплох, все было предусмотрено; знаток мог бы убедиться в этом по двум брам-гордень-блокам прикрепленным наподобие такель-блока к корме лодки; через них проходили два троса, концы которых были ввязаны в рымы обоих якорей.
Меж тем вода все прибывала; прилив рос, а в это время даже в тихую погоду удары волн достигают огромной силы То, что предвидел Жильят, сбылось. Вода яростно бросалась на заграждение, упиралась в него, дыбилась и пробивалась низом. В открытом море было волнение, в теснине – зыбь туда просачивались только струйки. Жилья? придумал что-то вроде Кавдинского ущелья [748] в море. Прилив был побежден.
VIII. Скорее осложнение, чем развязка
Опасная минута наступила.
Пора было спускать машину в лодку.
Несколько мгновений Жильят размышлял, обхватив лоб левой рукой и опираясь локтем о ладонь правой.
Потом взобрался на разрушенный пароход, одна часть которого, машина, должна была отделиться, а другая, корпус, – остаться на месте.
Он перерезал четыре стропа, прикреплявшие к правому и левому борту Дюранды четыре цепи трубы. Стропы были веревочные, нож справился с ними быстро.
Все четыре цепи, ничем не удерживаемые, свободно повисли вдоль трубы.
С Дюранды он быстро поднялся на свое сооружение, постучал ногой о балки, осмотрел тали, проверил блоки, ощупал канаты, потрогал подвязанные концы, удостоверился, что несмолепый трос не совсем промок, что все на месте, что все держится прочно, и, соскочив с балок на палубу, встал около шпиля на той части Дюранды, которую он оставлял на гибель. Тут-то и был его боевой пост.
Сосредоточенный, испытывая то волнение, которое помогает работе, он бросил последний взгляд на тали и, схватив напилок, стал перепиливать цепь, на которой все держалось.
В грохоте моря раздался скрежет напильника.
Цепь шпиля, привязанная к сей-талям, регулирующим движение, была прямо под рукой Жильята.
Вдруг послышался треск. Звено цепи, перепиленное больше чем наполовину, лопнуло; все сооружение закачалось.
Жильят едва успел подхватить сей-тали.
Лопнувшая цепь ударилась о скалу, все восемь канатов натянулись, выпиленная и вырубленная часть днища отделилась от судна, чрево Дюранды разверзлось, и под килем показалась чугунная плита машины, повисшая на канатах.
Если бы Жильят вовремя не схватил конец сей-талей, все рухнуло бы. Но его могучая рука не дрогнула, и машина начала спускаться.
Когда Питер Бар, брат Жана Бара, силач, умная голова и пьяница, бедный дюнкеркский рыбак, говоривший «ты» адмиралу Франции, спасал галеру «Ланжерон», терпевшую бедствие в Амблетезской бухте, он, для того чтобы вывести эту тяжелую плавучую громаду из бурунов и разбушевавшихся волн, связал морским тростником большой парус, скатав его валиком, – он рассчитывал, что камыш переломится и это позволит ветру надуть парус. Он уповал на хрупкость тростника, так же как Жильят – на разрыв цепи; здесь такая же дерзкая смелость увенчалась таким же поразительным успехом.
Конец сей-талей, схваченный Жильятом, держался крепко и действовал отлично. Напоминаем, что он был предназначен для укрощения сил, сведенных в одну-единственную и работавших согласованно. В этих сей-талях было некоторое сходство с булинь-шпрюйтом; только, вместо того чтобы брасопить парус, они удерживали в равновесии машину.
Жильят стоял, положив руку на шпиль, и как бы следил за пульсом своего изобретения.
Оно проявило себя во всем блеске.
Обнаружилось удивительное согласие действующих сил Пока машина, отделившись от Дюранды, спускалась к лодке, лодка поднималась к машине. Обломок крушения и спасательное судно, помогая друг другу, шли навстречу один другому. Они сами искали друг друга и наполовину облегчали свои труд.
Прилив, бесшумно взбухая меж Дувров, поднимал лодку и приближал ее к Дюранде. Он был не только побежден он был приручен. Океан стал частью механизма.
Нараставшие волны все выше поднимали лодку плавно потихоньку, почти бережно, как будто она была фарфоровая.
Жильят сочетал и соразмерял оба вида работы – работу воды и работу своего сооружения – и, застыв у шпиля, подобно грозной статуе, повелевающей сразу всеми движущими силами, приноравливал скорость спуска к скорости подъема прилива.
Тихо струилась вода, тали ровно работали. То было необычайное сотрудничество покоренных сил природы. Закон тяготения опускал машину – прилив в это время поднимал лодку. Притяжение небесных светил, то есть причина прилива, и притяжение земли, то есть причина тяжести тел словно сговорились служить Жильяту. Они подчинялись без колебания и без промедления: под воздействием человеческой воли эти пассивные силы превращались в деятельных помощников.
Работа подвигалась с каждой минутой, и расстояние между лодкой и машиной незаметно уменьшалось. Сближение происходило безмолвно, точно присутствие человека внушало ужас. Стихии был отдан приказ, и она его выполняла.
Почти в тот самый миг, когда вода перестала подниматься, перестали разматываться и канаты. Внезапно, но без толчка, тали остановились. Машина стояла в лодке, словно ее спустили туда руками, прямо, прочно, неподвижно. Плита равномерно опиралась о днище всеми четырьмя углами.
Дело было завершено.
Жильят растерянно огляделся.
Бедняга отнюдь не был баловнем жизни. Его точно подкосило огромное счастье. Он почувствовал слабость во всем теле; он, до сих пор не знавший душевного смятения, задрожал, увидев, что победа одержана.
Он смотрел на лодку, стоявшую под разбитой Дюрандой, и на машину в лодке. Ему словно не верилось, что он совершил это. Казалось, он не ожидал от себя такого подвига. Он собственными руками сотворил чудо и взирал на него с глубоким изумлением.
Но он скоро пришел в себя.
Встряхнувшись, будто человек, пробужденный от сна, Жильят схватил пилу, перерезал все восемь канатов, затем спрыгнул в лодку, находившуюся благодаря приливу на каких-нибудь десять футов ниже Дюранды, взял бухту троса, приготовил четыре стропа, пропустил их через кольца, привинченные заранее, и закрепил на обоих бортах лодки четыре цепи пароходной трубы, еще час тому назад привязанные к борту Дюранды.
Укрепив трубу, Жильят освободил верхнюю часть машины.
Ее обхватывал четырехугольный кусок палубной настилки Дюранды. Жильят оторвал его и избавил лодку от груза досок и балок, сбросив их на скалу. Облегчить лодку было необходимо.
Впрочем, ботик, как и следовало предвидеть, устойчиво держался под тяжестью машины. Он осел не глубже нормального уровня – до ватерлинии. Тяжелая машина Дюранды все же была легче груды камней и пушки, перевезенных когда-то ботиком с острова Эрм.
Итак, все было закончено. Оставалось только выбраться из теснины.
IX. Успех завоеван и тут же утрачен
Закончено было не все.
Само собой разумелось, что надо было открыть ущелье, загороженное куском борта Дюранды, и тут же вывести лодку из рифа. В море дорога каждая минута. Дул легкий ветер, чуть приметная рябь пробегала по водной глади; прекрасный вечер обещал прекрасную ночь. Море было спокойно, но отлив уже давал себя чувствовать. Удобнее поры для отъезда нельзя было и желать. Отлив поможет выйти из Дувров, прилив – подойти к Гернсею. А к рассвету лодка доплывет до Сен-Сансона.
Но возникло неожиданное препятствие. Жильят не все предусмотрел.
Машину он освободил, а трубу нет.
Прилив, подняв ботик к разбитому судну, повисшему в воздухе, уменьшил опасность спуска и ускорил спасенье, но из-за того, что расстояние между ними сократилось, верхушка трубы застряла, словно в квадратной раме, в зияющем отверстии развороченного кузова Дюранды. Труба попала туда как в тюрьму.
Оказывая услугу, прилив исподтишка устроил подвох, словно море, вынужденное к повиновению, таило заднюю мысль.
Правда, то, что сделал прилив, мог изменить отлив.
Труба, вышиной больше трех саженей, входила в корпус Дюранды на восемь футов; уровень воды должен был снизиться на двенадцать футов; опускаясь вместе с лодкой на спадающей воде, труба оказалась бы на четыре фута ниже Дюранды и могла бы освободиться.
Но сколько же времени понадобится для ее выхода на волю? Шесть часов.
Через шесть часов будет около полуночи. Как же в такой час уйти отсюда, каким фарватером проплыть среди всех подводных камней, непроходимых даже днем, и как глубокой ночью выбраться из засады рифов?
Поневоле приходилось ждать до утра. Из-за шести потерянных часов он терял по меньшей мере двенадцать.
Нечего было даже и думать о том, чтобы ускорить отплытие, заранее открыв вход в теснину рифа. Заграждение могло понадобиться во время следующего прилива.
Жильяту пришлось отдыхать.
Сидеть сложа руки – вот чего он еще ни разу не делал с тех пор, как попал на Дуврский риф.
Вынужденный отдых раздражал и почти возмущал его, как будто в том была его вина. Он говорил себе: «Что подумала бы обо мне Дерюшетта, если бы увидела, как я тут бездельничаю?»
Но передышка, пожалуй, была небесполезна.
Теперь Жильят мог воспользоваться лодкой и решил в ней переночевать.
Он отправился на Большой Дувр за овчиной, спустился оттуда, поужинал несколькими моллюсками и двумя-тремя морскими каштанами, жадно допил остаток пресной воды из почти пустого жбана, закутался в овечью шкуру, которая приятно согревала его, лег, как сторожевой пес, у самой машины и, надвинув шапку на глаза, заснул.
Спал он крепко. Так спится, когда все дела сделаны.
X. Море предупреждает
Среди ночи Жильят внезапно проснулся, словно от толчка развернувшейся пружины.
Он открыл глаза.
Дувры над его головой были освещены: на них как будто упало отражение яркого пламени. Вся черная стена рифа была словно в отблеске огня.
Где был источник этого огня?
В воде.
На море творилось что-то необычайное.
Казалось, вода была охвачена пожаром. Всюду, куда только ни падал взгляд, море внутри и вокруг рифа пылало.
То не было красное пламя: оно нисколько не походило на жаркое полыханье кратера и горнила. Ни потрескивания, ни тепла, ни багрянца, ни гула. Синеватые полосы на воде лежали складками савана. Широко разлившееся бледное сияние трепетало на водной поверхности. Но то был не пожар, а его призрак.
Словно бесцветное зарево нездешнего огня вспыхнуло в могильном склепе.
Вообразите воспламенившуюся тьму.
Ночь, расплывчато-мутная, беспредельная ночь, казалось, была топливом для этого холодного огня. Таким мог представляться свет лишь слепцу. Мрак был неотделимой частью фантастического освещения.
Морякам Ламанша известна эта неописуемая фосфоресценция моря, служащая предупреждением мореплавателям.
Изумительнее всего она недалеко от Изиньи, у Большого В.
При таком свете предметы теряют реальность. Под призрачными его лучами все становится каким-то прозрачным. От скал остаются лишь очертания. Якорные канаты кажутся раскаленными добела железными полосами. Рыбачьи сети под водой – словно огненная вязь. Половина весла из черного дерева, другая же, что под водой, – из серебра. Капли, срываясь с весла в волну, осыпают море звездами. За лодкой тянется сверкающий след. Мокрая одежда на матросах светится, точно объятая пламенем. Опустишь руку в воду и вынимаешь ее в огненной перчатке; пламя это мертво, его и не чувствуешь.
Вся рука по плечо будто горящая головня. Видишь, как под волной в пылающем потоке катятся какие-то морские твари.
Пена искрится. Огненными языками, змеящимися молниями мелькают в бесцветной глубине рыбы.
Этот свет проник сквозь закрытые веки Жильята. Он-то и разбудил его.
Пробуждение было своевременным.
Отлив кончился; вновь поднимался прилив. Пока Жильят спал, труба машины освободилась, а теперь ее опять готовилась схватить зияющая пасть висевшего над ней судна.
Труба медленно возвращалась на старое место.
Ей достаточно было подняться на один фут, и она оказалась бы в чреве Дюранды.
Подъем на один фут для прилива – дело получаса. Труба, хоть над ней и нависла угроза, была пока еще на свободе; чтобы воспользоваться этим, в распоряжении Жильята оставалось всего полчаса.
Он сразу вскочил.
Медлить было нельзя, но все же он простоял несколько минут в раздумье, смотря на фосфоресцирующую воду.
Жильят знал море до тонкости. Как бы оно на него ни сердилось и как бы иной раз плохо с ним ни обращалось, они издавна были сотоварищами. То таинственное, что зовется океаном, не могло замыслить ничего такого, чего не разгадал бы Жильят. Наблюдательность, мечтательность и одиночество сделали его ясновидцем погоды – тем, кто по-английски называется weather wise.
Жильят подбежал к брам-гордень-блокам и потравил канат; затем схватил багор и, упираясь им в скалы, подтолкнул ботик, который больше не удерживался фертоинг, на несколько саженей дальше от Дюранды, к выходу из теснины, поближе к заграждению. Места для маневра было вволю, как говорят гернсейские матросы. Не прошло и десяти минут, как лодка уже была выведена из-под остова парохода. Нечего было бояться, что труба снова попадет в западню. Пусть теперь поднимается прилив.
Однако Жильят как будто и не думал собираться в путь.
Пристально вглядевшись в фосфоресцирующее море, он поднял якоря, но не для того, чтобы сняться с места, а чтобы снова поставить лодку фертоинг, и поставить очень прочно, – правда, возле самого выхода.
До сих пор он пользовался только двумя якорями ботика и не прибегал еще к маленькому якорю с Дюранды, найденному им, как известно, среди подводных камней. Пароходный якорь лежал наготове в лодке, вместе с целым запасом тросов, такель-блоков и с якорным канатом, прихваченным легко рвущимися стопорами, которые не дают якорю ползти. Жильят бросил и этот третий якорь, тщательно подвязав канат к тросу, один конец которого был взят за рым якоря, а другой соединялся с брашпилем ботика. Таким образом он поставил лодку на три якоря – в положение более надежное, чем на двух якорях фертоинг. Все это говорило о том, что Жильят весьма озабочен и что он удвоил предосторожности. Моряк угадал бы в этих действиях нечто – подобное постановке на якоря на время непогоды, когда можно опасаться течения с подветренной стороны.
Фосфоресценция, за которой Жильят внимательно наблюдал, быть может, грозила бедой, но в то же время оказывала услугу. Не будь ее, он все еще оставался бы пленником сна и жертвой ночи. Она разбудила его и светила ему.
Она озаряла риф тусклым светом. Но это освещение, вызвавшее такое беспокойство у Жильята, сослужило ему службу, обнаружив опасность и сделав возможным маневр судна..
Теперь он мог поставить паруса, когда вздумается: лодка с машиной на борту была свободна.
Но Жильят, казалось, забыл о возвращении на Гернсей.
Поставив ботик на три якоря, он принес из своего склада самую крепкую цепь, какая только у него была, и, прикрепив ее к гвоздям, вколоченным в оба Дувра, укрепил ею с внутренней стороны заслон из бортовой обшивки и брусьев, уже защищенный снаружи другой цепью, натянутой крестообразно. Он и не собирался открывать выход из ущелья, наоборот, – запер его крепко-накрепко.
Фосфоресцирующее море все еще светило ему, но слабее.
Правда, уже занималось утро.
Вдруг Жильят насторожился.
XI. Имеющий уши да слышит
Ему послышались какие-то слабые, неясные звуки, долетавшие из бесконечных далей.
Морская пучина порою глухо рычит.
Он снова прислушался. Отдаленные раскаты возобновились. Жильят покачал головой, как человек, понимающий, в чем тут дело.
Через несколько минут он уже был на другом, восточном конце пролива, еще не загражденном, и мощными ударами молота вколачивал огромные гвозди в гранитные устои ворот ущелья, примыкавшие к утесу «Человек», как он это сделал между Дуврами.
Гнезда для гвоздей были подготовлены заранее: в расщелинах скал прочно сидели деревянные клинья, почти все из сердцевины дуба. С этой стороны риф выветрился и был усеян множеством трещин, поэтому Жильяту удалось вогнать туда еще больше гвоздей, чем в подножие обоих Дувров.
Фосфорическое свечение вдруг померкло, будто его задули сверху; на смену ему пришел предрассветный сумрак, светлевший с каждой минутой, с каждой секундой.
Вбив гвозди, Жильят притащил балки, затем веревки, затем цепи и, не поднимая глаз, ни на миг не отвлекаясь, стал укладывать балки горизонтально, перевязывая их канатом; он воздвиг поперек узкого входа сквозную плотину, подобную тем волнорезам, которые признаны современной наукой.
Кому случалось видеть, например, в Рокене на Гернсее или в Бурдо во Франции, чего можно добиться при помощи свай, вбитых в скалы, тот поймет, насколько мощны эти простейшие приспособления. Сквозной волнорез представляет собою сочетание того, что во Франции именуется «струенаправляющей дамбой», с тем, что в Англии именуется просто «дамбой». Такие волнорезы как будто служат рогатками против бури. Когда борешься с морем, надо пользоваться тем, что сила эта может дробиться.
Тем временем взошло солнце, погода стояла ясная. Небо было чисто, море спокойно.
Жильят торопился.
Делая огромные прыжки, он перескакивал со скалы на скалу, от своей запруды к складу и от склада к запруде. Не переводя дух, тащил то футокс, то карленгс. Вот когда пригодились запасенные им корабельные обломки. Было ясно, что надвигались события, вероятность которых он предвидел.
Крепкий железный брус служил ему рычагом для переворачивания балок.
Работа шла так быстро, словно сооружение не созидалось, а росло само собой. Кто не видел, как на войне работает понтонер, тому не представить себе этой быстроты.
Восточный вход в теснину был уже, чем западный, – его ширина равнялась всего лишь пяти или шести футам. Это облегчало задачу Жильята. Пространство, которое предстояло укрепить и заградить, оказалось невелико, поэтому само сооружение могло быть и менее сложным, и более прочным. Достаточно было уложить балку горизонтально, не вбивая вертикальных свай.
Укрепив первые перекладины волнореза, Жильят взобрался на них и прислушался.
Гул становился все отчетливее.
Жильят продолжал работу. Он подпер свое сооружение обоими крамболами Дюранды, которые присоединил к укреплению из балок при помощи фалов, пропущенных в три шкива блоков. Все это он связал цепями.
Сооружение походило на исполинский плетень с балками вместо перекладин и цепями вместо ивовых прутьев.
Казалось, запруда сплетена, а не выстроена.
Жильят увеличил число креплений и добавил гвоздей, где было нужно.
На разбитом судне нашлось много круглого железного лома, и Жильят сделал изрядный запас гвоздей.
Между делом он грыз сухари. Его мучила жажда, но пить было нечего, пресной воды не осталось. Накануне, за ужином, он допил всю воду из жбана.
Добавив к запруде еще четыре-пять балок, он снова взобрался на нее и стал прислушиваться.
Гул вдали прекратился. Все стихло.
Безмятежно и величаво расстилалось море; оно вполне заслуживало хвалебных сравнений, которыми награждают его благодушествующие обыватели: «точно зеркало», «спокойное, как озеро», «гладкое, будто маслом покрытое», «ласковое, как дитя», «кроткое, как ягненок». Синяя глубь неба гармонировала с зеленой глубью океана. Сапфир и изумруд могли любоваться друг другом. Они были безупречны. Ни облачка вверху, ни клочка пены внизу. Над всем этим великолепием торжественно всходило апрельское солнце. Лучшей погоды нельзя было и представить себе.
Далеко на горизонте протянулась в небе длинная черная нить: то были перелетные птицы. Они летели стремительно, направляясь к суше; их полет напоминал бегство.
Жильят снова принялся надстраивать волнорез.
Он поднял его высоко, как только мог и насколько позволяли это неровные стены утесов.
К полудню солнце, казалось, стало припекать сильнее, чем обычно. Полдень – решающее время дня. Жильят, стоя на крепкой решетчатой плотине, которую только что закончил, всматривался в даль.
Море было не просто спокойно: оно застыло. Не виднелось пи одного паруса. Небо по-прежнему было ясным, только из синего стало бледно-голубым, почти белым. Странной казалась эта белизна. На западе, над самым горизонтом, темнело пятнышко, не предвещавшее ничего хорошего. Пятно это не двигалось, но росло, оставаясь на месте. У подводных камней вода покрывалась легкой рябью.
Жильят хорошо сделал, что построил волнорез.
Приближалась буря.
Бездна решила дать сражение.
Книга третья. Битва
I. Крайности соприкасаются, противоположности сходятся
Нет ничего опаснее запоздалых бурь поры равноденствия.
На океане наблюдается ужасное явление, которое можно назвать налетом ветров с открытого моря.
В любое время года, особенно при новолунии и полнолунии, в тот миг, когда этого совсем не ждешь, какое-то странное спокойствие внезапно овладевает океаном. Непостижимое, непрерывное движение стихает: море дремлет; оно чувствует истому; оно как будто решило передохнуть: можно подумать, что оно устало. Все судовые тряпицы, от рыбачьего флажка до военно-морских флагов, свисают вдоль мачт. Спят адмиральские, королевские, императорские флаги.
Вдруг все эти лоскуты начинают тихонько шевелиться.
Тут-то и надо примечать: если облачно, – нет ли перистых облаков; если солнце садится, – не багрян ли закат; если наступила ночь и взошла луна, – нет ли вокруг нее светового кольца.
В такую минуту капитан судна или начальник эскадры, если ему удалось раздобыть стеклянный буремер, изобретатель которого неизвестен, рассматривает этот сосудик в микроскоп и, увидев, что жидкость в нем похожа на растаявший сахар, принимает предосторожности против южного ветра, а если она распалась кристалликами, напоминая заросли папоротника или еловые ветки, спешит защититься от северного ветра. В такую минуту, сверившись с таинственными солнечными часами, высеченными римлянами или духами на одном из загадочных, столбом стоящих камней, называемых в Бретани менгирами, а в Ирландии круахами, бедный бретонский или ирландский рыбак спешит вытащить свое суденышко на берег.
А небо и море по-прежнему безмятежны. Утро наступает лучезарное, заря улыбается; это преисполняло священным ужасом поэтов и прорицателей древности, не дерзавших допустить мысль о лицемерии солнца. Solem guis dicere jalsum audeat? [749]
Мрачный призрак скрытой вероятности заслонен от человека роковой непроницаемостью природы. И всего опасней, всего вероломней личина, под которой скрывается бездна.
Говорят: притаилась, словно змея под камнем; следовало бы говорить: притаилась, словно буря под ясным небом.
Случается, что так протекает несколько часов, даже дней.
Кормчие наводят подзорную трубу то туда, то сюда. Бывалые моряки хмурятся, сдерживая гнев ожидания.
Внезапно раздается сильный, но неясный шум. Какой-то загадочный рокот голосов слышится в воздухе.
Разглядеть ничего невозможно.
Бесстрастна морская ширь.
А шум все нарастает, ширится, приближается. Голоса становятся выразительнее.
За горизонтом кто-то есть.
Кто-то страшный. Ветер.
Ветер – то есть племя титанов, которых мы называем вихрями.
Это несметные исчадия тьмы.
В Индии их называли марутами; в Иудее – керубимами; в Греции – аквилонами. То невидимые хищные птицы беспредельности. Слетающиеся к добыче бореи.
II. Ветры с открытого моря
Откуда они? Из неизмеримых просторов. Для их распростертых крыльев нужен диаметр бездны. Полет их требует бесконечно отступающих пределов пустыни. Атлантический океан, Тихий океан – необъятные голубые провалы в бесконечность – вот что им нравится. Они застилают небо тьмою.
Они летают полчищами. Капитан Паж видел однажды, во время прилива, семь смерчей сразу. В море раздолье их свирепому нраву. Они замышляют бедствия. Работа их – тщетно и вечно вздувать волну. На что они способны – неизвестно, чего хотят – непонятно. Они сфинксы бездны, и Васко да Гама у них был Эдипом [750] . Во мгле безграничного, вечно волнующегося пространства возникают их лики – тучи. Тот, кто заметит их синеватые очертания на морском горизонте, в рассеянном свете, чувствует присутствие беспощадной силы. Их словно беспокоит человеческий разум, и они озлоблены против него. Разум непобедим, но и стихия неодолима. Что делать с ускользающей вездесущностью? Дуновение ветра – то палица, то вновь дуновение. Вихри сражаются, сокрушая, и защищаются, исчезая. Кто их встретит, не знает, как выпутаться из беды. Разнообразные приемы атаки, бесконечные отступления приводят в замешательство. Это и штурм и бегство, натиск и неуловимость. Как же с ними справиться? Нос корабля аргонавтов [751] , выточенный из додонского дуба, – нос и в то же время кормчий, – увещевал их. Они грубо обошлись с этим божественным кормчим. Христофор Колумб, видя, что ветры, готовы ринуться на «Пинту», поднимался на палубу и обращался к ним с первыми стихами Евангелия от Иоанна. Сюркуф осыпал их бранью. «Вся шайка тут!» – говорил он. Непир [752] стрелял по ним из пушек. Они повелевают хаосом.
Они владыки хаоса. Что они делают с ним? Все что хотят. Логово ветров ужаснее львиного логова. Сколько трупов в бездонной глубине! Ветры безжалостно гонят темную громаду горько-соленых вод. Они ничего не слышат, их же всегда слышно. То, что они учиняют, похоже на преступление.
Кто знает, кого они забрасывают белыми клочьями пены?
Сколько кощунственной жестокости в кораблекрушениях! Какое надругательство над провидением. Порой кажется, что они оплевывают самого бога. Они деспоты мест, не исследованных человеком. Luoghi spaventosi [753] , – шептали венецианские мореходы.
Трепещущие пространства терпят их самоуправство. Что-то неописуемое творится в этих беспредельных пустынях.
В темноте мерещатся всадники. В воздухе стоит шум, как в лесу. Ничего не видно, но – слышится топот конницы. Полдень, и вдруг наступает ночь – это проносится торнадо; полночь, и вдруг наступает день – это вспыхивает северное сияние. Вихри мчатся за вихрями, вперед, назад, какая-то страшная пляска, словно стихии хлопают бичами. Набухшая туча раскалывается пополам, обломки падают в море. Тучи, пламенеющие пурпуром, светят, громыхают, потом зловеще меркнут; выпустив летучую молнию, они чернеют потухшим углем. Эти мешки с ливнями, прорываясь, сочатся влажным туманом. Здесь раскаленное горнило, брызжущее дождем; здесь волны, мечущие пламя. В белых отсветах моря под ливнем встают удивительные дали; там, в туманах, непрестанно меняя очертания, реют фантастические образы. Тучи изрыты чудовищными ямами. Кружатся клубы испарений, приплясывают волны, на них качаются опьяненные наяды; всюду, где только видит глаз, колышется мягкая, грузная морская толща; на всем свинцовый оттенок; вопли отчаяния вырываются из серой мглы.
В недосягаемых глубинах этой мглы дрожат огромные снопы мрака. Иногда на стихию – находит пароксизм безумия.
Шум превращается в грохот, волна встает стеной. До самого горизонта – смутное нагромождение валов, бесконечное колебание, беспрерывный гулкий рокот; временами раздается какой-то странный треск; можно подумать, что расчихались гидры. Тянет то холодом, то зноем. Дрожь, сотрясающая море, выдает его страх перед тем, что может случиться. Тревога. Смертельная тоска. Беспредельный ужас волн. И вдруг ураган хищным зверем на водопое припадает к океану, присасывается к нему, происходит нечто невероятное: вода устремляется в невидимую пасть, словно в кровососную банку, вздувается опухоль. Это смерч – Престер у древних: сталактит вверху, сталагмит внизу, двойной – вниз и вверх основаниями – крутящийся конус, острие стоит на острие, не теряя равновесия; поцелуй двух гор – горы взлетающей пены и горы спускающегося облака; жуткое совокупление волны и мрака. Смерч, как библейский столп, черен днем и светится в ночи. Перед смерчем смолкает гром, точно боится его.
В необъятном волнении водной пустыни – восходящая грозная гамма: шквал, вихрь, гроза, шторм, буря, ураган, смерч – семь струн лиры ветров, семь нот бездны. Небо – ширь, море – округлость; но пронесется дыхание ветра, и все пропадает, лишь беснуется вокруг хаос.
Таковы эти суровые места.
Ветры бегут, летят, спадают, затихают и вновь оживают, несутся, свистят, завывают, хохочут; неистовым, разнузданным, буйным ветрам привольно над сердитыми волнами. Дикие голоса спелись. Им гулко вторит небо. Ветры дуют в тучу, словно в медный рог, они трубят в трубу пространства, поют в бесконечности слитыми воедино голосами кларнетов, фанфар, тромбонов, горнов, валторн, словно исполинский духовой оркестр. Кто их слышит, внемлет Пану [754] . Страшнее всего то, что для них это игра. Мрачно их безудержное веселье. В пустынных просторах они устраивают облавы на одинокие корабли. Без передышки, днем и ночью, во всякое время года, у тропиков, у полюсов, бешено трубя в охотничий рог, в сумбуре туч и волн они затевают свою чудовищную истребительную охоту за судами. У них своры гончих. Они забавляются.








