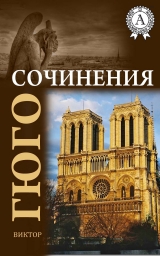
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 101 (всего у книги 125 страниц)
– Да, – задумчиво прошептал Гуинплен, – рай богатых создан из ада бедных.
12. Урсус-поэт увлекает Урсуса-философа
Вошла Дея. Он взглянул на нее и больше уже ничего не видел. Такова любовь. Вихрь мыслей может на мгновение завладеть нами, но входит любимая женщина, и сразу исчезает все, что не имеет к ней непосредственного отношения, бесследно исчезает, и она даже не подозревает, что, быть может, уничтожила в нашей душе целый мир.
Упомянем здесь об одном незначительном обстоятельстве. В «Побежденном хаосе» Дее не нравилось слово «monstro» (чудовище), с которым она должна была обращаться к Гуинплену. Иногда, пользуясь тем небольшим знанием испанского языка, которым в то время обладали все, она самовольно заменяла это слово другим, а именно «quiero», что означает «желанный». Урсус относился к таким изменениям текста с некоторым неудовольствием. Он свободно мог бы заявить Дее, как в наши дни Моэссар сказал Виссо:
– Ты с недостаточным уважением подходишь к репертуару.
«Человек, который смеется» – такова была кличка, под которой Гуинплен приобрел известность. Под этим прозвищем исчезло его настоящее имя, почти никому неизвестное, так же, как исчезло под маской смеха его настоящее лицо. Его популярность тоже была маской.
Между тем его имя красовалось на широкой вывеске, водруженной на передней стенке «Зеленого ящика». Надпись, сочиненная Урсусом, гласила:
«Здесь можно видеть Гуинплена, брошенного в десятилетнем возрасте,
в ночь на 29 января 1690 года, злодеями компрачикосами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя:
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ».
Существование этих фигляров походило на существование прокаженных в лепрозории или на блаженную жизнь обитателей некоей Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмарочной толпой к полной отрешенности от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир, исчезали, словно мертвецы в могильной сени, и на следующий день снова оживали. Актер – это вертящийся фонарь маяка, огонь которого то вспыхивает, то пропадает; для публики од только призрак, только проблеск в этой жизни, где свет постоянно сменяется тьмою.
За выступлением на площади следовало добровольное заточение. Как только кончалось представление и поредевшая толпа зрителей растекалась по смежным улицам, громко выражая свое одобрение, «Зеленый ящик» поднимал откидную стенку, точно крепость подъемный мост, и общение со всем остальным человечеством прерывалось. По одну сторону находилась вселенная, по другую – передвижной барак, и в этом бараке ярким созвездием сияли свобода, чистая совесть, мужество, самоотверженность, невинность, счастье, любовь.
Ясновидящая слепая и любимый ею урод садились рядом, рука сжимала руку, чело прикасалось к челу, и так, пьянея от близости, они перешептывались друг с другом.
Средняя часть «Зеленого ящика» имела двойное назначение: для публики она была сценой, для актеров – столовой.
Урсус, всегда охотно прибегавший к сравнению, пользовался этим как поводом к уподоблению средней части фургона «аррадашу» абиссинской хижины.
Урсус подсчитывал выручку, потом садились за ужин. Любовь во всем находит нечто идеальное; когда влюбленные вместе едят и пьют, это создает для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль или вино из одного стакана, как пили бы росу из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек. Гуинплен прислуживал Дее, нарезал ей ломтиками хлеб или мясо, наливал ей чаю, близко наклонялся к ней.
– Гм! – мычал Урсус, но его брюзжание, помимо его воли, переходило в улыбку.
Волк ужинал под столом, не обращая внимания ни на что, кроме своей кости.
Винос и Фиби разделяли общую трапезу, но никого не стесняли своим присутствием. Эти полудикарки, все еще чуждавшиеся людей, говорили между собой по-цыгански.
После ужина Дея вместе с Фиби и Винос удалялась на «женскую половину», Урсус шел привязывать Гомо на цепь под «Зеленым ящиком», а Гуинплен направлялся к лошадям, превращаясь из влюбленного в конюха, подобно гомеровскому герою или паладину Карла Великого. В полночь все уже спало, кроме волка, который, полный сознания своей ответственности, время от времени приоткрывал один глаз.
На следующее утро все сходились опять. Завтракали вместе – обычно хлебом с ветчиной, запивая его чаем, который в Англии вошел в употребление с 1678 года. Затем Дея, следуя испанскому обычаю и совету Урсуса, находившего, что она слаба здоровьем, спала несколько часов, между тем как Гуинплен и Урсус занимались внутри фургона и на дворе всеми теми мелкими работами, которых требует кочевая жизнь.
Лишь в редких случаях покидал Гуинплен «Зеленый ящик», чтобы побродить немного, да и то по пустынным дорогам и безлюдным местам. В городах он выходил лишь ночью, надвинув на глаза широкополую шляпу, чтобы его лицо не примелькалось на улице.
С открытым лицом его можно было видеть только на сцене.
Впрочем, «Зеленый ящик» не слишком часто заглядывал в города; Гуинплен в свои двадцать четыре года еще не видел городов больше Пяти Портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародья и начинала подниматься выше. Громкая молва о человеке с необычайным лицом, кочующем с места на место и появляющемся неожиданно то здесь, «то гам, передавалась из уст в уста любителями ярмарочных чудес и охотниками до диковинок. О нем говорили, его искали, спрашивали друг друга: «Где он? Как бы его посмотреть?». «Человек, который смеется» положительно становился знаменитым. Отблеск его славы падал до некоторой степени и на «Побежденный хаос».
И вот однажды Урсус, исполненный честолюбивых замыслов, объявил:
– Надо ехать в Лондон.
Часть шестая. Возникновение трещины
1. Тедкастерская гостиница
В Лондоне в ту пору был всего один мост – Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Саутворком – предместьем, узкие улички и переулки которого, вымощенные галькой из Темзы, казались настоящими теснинами; подобно самому городу, Саутворк представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей пищей для пожаров: 1666 год доказал это.
Слово Саутворк произносили в то время как Соудрик, а в наши дни произносят приблизительно Соузуорк. Впрочем, наилучший способ произношения английских имен – это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговаривайте так: Стпнтн.
Это – было время, когда Четэм произносили как Je t'aime [833] .
Тогдашний Саутворк так же был похож на нынешний Саутворк, как Вожирар на Марсель. Теперь это город; тогда это был поселок, бывший, однако, весьма оживленным портом. В длинную, старую, напоминавшую циклопические сооружения стену над Темзой были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась Эфрокской стеной, или Эфрокстоун. Когда Йорк был еще саксонским, он назывался Эфрок. Согласно преданию, у подножия этой стены утопился какой-то эфрокский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога. Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брассов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и старинная пузатая голландская шхуна «Вограат» становилась обычно на причал к Эфрок-стоуну. «Вограат» еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам и из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорт, в Гринич или в Гревсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Гревсенда занимал шесть часов, хотя расстояние и не превышало двадцати миль.
Шхуна «Вограат» принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал джонку. В ту пору Франция подражала Греции, а Голландия – Китаю. «Вограат», тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме, имела посредине глубокую каюту, а на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних железных судах, снабженных башенками. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности: не встречая на своем пути никакой преграды, волны смывали людей прямо в море. Случаи их гибели бывали столь частыми, что от такого типа судна пришлось отказаться. Обычно «Вограат» шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Гревсенде.
Вдоль подножия Эфрок-стоуна тянулся старинный каменный карниз – частью утес, частью искусственно сооруженный выступ, и это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрок-стоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки кончался Лондон; дальше тянулись поля.
Возле Эфрок-стоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джемского дворца и позади Ламбет-Хауза, неподалеку от места гулянья, носившего тогда название Фокс-Холл, между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготовляли цветные бутылки, находился один из тех больших, поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии – bowling-greens. Слово bowling-green, означающее «зеленая лужайка для катания шара», мы переделали в boulingrin. В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе: зеленое сукно заменяет дерн, и все это называется бильярдом.
Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар (boulevard – boule-vert), совершенно соответствующее по смыслу слову bowling-green, мы придумали еще boulingrin. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь.
Саутворкская «зеленая лужайка» называлась Таринзофилд, ибо некогда она принадлежала баронам Гастингсам, носившим также титул баронов Таринзо-Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофилд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому как позднее один из герцогов Орлеанских сделал своей доходной статьей Пале-Рояль. С течением времени Таринзофилд как выморочное имущество стал приходской собственностью.
Таринзофилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд балаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов и где вечно толпились зеваки, «приходившие поглазеть на дьявола», как говаривал архиепископ Шарп. «Глазеть на дьявола» – значило смотреть представление. На эту празднично разукрашенную площадь выходили фасадом несколько харчевен, из которых одни отбивали публику у театров, а другие поставляли им зрителей. Харчевни эти процветали. Это были обыкновенные кабачки, открытые только днем. Вечером хозяин запирал свой кабачок, клал ключ в карман и уходил. Только одно из этих заведений носило характер гостиницы и было единственным прочным жилым помещением на всей «зеленой лужайке», ибо остальные ярмарочные постройки могли быть разобраны в любую минуту: ничто не привязывало всех этих странствующих комедиантов к одному месту. Фигляры ведут кочевой образ жизни.
Это заведение, называвшееся Тедкастерской гостиницей, по имени бывших владельцев поля, напоминало скорее постоялый двор, чем таверну, и скорее гостиницу, чем харчевню; в его довольно широкий двор можно было попасть через большие ворота.
Ворота, выходившие на площадь, были как бы парадным подъездом Тедкастерской гостиницы; рядом с ними находилась боковая дверь, которой и пользовались обычно посетители. Люди всегда и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней. Она вела непосредственно в харчевню – просторное, но невзрачное, сплошь уставленное столами помещение с низким потолком и закоптелыми стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решетке была прикреплена вывеска гостиницы. Ворота же, крепко запертые на засов, никогда не отпирались.
Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок.
В Тедкастерской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядюшкой Никлсом, слугу – Говикемом. Дядюшка Никлс – очевидно, Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Никлса, – был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки. Что касается четырнадцатилетнего мальчугана, прислуживавшего посетителям и откликавшегося на имя Говикем, то это был большеголовый подросток с всегда улыбающейся физиономией. Он носил передник и был подстрижен под гребенку в знак своего зависимого положения. Спал он в нижнем этаже, в крохотной конурке, где прежде держали собаку. Окном этой конурки служило круглое отверстие, выходившее на «зеленую лужайку».
2. Красноречие под открытым небом
Однажды вечером, в холодную и ветреную погоду, когда, казалось, никому не могла прийти охота задерживаться на улице, какой-то человек, проходивший по Таринзофилду, остановился вдруг у стен Тедкастерской гостиницы. Был конец зимы 1704–1705 года. Человек этот, судя по одежде – матрос, был хорош собой и высок ростом – качества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Он остановился, чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, который раздавался по ту сторону стены, очевидно со двора; голос этот был старческим, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время во дворе, откуда раздавался этот голос, слышался гул толпы. Голос говорил:
– Вот и я, жители и жительницы Лондона. От всего сердца поздравляю вас с тем, что вы – англичане. Вы – великий народ. Скажу точнее: вы – великое простонародье. Вы деретесь на кулачках еще лучше, чем на шпагах. У вас превосходный аппетит. Вы – нация, которая поедает другие народы. Великолепное занятие! Эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место. В своей политике и философии, в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целые народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны! И недалек уже день, когда земной шар будет разделен на две части; на одной будет надпись: «Владения людей», на другой – «Владения англичан». Утверждаю это к вящей вашей славе – я, не имеющий отношения ни к тем, ни к другим, ибо я не англичанин и не человек: я имею честь быть медведем. Кроме того, я еще и доктор – одно не мешает другому. Джентльмены, я поучаю. Чему, спросите вы? Двум разным вещам: тому, что я знаю, и тому, чего я не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте. Вас призывает наука. Хорошенько навострите уши; если они малы, истины попадет в них не много; если они велики, в них войдет немало глупости. Итак, внимание. Я учу науке, которая называется Pseudodoxia epidemica. У меня есть товарищ, который учит смеяться, я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех так же благороден, как благородно знание. Когда Демокрита спрашивали: «Как познаешь ты истину?», он ответствовал: «Я смеюсь». А если спросят меня: «Почему ты смеешься?», я отвечу на это: «Потому что познал истину». Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они весьма засорены. Господь бог охотно дозволяет, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность; я совершенно открыто заявляю, что верую в бога, даже тогда, когда он бывает неправ. Однако, когда я вижу мусор, – а предрассудки тот же мусор, – я выметаю его. Откуда я знаю то, что я знаю? Это уж мое дело. Каждый учится по-своему. Лактанций вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. Сильвестр Второй беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечьи, – или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребенок раввина Елеазара разговаривал со святым Августином. Говоря между нами, я сильно сомневаюсь в истинности всех этих событий, кроме последнего. Допустим, что этот умерший ребенок действительно разговаривал; но под языком у него была золотая пластинка с начертаниями различных созвездий. Значит, тут плутовство. Все это вполне поддается объяснению. Как видите, я беспристрастен. Я отделяю правду от лжи. А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные, невежественные люди, наверное отдаете дань и от которых я хочу освободить вас. Диоскорид полагал, что бог сокрыт в белене, Хризипп находил его в черной смородине, Иосиф – в репе, Гомер – в чесноке. Все они ошибались. Не бог заключен в этих растениях, а дьявол. Я это проверил. Неверно, что у змея, соблазнившего Еву, было человеческое лицо, как у Кадма. Гарсиа де Горто, Кадамосто и Жан Гюго, архиепископ Тревский, отрицают, будто достаточно подпилить дерево, чтобы поймать слона. Я склонен согласиться с ними. Граждане, ложные убеждения возникают благодаря стараниям Люцифера. Когда находишься под владычеством князя тьмы, что удивительного в том, что заблуждения так и сыплются дождем? Добрые люди, знайте же, Клавдий Пульхр умер вовсе не от того, что куры отказались выйти из курятника; это Люцифер, предвидя кончину Клавдия Пульхра, помешал курам клевать корм. Тем, что Вельзевул дал императору Веспасиану силу исцелять калек и возвращать зрение слепым, он совершил поступок похвальный, но побуждения Вельзевула при этом были преступны. Джентльмены, не доверяйтесь шарлатанам, применяющим корень переступня и белой матицы и делающим глазные примочки из меда и крови петуха. Научитесь отличать ложь от правды. Неверно, будто Орион явился на свет вследствие того, что Юпитер удовлетворил свою естественную надобность; в действительности это светило произошло таким образом от Меркурия. Неправда, что у Адама был пуп. Когда святой Георгий убил дракона, рядом не было никакой дочери святого. У святого Иеронима в кабинете не было никаких каминных часов: во-первых, потому, что в его пещере не было никакого кабинета; во-вторых, потому, что там не было камина; в третьих, потому, что в то время еще не существовало часов. Проверяйте, проверяйте все. Милые мои слушатели, если вам скажут, будто в мозгу человека, нюхающего валерианову траву, заводится ящерица, будто бык, разлагаясь, превращается в пчелиный рой, а лошадь – в шершней, будто покойник весит больше, чем живой, будто изумруд растворяется в козлиной крови, будто гусеница, муха и паук, замеченные на одном дереве, предвещают голод, войну и чуму, будто падучую возможно излечить с помощью червя, найденного в голове косули, – не верьте этому. Все это предрассудки. Но вот вам подлинные истины: тюленья шкура предохраняет от грома; жаба питается землей, и от этого в голове, у нее образуется камень; иерихонская роза цветет в сочельник; змеи не переносят тени ясеня; у слона нет суставов, и он вынужден спать стоя, опершись о дерево; если жаба высидит куриное яйцо, из него вылупится скорпион, который родит вам саламандру; если слепой доложит одну руку на левую сторону алтаря, а другою закроет себе глаза, он пробреет; девственность не исключает материнства. Добрые люди, впитывайте в себя эти очевидные истины. А там можете верить в бога по-разному – либо как жаждущий верит в апельсин, либо как осел верит в кнут. Ну, а теперь я познакомлю вас с нашей труппой.
В это мгновение довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донесшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал:
– Перерыв. Что ж, не возражаю. Пусть говорит Аквилон. Джентльмены, я не сержусь. Ветер словоохотлив, как всякий отшельник. Там, наверху, ему не с кем поболтать. Вот он и отводит душу. Итак, я продолжаю. Перед вами труппа артистов. Нас четверо. A lupo principium – начинаю со своего друга; это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас ученый, серьезный и проницательный. Как видно, провидение собиралось сделать его сначала доктором наук, но для этого требовалась некоторая доля тупоумия, а он совсем не глуп. Прибавим, что он лишен предрассудков и отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести знакомство и с собакой, хотя имеет все права на то, чтобы его избранница была волчицей. Потомки его, если только они существуют, вероятно премило урчат, подражая тявканью матери и вою отца. Ибо волк воет. С людьми жить – по-волчьи выть. Но он также и лает – из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер – проявление великодушия. Гомо – усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака – экое странное животное! – потеет языком и улыбается хвостом. Джентльмены, Гомо не уступит по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому холойтцениски, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен. Он скромен, как только может быть скромен волк, сознающий пользу, которую он приносит людям. Он сострадателен, всегда готов прийти на помощь, но делает это втихомолку. Его левая лапа не ведает, что творит правая. Таковы его достоинства. О втором своем приятеле скажу только одно: это чудовище. Вы только подивитесь на него. Некогда он был покинут пиратами на берегу океана. А вот это – слепая. Разве на свете мало слепых? Нет. Все мы слепы, каждый по-своему. Слеп скупец: он видит золото, но не видит богатства. Слеп расточитель: он видит начало, но не видит конца. Слепа кокетка: она не видит своих морщин. Слеп ученый; он не видит своего невежества. Слеп и честный человек, ибо не видит плута, слеп и плут, ибо не видит бога. А бог тоже слеп – в день сотворения мира он не увидел, как в его творение затесался дьявол. Да ведь и я слеп: говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, это жрица таинственного культа. Веста могла бы доверить ей свой светильник. В ее характере есть нечто загадочное и вместе с тем нежное, как овечье руно. Думаю, что она королевская дочь, то не утверждаю этого. Мудрому свойственна похвальная недоверчивость. Что касается меня самого, то я учу и лечу. Я мыслю и врачую, Chirurgus sum [834] . Я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней. Почти все виды воспалений и недугов не что иное, как заволоки, выводящие болезнь наружу, и если правильно лечить их, можно избавиться еще и от других болезней. И все же не советую вам обзаводиться многоголовым вередом, иными словами карбункулом. Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают, только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубиян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими башнями в очень близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом: милостивые государи и милостивые государыни, выращивайте в душе своей, в самом светлом ее уголке, такие прекрасные цветы, как добродетель, скромность, честность, справедливость и любовь. Тогда каждый из нас сможет здесь, в этом мире, украсить свое окошко небольшим горшочком с цветами. Милорды и господа, я кончил. Сейчас начнем представление.
Человек в одежде матроса, прослушавший всю эту речь на улице, вошел в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил, сколько с него потребовали, за вход и сразу же очутился во дворе, переполненном народом; в глубине двора он увидел балаган на колесах с откинутой стенкой: на подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, молодой человек с лицом, похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк.
– Черт побери, – воскликнул матрос, – вот замечательные актеры!
3. Прохожий появляется снова
«Зеленый ящик», который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутворке, Урсуса привлекала «зеленая лужайка», имевшая то неоценимое достоинство, что ярмарка на ней не закрывалась даже зимой.
Урсусу было приятно увидеть купол святого Павла. В конце концов Лондон – это город, в котором немало хорошего. Ведь для того, чтобы посвятить собор святому Павлу, требовалось известное мужество. Настоящий соборный святой – это святой Петр. Святой Павел несколько подозрителен своим излишним воображением, а в вопросах церковных воображение ведет к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря смягчающим его вину обстоятельствам. На небо он попал с черного хода.
Собор – это вывеска. Собор святого Петра – вывеска Рима, города догмы, так же как собор святого Павла – вывеска Лондона, города ереси.
Урсус, чье мировоззрение было настолько широко, что охватывало все на свете, был вполне способен оценить все эти оттенки, я его влечение к Лондону объяснялось, быть может, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу.
Урсус остановил свой выбор на Тедкастерской гостинице, обширный двор которой был как будто нарочно предназначен для «Зеленого ящика» и представлял собой уже совершенно готовый зрительный зал. Квадратный двор был отгорожен с трех сторон жилыми строениями, а с четвертой – глухой стеной, возведенной против гостиницы; к этой-то стене и придвинули вплотную «Зеленый ящик», который вкатили во двор через широкие ворота. Длинная деревянная галерея с навесом, построенная на столбах, находилась в распоряжении жильцов второго этажа; она тянулась вдоль трек стен внутреннего фасада, образуя два поворота под прямым углом. Окна первого этажа были ложами бенуара, мощеный двор – партером, галерея – бельэтажем. «Зеленый ящик», прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это весьма напоминало «Глобус», где были сыграны впервые «Отелло», «Король Лир» и «Буря».
В закоулке, за «Зеленым ящиком», помещалась конюшня.
Урсус договорился обо всем с хозяином харчевни дядюшкой Никлсом, который, из уважения к закону, согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску «Гуинплен – Человек, который смеется», снятую с «Зеленого ящика», повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку для «кассирши», обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винос. Все обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской «Человек, который смеется» прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса – «Побежденный хаос».
В центре галереи, как раз напротив «Зеленого ящика», было устроено с помощью деревянных перегородок отделение для «благородной публики». В него входили через стеклянную дверь.
Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, десять человек.
– Мы в Лондоне, – сказал Урсус. – Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика.
По его требованию, в эту «ложу» поставили лучшие стулья, какие только нашлись в гостинице, а в середине – большое кресло, обитое утрехтским бархатом, золотистым, с вишневыми разводами, – на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника.
Представления начались.
Сразу же хлынул народ.
Но отделение для знати пустовало.
Если не считать этого, успех был такой, что никто из комедиантов не мог припомнить ничего подобного. Весь Саутворк толпами сбегался поглазеть на «Человека, который смеется».
Среди скоморохов и фигляров Таринзофилда Гуинплен произвел настоящий переполох. Как будто ястреб влетел в клетку с щеглами и пожрал весь их корм. Гуинплен отбил у них всю публику.
Кроме убогих представлений, даваемых шпагоглотателями и клоунами, на ярмарочной площади бывали и настоящие спектакли. Тут был цирк с наездницами, с канатными плясуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов: барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, валторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов.
В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные пиренейские скороходы – Дульма, Борденав и Майлонга, хотя они и спускаются с остроконечной вершины Пьерфит на Лимасонское плато, что почти равносильно падению. Был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плети. Но Гуинплен затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями.
Любопытство, рукоплескания, сборы, толпу – все перехватил «Человек, который смеется». Это произошло в мгновение ока. Кроме «Зеленого ящика», не признавали больше ничего.
– «Побежденный хаос» оказался хаосом-победителем, – говорил Урсус, приписывая себе половину успеха Гуинплена, или, как принято выражаться на актерском жаргоне, «оттягивая скатерть к себе».
Гуинплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех. Славе трудно преодолеть водную преграду. Понадобилось сто тридцать лет для того, чтобы имя Шекспира дошло из Англии во Францию: вода – стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии, в плещу у своей островной славы.
Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае на первых порах. Но и Саутворка достаточно для честолюбия клоуна. Урсус говорил:
– Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах.
Играли «Ursus rursus», затем «Побежденный хаос».
В антрактах Урсус показывал свои способности «энгастримита», давая сеансы чревовещания: он подражал голосу любого из присутствующих, пению, крику, поражая сходством самого певшего или кричавшего, а иногда воспроизводил гул целой толпы, и при этом гудел так громко, как будто в нем одном вмещалось множество людей. Замечательный талант!
Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал снадобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных.
Саутворк был покорен.
Горячий прием, оказанный в Саутворке «Зеленому ящику», доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его.
– Это древние тринобанты, – говорил он.
И прибавлял:
– Что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с атробатами, населяющими Беркс, ни с белгами, обитателями Сомерсета, ни с паризиями, основавшими Йорк.
На время каждого представления двор гостиницы, превращенный в партер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие свое жалованье на пирушки и женщин. Были тут и кучера, и завсегдатаи кабаков, и солдаты, осужденные за какое-нибудь нарушение дисциплины носить красные мундиры черной подкладкой наружу и прозванные поэтому «черными гвардейцами». Весь этот народ стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля.








