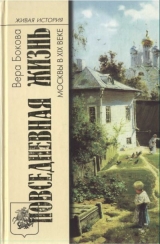
Текст книги "Повседневная жизнь Москвы в XIX веке"
Автор книги: Вера Бокова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
«Смоленский торг не имеет характера веселого сборища. Здесь серьезно и сосредоточенно торгуют <по воскресеньям> дешевым и старым одеянием, старой обувью, мебелью, съестными припасами и материями» [239]239
Василич Г. Москва 1850–1910-х гг. С. 7.
[Закрыть] .
Неказистый вид имели здесь и покупатели, и продаваемые товары, да и сами продавцы и разного рода ремесленники, предлагавшие торговой публике свои услуги.
Здесь можно было встретить, например, «торговок, обвешанных мехами, различными лоскутками материй… На голове этих промышленниц, сверх повязки, обыкновенно надета какая-нибудь изношенная женская шляпка, а иногда и мужская; стразовые серьги необъятной величины, какой-нибудь значок, кольцо…» [240]240
Поляков Н. Москвичи дома, в гостях и на улице. М, 1858. С. 28.
[Закрыть] . Под стать им были и здешние мастеровые. «Взгляните, например, на эту фигуру в шапке, – писал современник, – свалившейся немного на бок, в сером, местами изодранном армяке, подпоясанном кушаком, к которому не совсем живописно подвязан кожаный мешок с гвоздями: молоток и костыль, на одном конце которого находится железная лопатка, доказывают нам с первого взгляда, что это подметочник» [241]241
Там же. С. 25.
[Закрыть] .
Помимо стационарных рынков в Москве устраивалось много традиционных ярмарок и базаров, длящихся от одного дня до нескольких недель. Самые важные из них приходились на Великий пост, который начинался Грибным, а завершался Вербным базаром.
Первый из них, Грибной, длился целую неделю; размещался он на берегу Москвы-реки между Яузским и Большим Каменным мостом, занимая пространство около двух верст. Это был самый тихий, деловитый и степенный базар Москвы – пост все-таки.
Базар открывался в первый же великопостный день – «в чистый понедельник», ранним утром. Съезд торговцев был громадный; торговали и из палаток, и прямо с возов. Наиболее ходовым товаром были грибы – сушеные, соленые, маринованные, белые, желтые и черные, грузди, боровики и опенки – чаны, кадки, бочонки и целые гирлянды грибов всех видов. Продавали также соленья – прежде всего квашеную капусту, которую в пост потребляли в немереных количествах, всякие овощи – лук, редьку, репу, лущеный горох, постное масло, орехи, семечки, мак, постный сахар, изюм и разноцветный засахарившийся мед (по-купечески – «канончик»), – словом, все необходимое для великопостного стола. Здесь же предлагались духовная литература и лубочные картинки благочестивого содержания, а также разные деревенские рукоделия – вязаные рукавицы, лапти, корзины, холсты и рушники.
На всем протяжении устанавливали деревянные розвальни, из них выпрягали лошадей и использовали оглобли для вывески.
«В санях на старых рваных рогожах лежат во множестве эти продукты, между саней длинными рядами стоят большие грязные деревянные кадки с солеными и отварными грибами, которые покупатели вылавливают для пробы прямо пальцами и, откусив гриб, кидают остаток прямо в кадку. Далее расположены палатки с черносливом, изюмом, пастилою, клюквой, ситцем, с глиняными горшками, деревянными ведрами, ушатами и другими хозяйственными предметами» [242]242
Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. С. 187–188.
[Закрыть] .
Покупатель на Грибном торге был в основном среднего и низшего разбора – то есть большинство московского населения. Приезжали сюда целыми семьями в «ковровых» санях, с детьми, прислугой и приживалками. За санями следовали розвальни, в которые и укладывали покупки. Накупали много – бочками, мешками, сразу на весь пост. Все подступы к торжищу были запружены санями и телегами; густо толпились пришедшие пешком. Народу вообще было очень много. Здесь можно было встретить и мещанок в платочках, и «полубарынь»-чиновниц в салопах и шалях, и чиновников с пряжками за выслугу, и «серых» купчих, одевших ради слякоти высокие мужские сапоги.
В первый день в толпе сновало немало подгулявших и не вполне еще протрезвевших мастеровых, которых всегда можно было распознать по пристрастию к огромным, до полуметра в диаметре, баранкам. Их покупали «для смеха» и носили, продев в отверстие голову. «Наденет и ходит, как дурень!» – сердились московские кумушки, но сердились они зря: наряду с размеренным колокольным звоном фигура пошатывающегося мастерового в ожерелье из баранки была одним из знаков и символов наступающего поста.
С четверга до воскресенья на Вербной неделе, когда до Пасхи оставалось уже совсем немного времени, устраивался ежегодный базар на Красной площади, так и именовавшийся Вербой. По всей площади параллельно Кремлевской стене рядами расставлялись тесовые ларьки и холщовые палатки, в которых торговали самыми разнородными предметами: церковной утварью, искусственными цветами и антиквариатом, сластями и золотом, деревянными резными изделиями – от кухонной утвари до мебели, глиняной посудой, книгами, тканями и платками, птичками и рыбками.
Верба была особенно любима детьми, и ходили сюда – главным образом мастеровые, фабричные, мещане, мелкое купечество – непременно семейно, празднично принарядившись и по-праздничному же щедро, так что никто из детей не оставался без покупки. Для удовольствия хватало 20–30 копеек – можно было купить и сластей, и свистулек, и даже живых рыбок в банке.
Из специально предпраздничных товаров продавалось огромное количество вербы – и обычной, лесной, связанной пучками, и «детской», украшенной бумажными цветами, ленточками, восковыми яблочками и ангелочками.
Затем предлагалось множество яиц – и натуральных, куриных, и всевозможных подарочных: и простых деревянных писанок, и сделанных из картона, фарфора, камня, шелка, бисера, хрусталя, разъемных, шоколадных, сахарных, синельных, сусальных, хотьковских – с херувимчиками, с сюрпризами, с картинками, – только выбирай. Разумеется, были и всевозможные краски для яиц.
Все остальное пространство немаленького базара занимали традиционные для Вербы товары, преимущественно не полезного, а «увеселительного» назначения. Здесь были бумажные цветы, богородская и троицкая игрушка – жестяные дудки и барабанчики, пистолетики и щелкуны, механические барабанящие зайчики и бекающие барашки, «летающие колбасы» с визгом, «американские яблочки» на резинках, обезьянки из синели (их прикалывали на булавке на пальто), тряпочные бабочки, водяные соловьи, «издыхающие свинки», издающие пронзительный визг (резиновые, с пищалкой), заводные мыши и лягушки (на механике или двигающиеся с помощью резинки на катушке).
Целые ряды были завалены всякими безделушками и «чудесами техники» – алебастровыми фигурками, хлопушками, стеклянными шарами с домиками или «океаном» внутри (травки и плавающая рыбка), «камнями-стеклорезами», «вечными свечами», которые «горят несгораемо», и т. п.; горами всевозможных сластей – леденцами-монпансье, финиками, пряниками, шепталой, кишмишем, фисташками, халвой, рахат-лукумом, засахаренными орешками и царьградскими стручками. Гроздьями висели разноцветные воздушные шары; иногда отрывались и воспаряли в небо, заставляя всю площадь задирать головы.
С шипением разворачивались длиннейшие «тещины языки» – и сворачивались обратно с гнусавым воплем. Кувыркались в стеклянных пробирках «морские жители» – крошечные, ростом не более таракана синие и желтые чертики дутого стекла: пробирка наполнялась водой и закрывалась сверху тонкой резинкой; на резинку нажимали пальцем и юркий чертик то взвивался вверх, то стремительно шел на дно. Стоила такая игрушка в конце столетия копеек 15–20 и продавалась почему-то только на Вербе.
Ярмарка длилась до Вербного воскресенья, и в субботу и воскресенье на ней происходили гулянья в экипажах: совершали круг по Красной площади и потом раскатывали вдоль по Тверской почти до Триумфальной арки.
Верба и Красная площадь оставались неразлучны многие годы, но все-таки когда строился Исторический музей и половина площади превратилась в огромный котлован, популярный базар пришлось перенести частью на Смоленский рынок, а частью – в здание Манежа. Чуть позднее то же самое произошло, когда возводили новое здание Верхних торговых рядов, а все пространство Красной площади занимали металлические ангары с временной рядской торговлей. Потом Ряды открылись – и Верба вернулась к Кремлевским стенам, чтобы не покидать их вплоть до революции.
Из сезонных ярмарок самой длительной была фруктовая, функционировавшая на Яблочном торгу близ Ильинских ворот все лето.
20 июля была подгородняя ярмарка и гулянье для крестьян Елохова, Красного села, Покровского-Рубцова на Воронцовом поле; 1 августа – медовая ярмарка под Симоновым монастырем; на Преображение – яблочная ярмарка под Новоспасским, а с 28 по 30 августа вплоть до реформы проходила знаменитая в городе и его окрестностях ярмарка возле Иванова монастыря. В эти дни сюда, как тогда выражались, «к Ивану Постному», съезжались подмосковные крестьянки с рукоделием (в основном льняными изделиями) и свозили, как бы сейчас выразились, «сельхозпродукты». Живописен был не только сам торг, но и ярмарочные вечера, когда «сотни торгашей, утомленные целенаправленной сутолокой с покупателями, тут же, у своих ларей и лотков, на земле, зачастую сырой и даже мокрой, располагались и для ночного отдохновения, заложив под голову какое-нибудь тряпье или картуз, – живописал Д. А. Покровский. – Точно так же и приезжие мужики и бабы лежали распростертыми, кто на возу, а кто и под возом; там и сям мелькали фонари, зажженные более предупредительными из них. Нужно было подумать и о коротком отдыхе, и о том, чтобы проснуться не с пустым возом и карманами» [243]243
Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893. № 2. С. 463.
[Закрыть] .
Всякая ярмарка становилась праздником для жителей ближайшего района. Рядом с торговой площадью возводили, как на гулянье, полотняные балаганы, выставляли свой товар игрушечники и продавцы сластей и воздушных шаров. «Мне очень нравилась вся атмосфера ярмарки, – вспоминала Алиса Коонен, – выкрики продавцов, зазывавших прохожих к своим ларькам, звуки гармони и шарманки… Тут же в толпе кувыркались на затрепанных ковриках бродячие акробаты, со скрипом вертелась видавшая виды карусель» [244]244
Коонен А. Страницы жизни. М, 1985. С. 16.
[Закрыть] . У сотен ларьков и прилавков толпился пестрый народ, и все пространство свистело, пищало, щелкало и гудело многочисленными свистульками и дудками. Потом ярмарка проходила, и на опустевшей площади оставались лишь горы смятых бумажек, объедков и огрызков да пьяные, валявшиеся по обочинам в канавах.
Глава девятая. ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИХ ОКРАИН. МЕЩАНЕ, МАСТЕРОВЫЕ И ФАБРИЧНЫЕ
Зарядье. – Московское гетто. – Жилище. – Окраинный быт. – Артельные миски. – «Головные» лавки. – Бесовское наваждение. – Костюм. – Рукоприкладство. – Обучение грамоте. – «Мальчики». – «Спрыски на выходе». – Мастерские. – «Засидки». – Фабричные. – Штрафы. – Патриархальность. – Ученики. – П. И. Губонин. – Праздничные дни. – Условия жизни. – Артели. – Заработки. – Фабрика П. С. Милютина
Низший слой московского населения, как и во всех других русских городах, состоял из мещан и крестьян. Мещанами называли постоянных жителей городов, которые были приписаны к сословному мещанскому обществу, выбирали в нем мещанскую управу, старост и десятских, платили в его составе подушную подать и подлежали рекрутской повинности, а занимались преимущественно ремеслами и мелкой торговлей.
Имелось в Москве и изрядное количество крестьян, которые приписаны были к своим деревням, платили подати вместе с односельчанами, но при этом более или менее постоянно жили в городе для заработка. Среди них были как лично свободные, так и, пока существовало крепостное право, помещичьи крестьяне. Последние чаще всего приходили в город для выработки денежного оброка. Занимались крестьяне также ремеслами и торговлей, работали на фабриках и заводах, служили прислугой и т. п. У большинства крестьян семья оставалась жить в деревне, но связи с домашними они никогда не порывали: при всякой возможности слали домой деньги и сами ездили на побывку, чтобы повидаться с женами и детьми и помочь в хозяйстве.
И мещанство, и крестьянство были самостоятельными, официально существующими сословиями. Рабочие отдельным сословием в России не являлись и по социальному положению относились либо к крестьянам, либо, реже, к мещанам. В московском обиходе практически не употребляли слов «рабочие» или «ремесленники» (разве что в интеллигентном обиходе и в специальных сочинениях), а говорили «фабричные» и «мастеровые».
Мещанская, мастеровая и фабричная Москва селилась – в собственных домиках или на съемных квартирах – в основном на окраинах города, прежде всего лежащих за Садовым кольцом – в Сущеве, Бутырках, Грузинах, на Домниковке, в Хамовниках, на Зацепе, в Лефортове, по собственно Мещанским улицам, издавна и традиционно заселенным этой сословной группой. Сильный мещанский и мастеровой элемент был в районе Таганки, в окрестностях Петровского бульвара, вокруг Бронных улиц.
В центральной части города преимущественно мещанский характер носило Зарядье, которое старинные журналисты именовали «московский Уайт-Чепел», по аналогии с лондонским районом бедноты.
Купеческая Москва, можно сказать, заканчивалась на Варварке, а дальше вниз от Псковской горы к Москве-реке, а точнее, к идущей вдоль набережной стене Китай-города сбегали многочисленные неопрятные переулки – Псковский, Знаменский, Ершовский, Мокринский, Зарядский, Кривой, почти сплошь заселенные мелким торговым и мастеровым людом: портными, сапожниками, картузниками, скорняками, пуговичниками, токарями и пр. Дома здесь были в основном двухэтажные, самой примитивной архитектуры, изначально многоквартирные и рассчитанные на небогатого жильца. В видах экономии домовладельцы не строили здесь подъездов и парадных лестниц, а ограничивались «галдарейками», идущими с дворовой стороны вдоль всего этажа. На «галдарейку» вели неширокие открытые лестницы и выходили двери всех квартир.
Здесь же, в Зарядье, в 1820–1870-х годах находилось московское гетто. По существующим в 1820–1840-х годах правилам евреи-торговцы, приезжавшие в Москву, могли останавливаться только в одном месте – в Глебовском подворье, находившемся в Зарядье в Большом Знаменском переулке. Впоследствии на этом подворье была устроена синагога, а позднее еще одна синагога появилась на набережной Москвы-реки в конце Москворецкой улицы, и вокруг расселилось много еврейских ремесленников и мелких торговцев.
Как правило, низовые московские домовладельцы жили очень скромно. Домики их чаще всего были деревянными, одноэтажными, иногда с мезонином, с более или менее обширным двором, с садиком, с вишнями и кустами сирени. На окнах кисейные занавески и горшки с геранью, настурциями и резедой, клетки с птицами. Комнаты немногочисленны – когда две, когда три, редко пять, так что случалось, что, когда в дом приходили гости, детей приходилось выставлять на улицу, а зимой загонять на печку в кухне, чтобы, в буквальном смысле слова, не путались под ногами.
В комнатах: крашеные полы, дешевая мебель (стулья с плетеными сиденьями), комоды, покрытые самодельными вязаными салфетками, кровати с горками подушек, запах кухни. В переднем углу – иконы, иногда в серебряных ризах. Роскошью считались стенные часы с кукушкой, самовар, шкаф со стеклами (среди скромной посуды на почетном месте непременно раззолоченная чашка с надписью «В день Ангела»).
В конце века, когда журнал «Нива» стал выдавать своим подписчикам в виде «премии» «художественно исполненные» репродукции разных картин, этими картинками в простеньких рамочках стали украшать стены.
В середине века разбогатевшие мещане иногда приобретали по дешевке старинные дворянские особняки, и тогда в их обиходе подержанная барская роскошь самым оригинальным образом могла сочетаться с привычными вещами. Такой дом, приобретенный хозяином извозного заведения, описал в одном из своих очерков Глеб Успенский. Старик-хозяин жил с семьей в парадном этаже, а в цоколе держал работников – там обычно пахло махоркой, сырыми полушубками и сапогами. Наверху – «остатки обоев, золотых багетов и паркетных полов как-то по-свойски мешаются с деревенскими бабами, шатающимися в барских покоях с грязными ребятами; ковши с квасом – на каменных подоконниках, грязные шерстяные носки у камина, вовнутрь которого вдвинута клетушка с гусыней, изломанное вольтеровское кресло с порванной подушкой, деревянная лавка, чашка с капустой, громадное зеркало, расколотое в самом центре, и проч.» [245]245
Успенский Г. И. Собрание сочинений. Т. 1. М, 1955. С. 318.
[Закрыть] .
Жить на окраинах было привольно, как на даче: летом все цвело и зеленело, пустыри и обочины улиц зарастали травой и полевыми цветами, в ветвях деревьев возились и щебетали птицы. Особенно хорошо было детям, которые целыми днями гоняли по пустырям, плескались в прудах, ловили на мелководье в Москве-реке рыбу, собирали щавель, свербигу, кислицу, лазали по чужим садам и огородам, играли в бабки, пускали «змея». Зато осенью и весной все тонуло в непролазной грязи. Улицы почти никто не убирал. Фонарей было мало, поэтому вечера стояли темные. Извозчики на дальние окраины ездили неохотно.
Весь окраинный быт долго нес на себе отпечаток деревенского происхождения многих жителей. Еще и в 1860-х годах здесь по праздникам водили многолюдные хороводы. Молодежь собиралась в летнее время вместе, играла в горелки, а те, кто постарше, сойдясь в кружок, пели хором. Особую известность получили в середине века такие песенные посиделки в Лефортове, на лужайке неподалеку от Частного дома (полицейского участка). Сюда по воскресеньям приходили и фабричные, и мастеровые, и поденщики, и приказчики невысокого разбора и часами распевали под балалайку или гармонь народные песни. Постепенно этот импровизированный хор достиг изумительной слаженности и доставлял огромное удовольствие слушателям, но с течением времени «полицейская власть признала его явлением, не соответствующим духу времени и несогласным с требованиями уличной благопристойности» [246]246
Покровский Д. А. Очерки Москвы // Исторический вестник 1893-№ 8. С. 127.
[Закрыть] .
Вставали на московских окраинах очень рано: в 6 часов утра все уже были на ногах. После чаю мужчины отправлялись работать, причем, выходя со двора, непременно крестились и кланялись на все четыре стороны, а женщины затапливали печи и принимались стряпать, и дым валил по всей улице, а зимой стоял столбом в морозном воздухе. Обедали тоже рано, часов в двенадцать, потом ложились соснуть часика на два, а пробуждаясь, продолжали трудовой день. Женщины, управившись с домашними делами, садились за шитье или надомную работу: мотали нитки на шпули, перебирали шерсть для фабрики, вязали чулки и т. п. Работать постоянно на каком-либо предприятии замужней женщине (живущей при муже) не полагалось. Даже заводские работницы, выйдя замуж, обычно оставляли завод, иначе мужа ждало общественное осуждение, но выживать без второго заработка большинству семей было трудно, поэтому брали работу на дом, а летом ходили по часам на прополку или к какому-нибудь кондитеру, нанимающему баб на лето чистить ягоды для варенья.
Мужчины, работавшие вне дома, отсутствовали целый день и возвращались лишь к ужину. Ужинали часов в восемь; ложились зимой сейчас же после ужина, а летом около одиннадцати. Летними вечерами и стар и млад высыпали за ворота или сидели под окнами и щелкали подсолнухи. В малосостоятельных семьях родители спали на кровати, а для детей и прочих домочадцев обычно на полу расстилался войлок, на который все и укладывались вместе и укрывались общим одеялом.
Каждодневная еда в этой среде состояла из ржаного хлеба, чая, соленых огурцов, кислых щей, каши, солонины и ближе к середине века – картофеля. Гастрономической роскошью считались студень, молочная пшенная каша с маслом, кулебяки, которые бывали на столе только по праздникам.
Долгое время принято было есть всей семьей из одной большой деревянной миски, деревянными же ложками. Как вспоминал И. А. Слонов: «Нарезанное мелкими кусочками мясо во щах мы могли вылавливать после того, как отец скажет „таскай со всем“. Если же кто из детей зацепит кусочек мяса ранее этого, того отец ударял по лбу деревянной ложкой…» [247]247
Слонов И. А. Из жизни торговой Москвы. М, 1914. С. 12.
[Закрыть] Такие же большие, «артельные» миски имелись и в ремесленных мастерских, где тоже все ели из одной посуды.
Мастеровые и мещане, работавшие далеко от дома, домой обедать не ходили. К их услугам были многочисленные лоточники, которые толклись, как правило, в наиболее людных местах: на стоянках ломовиков, на углах переулков и на площадях, а также возле кабаков, особенно таких, в которых не полагалось своей закуски.
В Зарядье было много «головных» лавок, в которых готовили разное «голье» – то есть субпродукты: легкое, сердце, печенку, горло, рубец, щековину и т. п. – для оптовой продажи. Эту требуху покупали розничные торговцы и продавали с лотков – на копейку, на две. Мастеровые посостоятельнее брали в таких лавках обрезки ветчины – их отпускали не меньше чем на пятачок, а за 15 копеек можно было купить кость от окорока с изрядным количеством ветчины на нем. Такие обрезки на языке мастеровых назывались «собачьей радостью» (потом это название перешло на самый дешевый сорт полукопченой колбасы). В числе «головных» лавок славилась в Зарядье в 1870-х годах лавка Кастальского, описанная в мемуарах И. А. Белоусова. «При этой лавке имелась комната в виде столовой, где можно было получить на 10–15 копеек горячей ветчины, мозгов и сосисок, а в посты – белуги или осетрины с хреном на красном уксусе; к закускам подавалась сайка или калач. Ветчиной Кастальский славился, и многие москвичи заказывали у него окорока к Пасхе. Окорок к пасхальному столу у москвичей считался необходимостью, как к Рождеству поросенок» [248]248
Белоусов И. А. Ушедшая Москва. М, 1998. С. 53.
[Закрыть] . Бывало, что, не желая тратиться, мастеровые импровизировали себе обед на рабочем месте, иногда прямо на улице: крошили в квас принесенные с собой огурцы, лук, соленую рыбу и хлебали получившуюся тюрю из общей чашки.
По субботам жители окраин большими компаниями, с узлами в руках, ходили в баню, а оттуда возвращались с вениками. «Бывало, целый день в субботу идет народ, и все с вениками в руках, словно это праздник веников, как бывает праздник цветов» [249]249
Московская старина. М., 1989. С. 116.
[Закрыть] .
Строго соблюдали все посты и на неделе не ели скоромного по средам и пятницам. По воскресеньям и на праздники обязательно пекли пироги, а потом наряжались и шли к обедне. На выходе из церкви раздавали милостыню нищим. Воскресными вечерами зимой собирались всей семьей вокруг свечки и отец читал вслух псалмы и акафисты, а все домочадцы хором пели, как в церкви. По большим праздникам ходили на гулянья (в Вербное воскресенье – на Красную площадь, Первого мая – в Сокольники). На Святках большими компаниями с молодежью, в ковровых санях, ездили гостевать, а на Масленице отправлялись кататься в Рогожскую, где было грандиозное простонародное гулянье и где присматривали невест и женихов.
В театры в низовой среде очень долго не ходили, считая всякий театр «бесовским наваждением». Хотя очень многим хотелось посмотреть, «что это за штука такая», но – нельзя было, подобное любопытство совсем не одобрялось общественным мнением, а о молодой девушке, хотевшей пойти в театр, могла даже пойти дурная слава. Поэтому изредка, на Святой, Рождестве или Масленице, позволяли себе только балаганы и цирк – «ведь это все-таки „не всамделишный“ театр, и настоящего бесовского тут самый пустяк» [250]250
Там же. С. 117.
[Закрыть] .
В самом начале века (до 1830-х годов) в московской низовой среде носили преимущественно народный костюм: сарафаны, душегреи, подпоясанные кафтаны без ворота, армяки и пр. Потом все более активно начали осваивать элементы модного европейского платья. В 1840-х годах В. Г. Белинский писал: «Мещанство создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и русский, и иностранный типы головной мужской одежды, выростковые сапоги, в которых прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополым жидовским сюртуком и кучерским кафтаном; красная александрийская или ситцевая рубаха с косым воротом, а на шее грязный пестрый платок. Прекрасная половина этого сословия представляет своим костюмом такое же дикое смешение русской одежды с европейскою: женщины ходят большею частию (кроме уж самых бедных) в платьях и шалях порядочных женщин (то есть женщин высших сословий. – В.Я), а волосы прячут под шапочку, сделанную из цветного шелкового платка; белила, румяна и сурьма составляют неотъемлемую часть их самих, точно также, как стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы» [251]251
Белинский В. Г. Москва и Петербург // Москва – Петербург: pro et contra. СПб, 2000. С. 202.
[Закрыть] .
Еще и в 1860-х годах горожанки из крестьянок продолжали носить в праздничные дни сарафаны, кисейные рубахи с пышными рукавами, позолоченные перстни со светлыми «глазками» и накидывали на плечи пестрые шерстяные платки.
К последним десятилетиям века обычный мужской костюм состоял из заправленных в сапоги штанов, цветной (а в будни «немаркой» сероватой или желтоватой) рубахи навыпуск, поверх нее жилетка, а поверх жилетки поддевка (иначе «чуйка») – что-то вроде легкого пальто в талию, длиной ниже колен. В самом конце века вместо поддевки чаще уже стали носить пиджак. На голове картуз с козырьком. В подобное платье одевались и фабричные, и мещане, и «серые» купцы, что породило обиходное общемосковское прозвище «чуйка», обозначавшее простолюдина вообще, в том числе и человека неопределенного положения (не то купец, не то мещанин).
Женщины в будни ходили в платочках и ситцевых юбках с кофточкой-баской, а для праздников и «на выход» нередко заводили себе модное платье (порой и не одно) и даже шляпку. Московская мещанка Н. А. Бычкова, умевшая хорошо шить, вспоминала: «Я, конечно, очень нарядами не занималась (где мне в моем положении модничать?), а все ж таки отставать не отставала. Нет-нет, и сошью себе по картинке (из модного журнала. – В. Б.).Молода была, 17 лет» [252]252
Бычкова Н. А. Как жили ваши бабушки и прабабушки // Лица. Вып. 8. СПб, 2001. С. 453.
[Закрыть] .
Мужчины для праздничных случаев обзаводились сюртуком или костюмом-тройкой, но чаще для них признаками праздника по старинке оставались гладко примазанные квасом или коровьим маслом волосы, яркая рубаха и натертые чистым смоленским дегтем громко скрипящие сапоги.
Семейные нравы в низовой среде подчинялись патриархальной традиции: муж был главным над всеми домочадцами, а все семейные недоразумения разрешались рукоприкладством. «Отец, бывало, пьяный придет, давай мать учить, – рассказывала Н. А. Бычкова. – Избить всю – это учить называлось. Потому он муж, ему власть, а по пословице старинной – курица не птица, баба не человек.
Вся она-то, моя бедная голубушка, в синяках да в кровоподтеках ходит. Куда там жаловаться, кому! Потому всяк муж своей жене господин, а на венчаньи Апостол читается: „Жена да убоится своего мужа“. Он, мол, тебе сапогом в живот, а ты молчи, он, дескать, твой кормилец и повелитель.
Что вы, разве можно у соседей укрываться было! Стыд и срам сор из избы выносить. Да и всюду такое творилось, по всей матушке-России мужья жен „обучали“. И бедные, и богатые… Боялась я его до смерти. Бывало, чуть заслышу: сапожищами гремит, – в угол аль под кровать забьюсь, дрожу вся со страху – вот-вот побоище начнется» [253]253
Там же. С. 436.
[Закрыть] .
Впрочем, битьем русского человека вообще было не удивить: не только мужья «учили» жен, а отцы и матери детей: секли учеников во всех казенных учебных заведениях и даже в семинариях, дрались офицеры в полках и мастера на заводах, пороли провинившихся простолюдинов в полицейских участках, и вообще «всыпать ума через задние ворота» долго считалось универсальным общерусским средством на все случаи жизни. «Мать меня… считала отчаянной. За всякие шалости расправа была короткой, – вспоминала актриса А И. Шуберт, росшая в семье бывших крепостных „аристократов“ (отец ее был дворецким в барском доме) – пощечина, за ухо, за волосы, подзатыльник. Проглотишь и пойдешь, как ни в чем не бывало, и за обиду не считалось: всех били, без битья обойтись было нельзя» [254]254
Шуберт А. И. Моя жизнь // Судьба таланта. М, 1990. С. 276.
[Закрыть] .
Справедливости ради следует добавить, что москвички «из простых» и сами часто были не промах: обладали громкими голосами, не лазили за словом в карман, виртуозно бранились и порой превращали семейное «ученье» в семейную же потасовку, из которой главным пострадавшим выходил как раз «кормилец и повелитель».
Грамоте дети мещан и мастеровых, а в первой половине века – и купцов, как правило, обучались у своего приходского дьячка. Начиналась учеба 1 декабря – в день пророка Наума, или 1 октября, на Покров. Перед началом учения дома у ученика устраивали молебен, молились о преуспеянии в науках, «о даровании силы и крепости к познанию учения и к познанию блага и надежды». Обучение производилось по веками отработанной системе: сначала заучивались названия букв, потом «склады» – двойные и тройные. Их осваивали, водя указкой по азбуке и громко повторяя вслух за учителем. (Указки эти были столь широко распространены, что продавались не только в писчебумажных и книжных, но даже в «овощных» лавочках.)
Вот как описывал процесс первоначального учения А. Н. Островский: «Наконец день пророка Наума приближился, азбука была куплена; Максимка выточил указку; все было готово, оставалось приступить к науке. Для первого урока дьячок был приглашен на дом. Тут составилась трогательная картина: помолившись Богу, усадили Кузиньку за стол и дали в руку указку, причем Кузя так горько и жалостно плакал, что возбудил сострадание во всех окружающих; посадивши верхом на нос очки, которых каждое стекло было немного меньше каретного колеса, поместился подле Кузи дьячок, кругом стола обступили мать, бабушка и Максимка, из дверей выглядывали домочадцы. Так началось ученье Кузиньки. Продолжалось оно не так торжественно. Каждое утро Кузя, надев сумку, наполненную книгами и булками, ходил к дьячку в сопровождении Максимки. Так ходил он ровно два года; а через два года кончил курс ученья, преподаваемого дьячком, то есть выучил азбуку, что называется от доски до доски, потом прочел часослов, а наконец псалтырь; тем и дело кончилось» [255]255
Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя. М, 1987. С. 29–30.
[Закрыть] .
После освоения церковнославянской грамоты учили гражданскую. Книжная премудрость давалась с трудом. Как писал И. А. Белоусов: «Я вспоминаю одного ученика – сына булочника из Замоскворечья, – ему так трудно давалась азбука, и так он ее возненавидел, что, проходя по Москворецкому мосту, утопил книжку в Москве-реке» [256]256
Белоусов И. А. Ушедшая Москва. С. 43.
[Закрыть] . «Сначала в этой азбуке, – вспоминал А. Н. Островский, – буквы разных форм и размеров, потом всевозможные склады, потом целые слова; далее необходимые для жизни правила, как то: будь благочестив, уповай на Бога, люби Его всем сердцем; далее четыре стихии, пять чувств и наконец: „Помни последняя твоя – смерть, суд и геену огненную“» [257]257
Островский А. Н. Записки замоскворецкого жителя. С. 30.
[Закрыть] .
Конечно, знание грамоты в низовой среде имело прежде всего практическое значение: вести учетные книги, правильно составить квитанцию, разобрать, что написано в повестке и т. п. Встречались, однако, и книгочеи, осилившие кое-что из классики («Тараса Бульбу», «Капитанскую дочку»), читавшие песенники и даже газеты – «Московский листок», «Новости дня», «Русское слово», где печатались с продолжением приключенческие и исторические романы Н. Пастухова, Д. Дмитриева, С. Рыскина и других авторов вроде «Разбойника Чуркина», «Самосжигателей», «Чурбановских миллионов» и «Московских трущоб».








