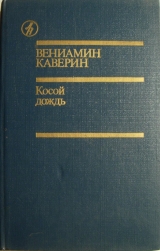
Текст книги "Двухчасовая прогулка"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
36
Да, непременно надо было притворяться сдержанной и одновременно совершенно свободной от него, а это было почти невозможно. Кем она была для него? Одинокой женщиной, о которой каждый мужчина думает: «А почему бы и нет?» Машинисткой, которая притворяется, что любит свою работу и нисколько не жалеет, что за год до окончания ушла из университета? Как обидно он удивился, узнав, что Маша легко читает и немного говорит по-французски! Она была никто для него. В этом разговоре она держалась так непринужденно не потому, что была на одном уровне с ним, а потому, что пересилила себя и осмелилась так держаться. И все это – неуверенность, смятенье, страх перед тем, что когда-нибудь должно было слупиться, непонятная слабость, охватывающая ее, когда они встречались, – все это она должна была скрывать от него. Влюбилась, как школьница, как девчонка! Скрывать, как бы это ни было трудно.
37
В неопределенности, в напряжении, которое сотрудники старались скрывать, делая вид, что все обстоит благополучно, мелькнул проблеск света. Секретарь одного из ученых советов Большой Академии, с которым Петр Андреевич почти не был знаком, позвонил, чтобы узнать, не хочет ли он выступить на бюро ученых советов.
– Поставим ваш доклад. Или отчет. Почему бы нам не устроить конференцию с вашим докладом?
В самом факте такого предложения была невысказанная, но подразумеваемая поддержка, и Коншин подумал, что Врубову и Осколкову подобный доклад, без сомнения, покажется попыткой сопротивления. Тем не менее он согласился. О далеких последствиях, которые вызвал этот шаг, показавшийся ему незначительным, он в лихорадке забот не подумал. Для него было не только важно, но лестно, что конференция в Большой Академии готовилась по поручению двух очень известных ученых, для которых Врубов, не говоря уж об Осколкове, почти не существовал.
Один из академиков позвонил Коншину и сказал, что им нужно договориться заранее, как жуликам, которые в случае возможного допроса не разошлись бы в своих показаниях.
– Надо, чтобы ни у кого не было сомнения, что конференция запланирована нами, – сказал он. – И что ни при каких обстоятельствах отменить ее невозможно.
Впервые за много дней Коншин вздохнул свободно. Он почувствовал подлинную заинтересованность в его деле – вот откуда этот доброжелательный, шутливый тон.
Но тотчас же последовал ответный ход – и рассчитанный метко.
Осколков вдруг вызвал его и, глядя прямо в лицо, сообщил, что в самые ближайшие дни состоится ученый совет, на котором Коншин должен выступить с отчетом за пять лет работы.
Во всех своих докладных, возражая против ликвидации отдела, Петр Андреевич с негодованием писал, что приказ был отдан без предварительного отчета, а теперь, когда в газете появилось объявление о конкурсе, когда все сотрудники считались уволенными, а он исполняет должность врио, вдруг понадобился отчет, да еще «с перспективой развития», как подчеркнул Осколков.
– По-видимому, как обычно, в четверг? – спросил Петр Андреевич.
– Возможно. Но повестка печатается пока без даты.
– Почему?
– По указанию директора.
Коншин усмехнулся.
– Так, может быть, в понедельник? – спросил он.
На понедельник была назначена конференция в Большой Академии.
– Да, возможно.
– Ну-с, вот что, – сказал Петр Андреевич. – Я не приду.
– Почему?
– Семейный праздник, день рождения бабушки.
– Но позвольте...
– Нет, не позволю, – чувствуя легкость, сказал Коншин. – Ученый совет был обязан выслушать мой отчет до ликвидации отдела. А теперь, когда в «Медицинской газете»...
– Явка всех заведующих обязательна, – сказал Осколков.
– А я не заведующий. Я – врио.
Осколков помолчал.
– Послушайте, Петр Андреевич, – мягким голосом начал он. – Вы же умница. Неужели вы не понимаете, что вопреки дурному характеру директора вы должны продолжать свое дело?
– Я его и продолжаю.
– Да, но свою энергию, драгоценную причем энергию, я не боюсь этого слова, вы тратите на защиту отдела. Дался вам этот отдел! В сравнении с вашими сотрудниками вы – на недосягаемой высоте.
– Позвольте мне самому оценивать своих сотрудников, – сдерживая себя, ответил Коншин. – Я бы, пожалуй, объяснил вам значение отдела, но для этого надо разбираться в вопросах, которые для вас по сей день недоступны!
Он вышел, хлопнув дверью, и, вернувшись в отдел, написал длинное, обстоятельное заявление об уходе. Черновик он не забыл оставить для «склочной папки». Это был шаг, который выходил далеко за пределы врубовской затеи. Прямое сопротивление разрушало задуманный план. Без заведующего «перестройка» отдела не удавалась.
38
Уход! Как легко выговаривалось это слово! Между тем что означал для него уход? Невозможность завершить то, над чем он работал долгие годы. Потерю соратников, которые верят, что ни один день, ни один час не были потрачены даром. Он бросал себя на полдороге. Уход от себя – вот в чем был подлинный смысл этого слова! Догадка и размышления, страстная защита своих догадок, смелое забеганье вперед, вглядыванье в будущее, терпеливая работа с каждым сотрудником, который терял надежду, отчаивался, сомневался, – все это принадлежало ему, и от всего этого он должен был теперь отказаться. Уход был потерей всей сложнейшей подготовки к главному, специально выведенных животных, новых приборов, сделанных его руками, всего, что было приспособлено, обдумано им, начиная с любой розетки, поставленной в надлежащем месте, и кончая всем строем его жизни, подчиненной рискованной задаче.
39
Он писал доклад три дня, не отрывая пера от бумаги, а потом приехал Левенштейн, застал у него Машу и рассвирепел. Толстые губы обиженно набрякли, доброе лицо потемнело.
– Что-нибудь одно, – сердито сказал он в ванной, где с ожесточением мыл чистые, мягкие руки. – Мог бы, кажется, обойтись.
– Молчи, дубина, – тоже рассвирепев, ответил Коншин. – Это совсем не то.
Слышала ли Маша? Он не был уверен. Но когда она вернулась из кухни с подносом, на котором стояли три чашки свежего, крепкого чая, глаза у нее смеялись.
Левенштейн прочитал доклад, долго мялся и наконец выпалил, что это не доклад, а двухчасовая академическая лекция, более чем далекая от «создавшегося положения».
– Здесь нет и тени обороны. А между тем нужно, чтобы она чувствовалась, хотя о ней, конечно, нельзя упоминать ни словом. И надо – извини – не рыть землю носом, а написать изящный, острый, броский доклад.
Он был прав, и Петр Андреевич согласился, как бы окинув все написанное одним взглядом.
– Минут на сорок пять. Ну пятьдесят от силы. Послушай, откуда ты взял эту прелесть? – спросил он в передней, надевая пальто.
– Ах, прелесть?
– Да, да! – с восторгом подтвердил Левенштейн, хотя Маша, пока обсуждался доклад, произнесла не больше чем три-четыре слова. – Тебе нужно жениться на ней. И чем скорее, тем лучше!
Коншин вернулся, смеясь.
– Знаете, что он мне сказал? Что нам надо пожениться.
– Может быть, может быть, – быстро сказала Маша. – Но прежде всего необходимо переделать доклад.
Времени почти не оставалось, полдня, но он в каком-то веселом бешенстве набросал новый вариант и вечером позвонил Маше.
– Как, уже?
– Да. И, кажется, получилось. Надо бы перепечатать. Но сойдет и так.
– Сейчас приеду и перепечатаю.
– Нет, нет. Я знаю, у вас был утомительный день.
– Да. Возьму такси и буду у вас через сорок минут.
Она приехала и, не теряя времени, села за машинку.
– Вам нужно выспаться. Я перепечатаю и тихонько уйду.
Она ласково погладила его по лицу. Он поцеловал маленькую руку.
– А я уже больше не могу.
– Нет, нет! Ну что вы! Не сегодня. Мы оба устали, и я еще ничего не решила.
Он спал под стук машинки и, просыпаясь, смотрел на Машу, сидевшую прямо, с энергичным, поглощенным лицом, одновременно и работающую, и оберегающую его сон, его жизнь.
Она была здесь, рядом, она не покидала его в тревожном, перепутанном сне, когда он брел куда-то в пыли, и везде полыхала эта черная пыль, из которой все труднее становилось вытаскивать ноги.
Потом он проснулся, у него затекла рука, и сквозь прищуренные веки снова увидел Машу – наяву или во сне? Она уже не печатала больше, она смотрела на него нежным, добрым, любящим взглядом. Но в этом взгляде было еще и то, что заставило Петра Андреевича вскочить и кинуться к ней. Она только слабо вскрикнула, когда Коншин обнял ее и подхватил на руки, как ребенка. Он целовал ее, задохнувшуюся, побледневшую, с распустившейся косой, прижавшуюся к нему и повторяющую что-то дрожащими губами.
40
Еще целых полчаса оставалось до доклада, и, стараясь держаться подальше, он время от времени косился на подъезд Института. Идут? Да, шли и шли. Он узнавал знакомых, но очень много было и незнакомых, молодых, громко разговаривавших, и их голоса в морозном воздухе звучали ободряюще-звонко.
От станции метро он шел к булочной, потом заворачивал налево, к новой парикмахерской, похожей на огромный, стеклянный, ярко освещенный куб, в котором происходило что-то загадочное: силуэты двигались навстречу друг другу, мелькали руки, пересекалась отсветы зеркал, – и снова круг за кругом: метро, булочная, парикмахерская.
И вдруг – Петр Андреевич не поверил своим глазам – из подъехавшей машины вышел и неторопливо прошествовал, волоча тяжелую распахнувшуюся шубу, грузный старик в боярской шапке, о котором один из величайших биохимиков мира сказал, спустившись по трапу на аэродром: «Наконец-то я на земле Костылева».
Когда Коншин вошел в Институт, его сразу же окружили друзья, ожидавшие в вестибюле. Он объяснил, что рано пришел и решил прогуляться.
На кафедре он всегда, испытывал чувство уверенности, и она явилась, когда он отчетливо услышал собственный голос. Вскоре и не было ни малейших сомнений в том, что он глубоко заинтересовал аудиторию тем, в чем сам был глубоко заинтересован. С радостью, от которой невольно зазвенел голос, он почувствовал, что самое важное уже совершилось.
– Я хочу рассказать вам о том, чем я живу, – как будто говорил он, хотя речь шла о строго научной проблеме. – Я хочу рассказать о том, что все усилия моего разума, моей воли были направлены на решение загадок, которые, как вы сами убедитесь, мне удалось разгадать. Кроме истины, мне ничего не надо. Я хочу высказать вам трезвым голосом ясные мысли, я уверяю вас, что этой трезвости и простоты вполне достаточно, чтобы опрокинуть неврастенический ажиотаж, улавливанье настроений, борьбу честолюбий, искаженное властвование, – все это ничего, кроме вреда, не может принести нашей науке. У меня нет никакой посторонней цели. Я говорю только о справедливости и чувстве долга, без которых и жить невозможно, и дела делать нельзя.
Он говорил это для всех, для переполненного зала, но радостное волнение, звеневшее в голосе, относилось к той, что сидела в первом ряду вся собранная, прямая, в нарядном темно-вишневом платье.
Он нажал кнопку, чтобы показать слайды, а потом, когда в зале вспыхнул мертвенно-бледный, но яркий свет, продолжал говорить, внутренне обращаясь к одной только Маше.
41
Все, что произошло в ближайшие дни, было похоже на кинофильм, запущенный в обратном порядке. События наступали друг другу на ноги, торопясь сложиться в первоначальную картину. Но в этом зрелище, которое обычно производит комическое впечатление, не было ничего смешного. Напротив – это была пора несбывшихся надежд.
Успех доклада был двойной – внутренний и внешний. Внутренний заключался в том, что если прежде кое-кто колебался, подавать ли на конкурс, теперь решение было единодушным, и если бы удалось выдержать его до конца, это могло поставить дирекцию в сложное положение.
Внешний успех... О, внешний успех показал, что вокруг Петра Андреевича не разреженное пространство, что он в определенной среде, которая поддерживает его в разгоревшейся схватке!
Можно смело сказать, что в самых широких кругах биологов говорили теперь о том, что происходило в Институте. Что-то вздрогнуло, зазвенело, переломилось, и это немедленно нашло отражение, в многочисленных отзывах, письмах, пожеланиях. Все шло хорошо, и даже так хорошо, что суеверный Левенштейн стал показывать фиги и плевать через левое плечо – у него была сложная манера открещиваться от неприятностей.
Петр Андреевич должен был отработать еще две недели для того, чтобы его заявление «вступило в силу». На следующий день после конференции он, как обычно, пришел на работу, и уже через час ему позвонили, сообщив, что президент Академии биологических наук Кржевский просит его прислать официальное ходатайство о восстановлении отдела.
Задача была сложная – не мог же он откровенно просить президента, чтобы отдел был переведен в другой институт! И Петр Андреевич, кратко изложив историю конфликта, ограничился тем, что приложил отчет за пять лет. Может быть, он был бы смелее, если бы знал, что в Большой Академии уже составлялось заключение, подводившее итоги конференции, подчеркивающее уникальность отдела и неразрывную связь составляющих его двух лабораторий. Впрочем, он ждал вызова к президенту, и «уж тут-то, – думалось ему, – я не уйду от него, пока он не согласится».
И все, казалось, шло к тому, чтобы этот выход осуществился.
В разговоре с одним из близких сотрудников Саблин дал понять, что он готов поговорить с Коншиным, если тот не намерен взять назад свое заявление. Встреча состоялась через несколько дней.
Впервые он видел Саблина в домашней обстановке – седая величественная голова, мягкие движения крупного тела, глубоко сидящие задумчивые глаза удивительно вписывались в эту обстановку. Но глаза как будто избегали смотреть в глаза собеседника. Сдержанность? Осторожность?
Все в его кабинете было устроено изящно и просто. Мягкая удобная мебель, гравюры на стенах (Саблин был знатоком и собирателем старинных гравюр), на небольшом письменном столе полный порядок, все под рукой,
Так, значит, ко мне, – сказал он, свободно улыбаясь. – Трудности с помещением постараемся преодолеть. Тем более что мои сотрудники так любят и уважают вас, что готовы потесниться. Весь вопрос в том, как это сделать. Необходим расчет, и заключается он, по-моему, в том, чтобы Кржевскому пришлось предложить мне взять отдел, – и тогда мы сразу становимся хозяевами положения.
Петру Андреевичу было неясно, каким образом можно устроить, чтобы Кржевскому «пришлось предложить». Он попросил объяснения.
– Да очень просто! Вы должны стоять на своем и наотрез отказываться от любых предложений. А когда он согласится, дело сразу же примет другой оборот. Во-первых, я смогу тогда диктовать свои условия, оборудование и прочее. Во-вторых...
Но Петр Андреевич уже едва слушал это «во-вторых». Он храбрился, получив вызов от президента. Но теперь эта встреча во всей своей конкретности, вещественности явилась перед его глазами.
Он с детства чувствовал не только уважение к людям старше его по возрасту и положению, но ему казалось неприятным и странным убеждать их, настаивая на своем, и, стало быть, противоречить их намерениям и желаниям. Именно это чувство испытывал он и сейчас, разговаривая с Саблиным и убеждаясь, что не в силах просить его взять на себя хлопоты по переводу. А впереди его ждало более тяжкое испытание: убеждать президента. И еще одно: за благожелательным тоном Саблина чувствовался оттенок неуверенности. Советы он давал решительные, но какие-то уж слишком решительные и в конечном счете исключавшие его участие в деле. Считал ли он, что Коншин преувеличивает сложность своего положения? Или просто разделял общее убеждение, что от Врубова лучше держаться подальше?
Все-таки Петр Андреевич ушел обнадеженным. Расчет Саблина показался ему разумным. И не мог же он говорить с ним о чувствах, а не о деле! И, черт возьми, думалось ему, неужели у Кржевского он не сумеет настоять на своем?!
Но когда через несколько дней он поехал в Академию, произошло именно то, чего он боялся, хотя на этот раз он говорил и о чувствах и о деле.
Он был встречен более чем доброжелательно. Президент встал из-за стола и пошел ему навстречу. Из-под густых бровей глядели маленькие, умные, проницательные глаза. Сложение при небольшом росте было могучее, и, как всегда, он напомнил Петру Андреевичу плотовщиков, которых в молодости ему случалось видеть на Енисее.
– Я не был на бюро, – решительно сказал Кржевский, – лежал в больнице, но решение было сформулировано иначе. Пока я здесь, вы можете работать спокойно.
Он не заметил, как двусмысленно прозвучало это «пока». Через три месяца предстояли выборы, и на месте этого президента мог оказаться другой, по-своему понимавший отношения между директором и отделом.
«Но не могу же я спросить его: «А вы уверены, что вас снова изберут?» – с грустной усмешкой подумал Петр Андреевич.
Какой-то сотрудник заглянул в кабинет, и Кржевский, покосившись, сказал:
– Сегодня же будет доложено вашему. Словом, на ближайшем президиуме будет рассматриваться ваше дело. Восстановим отдел, это я вам обещаю.
– А вам не кажется, – стараясь, чтобы у него не дрожал голос, сказал Коншин, – что если это случится...
И он заговорил о неискренности, о сложности врывающихся в работу личных отношений. Если бы не долг перед покойным Шумиловым...
Но боже мой! Как не похоже это было на саблинское «стоять на месте, упорствовать, настаивать на своем»!
Кржевский слушал его не без интереса, но с оттенком нетерпения. Он полусогласился с ним, хотя, с его точки зрения, нецелесообразно было срывать с места большой, энергично и успешно работающий отдел. Ведь врубовский Институт, в сущности, на нем-то главным образом и держался. Он верил Коншину, и боялся за него. Но инстинктивно он стремился к равновесию в громадном хозяйстве Академии, а если отдел перейдет к Саблину, это равновесие... Но подумать надо! Надо подумать.
– Восстановят отдел, а там видно будет. Может быть, и переведем.
– Да Врубов съест меня, если отдел восстановят! – вырвалось у Коншина.
Кржевский успокоительно положил ему руку на плечо.
– Вы ему не по зубам, дорогой Петр Андреевич, – сказал он сердечно. – Я-то знаю вам цену. Но встретиться с ним вам все-таки придется. Он звонил и утверждал, что вы настоятельно уклоняетесь от разговора. А, собственно говоря, почему? Если вы уверены в своей правоте...
42
Верочка, с которой Маша должна была пойти в Театр на Малой Бронной, заболела, и она позвонила Петру Андреевичу, что у нее свободный билет. Шли «Три сестры» в новой постановке, которую дружно ругали газеты.
– Но если тебе не хочется, я отдам кому-нибудь билеты и приеду к тебе.
– Ни в коем случае. Сейчас одеваюсь и бегу.
Они встретились у театра. Потолкавшись в гардеробе, поднялись в фойе. Маша была праздничная, нарядная, с голубовато подведенными веками, в длинном модном платье, делавшем ее стройнее и выше.
– На тебя оглядываются.
– У тебя уже были женщины, на которых оглядывались.
– Совсем по-другому.
– Собственник, – сказала Маша и посоветовала ему перечитать «Сагу о Форсайтах».
О «Трех сестрах» они недавно спорили, и поэтому увидеть спектакль, да еще в новой постановке, было особенно интересно.
Петр Андреевич утверждал, что в пьесах Чехова каждый занят только собой и одни герои давно знают то, что им говорят другие.
– В сущности, что мешает сестрам переехать в Москву? Это так и остается неясным. Если бы кто-нибудь, хотя бы Чебутыкин, купил им три железнодорожных билета – Соленый не убил бы барона и все могло окончиться благополучно. Вообще почему их так тянет в Москву? Правда, они провели там детство, но потом оказывается, что ни одна из них Москву совершенно не помнит.
И Маша терпеливо объяснила ему, что Чехов умышленно противопоставил реальную Москву с ее университетом и Василием Блаженным другой, неопределенной, романтической Москве, и поэтому пьеса производит не комическое, а трагическое впечатление. Чебутыкин, который спрашивает: «А может быть, нас нет?» – : не в силах отправить сестер в Москву уже потому, что без них не представляет себе собственной жизни. Уехать в Москву сестрам мешает не невозможность купить билеты, а невозможность стать собой.
И уже в первом акте Коншину показались смешными и детскими его возражения.
В душноватой темноте зала рядом с ним была Маша, и они вместе вдруг перенеслись в другую жизнь, которая с волшебной простотой открылась перед ними. Сестры ждут гостей, именины Ирины, и в ожидании еще можно раскинуться на диване, вспомнить прошлое, поболтать. Приходят Тузенбах и Чебутыкин, каждый действительно говорит о себе, но как интересно, как важно то, что они говорят, не для них, а для Коншина и Маши. Счастливые слезы проступили у него на глазах, он нашел и в темноте нежно поцеловал Машину руку.
Он уже любил их всех, и боялся за них, и удивлялся вместе с ними, что Чебутыкин подарил Ирине серебряный самовар, и обрадовался, что вошедший Вершинин заговорил так естественно и свободно. Прошли десятилетия с тех пор, как они жили, и все-таки он чувствовал свою кровную связь с ними, с сестрами, с добрыми, благородными Вершининым и Тузенбахом. Они поняли бы его, если бы он рассказал им о своих делах и заботах. А Соленый с его ущемленным самолюбием, с его неполноценностью и стремлением утвердить себя там, где для него не было места, – боже мой, да он, Коншин, каждый день сталкивается с такими людьми у себя в Институте! На концертах он подчас ловил себя на том, что и слушает и не слушает музыку, думая о себе. Так и теперь, не пропуская ни одного слова из того, что происходило на сцене, он думал о том, какие бессмысленные, никому не нужные унижения приходится ему переносить только для того, чтобы заниматься своим делом. Но он думал и о судьбе, подарившей ему Машу, когда он уже почти был уверен, что его ждет одинокая старость. «Неужели пройдет время – и я забуду наслажденье этого вечера? – думал он. – Это блаженное неодиночество, от которого даже теперь, в театре, на людях, сладко кружится голова?»
В антракте его и Машу не оставляло праздничное настроение. Первый акт понравился, и Коншин, смеясь, заметил, что берет назад свои парадоксы.
– Как хорошо, что Ирина танцует вальс. Ведь это день ее именин и надо радоваться, даже если не очень хочется. В первой картине все кажется немного бессвязным, но потом начинаешь верить, что это не бессвязность, а отношение сестер к тому, что происходит в доме.
– И в мире.
– Да, – согласился Коншин, снова начиная бессознательно любоваться Машей, которая была такая же, как дома, но и какая-то еще, не забывшая, что она нарядно одета. – Ты знаешь, я впервые понял, что эта пьеса – история дома, из которого сестры уходят одна за другой. И потом, я все время чувствую их близость ко мне, точно Тузенбах или Ирина – мои родственники, которым важно, что со мной происходит. Может быть, не родственники, это смешно, но, во всяком случае, близкие люди.
– А у меня нет этого чувства. Я смотрю и думаю: «Так вот как все это было».
– Но было?
– Да.
– Так что Чебутыкин не прав, когда он спрашивает: «А может быть, нас нет?»
Маша засмеялась.
Коншин ушел покурить и, возвращаясь, еще на верхних ступеньках лестницы увидел, что рядом с Машей стоит незнакомый молодой человек.
– Познакомьтесь, – сказала Маша. – Паоло Темиров, мой товарищ по университету.
– Так вот кто тебя укротил, – крепко пожимая Петру Андреевичу руку и улыбаясь, сказал Темиров.
Коншин помрачнел: что значит это развязное «укротил»? И откуда этот субъект знает, укротил он Машу или нет?
– А Маша была неукротимая? – с плохо скрытым раздражением спросил он.
– Не в плохом смысле. В хорошем. Как по-русски сказать – бедовая, – ответил Темиров. Он говорил с легким грузинским акцентом.
Смуглый, коротко стриженный, невысокого роста, с красивыми глазами, он смотрел на Машу с доброй улыбкой. Но Коншину не понравилась и эта улыбка.
– Как я рад, что мы встретились, – говорил Темиров. – Черт знает, в одном городе живем, может быть, даже рядом живем, а никогда друг друга увидеть не можем. Ну что ты, как ты? Вы простите, – обратился он к Коншину, – что я так разговариваю. Мы друзья были.
Петр Андреевич промолчал.
– Мы большими друзьями были. Я ее Фру-Фру дразнил. Маша, помнишь, как я тебя дразнил?
– Конечно, помню, – ответила она и засмеялась.
– Но позвольте, Фру-Фру... Кажется, так звали лошадь Вронского в «Анне Карениной»? – спросил Коншин.
– Вот именно. Лошадь. Кто-то сказал, что Маша похожа на Анну Каренину, а я сказал – на Фру-Фру. И она не рассердилась. Правда, Маша? Ей даже понравилось.
Вернувшись к себе, Коншин взял с полки «Анну Каренину» и нашел страницу, где рассказывалось о Фру-Фру: «Во всей фигуре и особенно в голове ее было определенное, энергичное и вместе нежное выражение». «А ведь и в самом деле, – подумал Коншин, – похожа на Машу».
Но в театре он с трудом заставил себя не сказать Темирову, что сравнивать девушку с кобылой по меньшей мере неприлично.
– Хорошее было время, правда? – говорил Темиров. – А где Верочка?
– Попова? Мы с ней часто встречаемся. Как была, так и осталась моей лучшей подругой.
– Передавай ей привет, – сказал Паоло. – Я ее тоже любил, она немного зануда, но все равно мы все друг друга любили. Значит, работаешь машинисткой?
– Да.
– И довольна?
– Очень.
– Ты красавица, умница. Извините, что я так разговариваю, – снова сказал он Коншину. – Теперь, конечно, дама. Совершенно такая же, как раньше, но немножко солиднее. Сколько лет прошло?
– Девять. А как ты?
– Я? Ну что я? Каким был, таким и остался. «То вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда!» Эх, уже звонок! Расставаться жалко.
– Зачем же расставаться? Приходи, Паоло, я буду рада.
– Можно? – Он улыбнулся, показав красивые ровные зубы.
– Почему же нет?
Маша достала блокнот и записала телефон и адрес.
– Позвони и приходи.
…Чебутыкин уже прочел в газете, что Бальзак венчался в Бердичеве, и Коншину показалось нелепым, что Ирина, раскладывая пасьянс, повторила эту никому не нужную фразу. На сцене было почему-то темнее, чем в первом акте, – или Петру Андреевичу это только казалось? Соленый не мог сказать, что он изжарил бы своего ребенка на сковородке, а если Чехов написал этот вздор, режиссеру (будь у него хороший вкус) следовало бы вымарать эту фразу. «Вообще зачем было ставить эту устаревшую пьесу? Кого интересует этот барон, который фальшиво объясняется Ирине в любви? Соленый уже объяснялся ей, и лучше бы она вышла за него, чем за этого неопределенного слюнтяя».
Он искоса посмотрел на Машу, она улыбнулась ему в темноте, в тишине зрительного зала и нежно вложила в его руку свою. Неужели она чувствовала, что в нем происходит? Он не мог заставить, себя улыбнуться в ответ. «Зачем Маша сказала ему: «позвони и заходи»? Вот теперь и будет каждый день шляться этот подозрительный тип! «Буду рада». Есть чему радоваться! И что это значит: «Мы любили друг друга»? Кто это «мы»? Чебутыкин, который знает, что будет дуэль, и не сомневается в том, что Соленый убьет барона, сказал об этом так, как будто ему наплевать и на Соленого и на барона. Хорош врач! «И зачем, зачем Маша уговорила меня пойти на эту пьесу, которую я видел тысячу раз?» Маша не уговаривала, но ему уже казалось, что уговаривала и уговорила. Спектакль кончился, они медленно спускались по лестнице в шумной толпе. Маша была уверена, что сейчас он спросит ее о Темирове, но Петр Андреевич мрачно молчал, и она заговорила сама.
– Тебе не понравился Темиров, я вижу.
– Мне показалось странным, что он так развязно говорил с тобой.
– Мы дружили в университете, хотя он был в другой компании. Его любили. У него всегда были деньги, и он не просто спешил, а кидался выручать товарища из беды.
– Откуда же деньги?
– А он картежник, – спокойно объяснила Маша.
– Должно быть, счастливо играл.
Ей было и радостно, и смешно. Приревновал к Паоло! Но она еще и. сердилась.
– Чем он занимается?
– Не знаю. Из университета его исключили, потому что в общежитии в своей комнате он устроил настоящий карточный клуб.
– Так, может быть, еще и шулер?
– Весьма вероятно. Тогда благородный шулер.
– И такого человека ты приглашаешь к себе?
– Да, – твердо сказала Маша. – Ведь не к тебе.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я хочу сказать, что довольно страдала от беспричинной ревности и больше не хочу.
Они поссорились, Маша отказалась ехать к нему и пошла пешком на улицу Алексея Толстого. Дорогой Коншин, которому стало стыдно, попросил у нее прощенья. Она холодно поцеловала его. Он проводил ее до дому и, расстроенный, уехал к себе.








