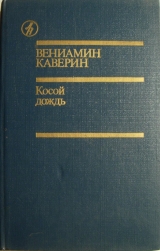
Текст книги "Двухчасовая прогулка"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
56
Маша знала, что с Коншиным будет трудно жить, потому что ему самому было жить трудно. И ей легко удалось войти в его дела, заботы и тревоги. Когда, возвращаясь домой, он рассказывал о новых этапах борьбы за отдел, между ними сразу же устанавливалось любимое ею цельное ощущение слитности: все происходило как бы не только с ним, но и с нею.
Основная трудность заключалась в том, что каждый час его домашней жизни был отдан «думанью», которое могло сопровождаться чем угодно – музыкой, ответами на письма, легким разговором. Но иногда Коншин нуждался и в полном одиночестве: стесняясь, он попросил Машу не сердиться за то, что он не будет брать ее на свои прогулки. И она не только не рассердилась, но сказала, что берет на себя защиту этого «думанья», которому на работе постоянно мешали и большие и малые помехи.
Однако вскоре в доме должна была появиться «помеха» – и самая большая, которую только можно было вообразить. Она ждала ребенка, и она невольно боялась, что его рождение осложнит их жизнь. Где, например, им жить? Однокомнатная квартира в Лоскутове мала для троих. У нее была надежда, что Трубицын вернется не скоро, хотя устраиваться временно на улице Алексея Толстого тоже совсем не хотелось. Но она получила от него письмо, извещавшее о скором возвращении, – стало быть, об этой возможности нечего было и думать, а заниматься сложной операцией обмена сейчас тоже было некогда.
Все эти тревожные размышления таяли, рассеивались, когда она вспоминала, какое лицо стало у Петра Андреевича, когда он услышал от нее, что у них будет ребенок. С озабоченными, сияющими, изумленными глазами он обнял Машу и трогательно, бережно положил руку на ее живот.
Мир, без всякого сомнения, менялся у нее на глазах: прежний, который существовал до того, как она убедилась в своей беременности, постепенно исчезал, а на его месте появлялся непривычный, новый. И даже если она просто брала книгу и открывала ее, ей казалось странным, что книга – это книга и что ее нужно читать. Это чувство было связано с неусыпной заботой: сделать все возможное, чтобы жизнь, зародившаяся в ней, не только не ушла, не погибла, но спокойно, естественно развивалась. Где-то у Цветаевой она прочла, что мужчины живут, не зная риска смерти, не чувствуя, что придет день, когда к ним приблизится этот риск. А женщины знают и чувствуют, потому что они рожают, а роды – всегда риск! Но для Маши это была еще и неизвестная страна, которая откроется перед ней, когда произойдет чудо, все значение которого она и вообразить не могла, хотя и старалась.
В свободные часы она шила распашонки, вязала чепчики, покупала одеяльца, пеленки, конверты. Суеверная Верочка Попова считала, что шить можно, а покупать ничего нельзя, и вдруг однажды принесла целую библиотеку – Чуковского, Маршака, Чарушина и Бианки. Петр Андреевич смеялся, читая вслух стихи для детей, а потом притащил груду книг, толстых, дорогих, в переплетах. Маша прочитала названия и Покатилась со смеху. Это были университетские учебники физического факультета.
– Ну и что ж тут особенного? Вырастет и поступит. Пригодятся.
57
«Первая мысль, с которой я подхожу к письменному. столу, – бежать от него», – сказал мне однажды автор доброй сотни книг, которые всю жизнь шли за ним по пятам, не давая покоя ни днем ни ночью.
Но вот приходит день, когда бежать уже поздно. Герои заняли свои места и нетерпеливо ждут воплощения. Они видят себя не так отчетливо, как видит их автор. Иные едва намечены пунктиром, иные проглядываются словно сквозь завесу тумана. Становится ясно, что в орбиту работы должно вторгнуться Знание. Это не тот айсберг, о котором некогда писал Хемингуэй. Автор давно обдумал биографии действующих лиц и давно отобрал из этих биографий то, что может ему пригодиться. Это – знание последовательности, с которой одни события идут за другими.
Еще ничего не рассказано о том, как часто теперь бывает у Коншиных Темиров. Случилось так, что в первый раз, когда он пришел, созвонившись с Машей, Петр Андреевич застал его, и разговор, в котором Паоло рассказал о себе, тронул и заинтересовал Петра Андреевича. Таких людей он еще не встречал. Это тоже была «новизна».
– Конечно, у каждого своя жизнь, и я не знаю, может быть, сам бог устроил, что человек не может жить без крыши над головой, а где мне ее взять, эту крышу? – говорил Паоло. – Конечно, я, в переносном смысле то есть, без дома. Родители надеялись, что из меня доктор выйдет. Но вот вы умный человек, Петр Андреевич, вы хороший человек, я это понял с первого взгляда и обрадовался за Машу, потому что она тоже была одна, а это еще хуже, чем для мужчины. Я обрадовался потому, что в университете был не один. Меня товарищи любили, и мы с Машей тоже были только товарищи, тем более что она, между прочим, была умница и отличница, а я уже тогда не книги в руках держал, а карты. Когда я умру, меня ни одна живая душа не пожалеет. А ведь нужно, чтобы хоть один человек пожалел! Так что ничего, Петр Андреевич, если я буду иногда приходить?
Паоло не женился и не бросил играть. Со всей нерастраченной пылкостью одинокого человека он, как мальчик, влюбился в Петра Андреевича и, когда его нет дома, настойчиво – это смешит Машу – заставляет ее рассказывать о нем. Ему уже известно о несчастье, обрушившемся на отдел, и он серьезно размышляет вслух, что он, Паоло Темиров, может сделать, чтобы приказ Врубова был отменен. С трогательным упорством он без конца возвращается к этой мысли.
Однажды, когда Петра Андреевича не было дома, Паоло явился с предложением:
– Слушай, Маша, я в Тбилиси поеду.
– Зачем?
– К отцу. У меня отец видный человек, его весь город, вся страна знает. Академик. Ну, не академик, а вроде. Он меня прогнал и может снова прогнать, если я к нему на голову свалюсь. Его подготовить надо – сын раскаялся, бросил играть и хочет вернуться. Мама может помочь, у меня мама, между прочим, грузинка. Мы с ней тайком видимся, я ее тоже очень люблю. Как увидит меня – плачет. Я ей говорю: «Мама, о чем плакать, у каждого своя жизнь. Я жив-здоров, не плачь, а то я к тебе не буду приезжать, я не могу видеть, как ты плачешь». Она меня все хочет женить, думает, что тогда перестану играть. Но я тебе скажу. Я сам недавно жениться хотел, но знаешь, в последнюю минуту выскочил из окошка, как Подколесин. Потом девушке дорогую брошку прислал, она обиделась, гордая, вернула брошку, и я теперь тебе подарю.
Маша засмеялась.
– Спасибо, не надо.
– Почему не надо? Хорошая брошка, дорогая, и Петр Андреевич не рассердится, он знает, что я тебя как друга люблю. А та девушка... Ты понимаешь, она влюбилась в меня, а разве можно в игрока влюбляться? У него только карты на уме. Хочешь верь, хочешь не верь, семейных среди игроков очень мало.
– Так зачем же ты собрался к отцу?
– Как зачем? Поговорить. Когда меня выгнали из университета, он хотел, чтобы в Тбилиси я на медицинский пошел. Это смешно, правда? Что мне с больными делать? В тридцать одно играть? Или в сингапурскую триаду? Я паспорт разорвал и уехал в Москву.
– Зачем же паспорт разорвал?
– Бумаги были нужны для поступления, но я его разорвал, просто чтобы показать, что из меня доктора не выйдет. Я ему сказал: «Слушай, отец, а твоя жизнь – не игра? Ты всю жизнь играл, чтобы стать академиком, и я тебя за это не виню. Я только еще не знаю, кто из нас честнее играет – ты или я».
– Так о чем же ты все-таки хочешь с ним говорить?
– Я ему скажу: «Слушай, я брошу играть, я сделаю все, что ты хочешь, буду жить в Тбилиси, поступлю на работу, а ты мне поможешь в одном деле,?» Конечно, сначала с ним мама поговорит, а уже потом я. Он спросит: «В каком деле?» И я ему расскажу, что эти, подлецы с Петром Андреевичем делают. Ты не думай, он влиятельный человек. Если он захочет...
Смуглое лицо Паоло еще потемнело, зубы поблескивали, в больших, добрых, серьезных глазах застыло взволнованное, ожидающее выражение. Маша подошла и поцеловала его.
– Спасибо, Паоло, ты хороший. Едва ли это поможет. Да и как же ты пообещаешь отцу, что бросишь играть? Ведь не бросишь?
– Может быть, брошу. – Он прошелся по комнате и сел, обхватив голову руками. – Эх, Маша! Пропала жизнь. Я все книги об игроках прочитал. Все искал – должен же быть какой-нибудь выход. У Достоевского игрок – не игрок, если он способен много выиграть и в Париж укатить с проституткой. А сам Достоевский? Он играл, чтобы разбогатеть, а потом спокойно работать. Но не для денег играет настоящий игрок. Деньги ему нужны для игры. Он одинокий человек, ни жены, ни детей, он – и судьба. Вот ты говоришь, я добрый человек. Я мать люблю, людей люблю, но куда же мне девать свою доброту? Человек должен иметь назначение в жизни. У меня нет назначения. У меня предназначение, а это значит, что выхода нет. Нет, пропал, не утешай! Я не люблю, когда меня утешают.
58
Пришел Петр Андреевич, и Паоло просиял. Маше он сделал большие глаза, это означало: молчи. На такой откровенный разговор при Коншине он бы не решился. Маша чуть заметно кивнула.
За ужином он рассказывал о шулерах.
– Ко мне, между прочим, это не относится. В конторе знают, что я порядочный человек.
Конторой Паоло называл угрозыск.
– Конечно, допрашивали много раз, но я сказал: «Все могу, но не стану, потому что это обман доверия». А так знакомятся, конечно, где-нибудь в порту или на вокзале. Видимость случайности. «Извини, пожалуйста, товарищ, ты не из Новосибирска?» Или: «У меня как раз два свободных места в такси». И прямо в ресторан. Конечно, не всякий ресторан, а с договоренностью, например «Варшава» или «Прага». Еще за столом начинают играть, сперва по маленькой. Если рыбак – «Неужели не знаешь рыбацкую секу?» Название игры. Еще японский сундучок, три листика, тридцать одно. Тот, с которым играют, называется лох. Если лох попадается богатый, но недоверчивый, осторожный, его в катран не везут. Конечно, можно намешать в коньяк химикат, но опасно. Придет в себя, начнет шуметь, и отмазаться не всегда удается. С таким надо играть в хорошей интеллигентной семье. Какой-нибудь рыбак или зверолов с Камчатки с большими деньгами. Для таких квартира: «У меня знакомый есть, между прочим, известный ученый. Поедем к нему». Созваниваются; рядом лох в автомате. «Валентин Сергеевич, можно приехать? Случайный знакомый, но очень хороший человек». – «Пожалуйста, буду рад». И едут.
– Постой, постой, как ты сказал? – спрашивает Маша. – Валентин Сергеевич?
– Да. Но это я случайно назвал настоящее имя. Можно сказать иначе – Иван Петрович.
– Настоящее?
– Да.
– А как фамилия этого Валентина Сергеевича?
– Осколков. Он, кстати, живет здесь, в двух шагах. Такой старинный дом вроде дачи. У трамвайной остановки. Мерзавец. Почти убийца.
59
– Может ли быть? Вы уверены, что не ошибаетесь, Паоло?
Петр Андреевич не мог прийти в себя от изумления.
– Я ошибаюсь? – закричал Паоло. – Пускай меня живым сожгут, если я ошибаюсь!
Маша вспомнила о странной сцене у крыльца, когда подле дачи тащили кого-то в машину, и Паоло сразу же сказал, что это был командированный из Ростова-на-Дону, который проиграл казенные деньги. Коншин рассказал, как он случайно увидел в столовой Осколкова странного старика, считавшего деньги, и Паоло не замедлил назвать старика: «Рознатовский».
– Какой он Осколков, у него кличка есть – Бухенвальд. Он не человек. Из-за него один директор мебельного магазина удавился.
– Удавился?
– Ну, как сказать по-русски? Повесился. Тоже командировочный. Откуда-то из Сибири. Все проиграл – и свое и казенное. В землю кланялся, просил обратно часть. Не все деньги, небольшую часть. На обратную дорогу. Не дал. Петр Андреевич, я вам не рассказывал, Маша знает. У меня отец – академик, он на него заявление подаст.
– Поразительно! – говорил Коншин. – Ты, Маша, не видела Осколкова. Все что угодно можно подумать о нем, но представить себе, что этот человек... с его аккуратностью, с его строгостью, с его отвратительным деловизмом, за которым, в сущности, ничего нет, потому что дела-то он и не знает! Этот человек, у которого каждое чувство, кажется, взвешено, занумеровано! Этот холодный, как лед, деляга... Ведь что же? Значит – двойная жизнь? И не месяц, не два, а, может быть, годы?
– Годы! – кричал Паоло. – Он подлец, вор! У меня друг есть, ну, не друг, а знакомый. Уже пожилой, с высшим образованием. Мы вместе к нему пойдем. Он ему объяснит: «Знаешь Коншина?» – «Ну знаю». – «Так вот что, слушай! Или ты его оставишь в покое, или мы тебя уберем».
Петр Андреевич засмеялся.
– Маша, скажи ему! Разве ты мне не говорила, что этот подлец – правая рука директора? Ведь если узнают, что он занимается такими делами...
– Нет, Паоло, – сказал Коншин. – Как бы тебе объяснить. Тут всякий окольный путь... Об этом нечего и думать. Конечно, это могло бы его дискредитировать...
– Ди-скре-ди-ти-ро-вать? – переспросил по слогам Паоло. – Я его убью. Маша, скажи мужу. Я ему счастья желаю!
– Спасибо, мой дорогой.
С доброй улыбкой Паоло дал поцеловать себя и беспомощно развел руками.
– Что спасибо? Ты хочешь, чтобы я сам в контору пошел? Этого я не могу. Тогда меня свои, между прочим, зарежут. И, между прочим, за дело.
– Ни в коем случае, – сказал Петр Андреевич. – Осколков как дракон о трех головах. Его не убьешь. Он не один. Меня-то, без сомнения, он бы в подобном случае... Но я, к счастью, не он. Все к лучшему! Машенька, у нас есть там еще коньяк? Выпьем за здоровье Паоло.
– Маша, ну скажи ему! Как же так! Он тебя послушает. Ты умница, красавица. Если такие люди есть, значит, бог есть. Мать говорит – я жениться должен. Чтобы дети были. Нормально жить. На ком жениться? Где такую найти? И ты знаешь, странно! Меня не интересуют женщины. Попадались хорошие. Приличные. Не интересуют.
60
– Я тебе помешала? Позвонить позже? Мы давно не виделись, а хотелось бы посоветоваться...
После доклада на конференции, когда Леночка Кременецкая так ловко «вмонтировала» его мысли в свои, просить о новых советах?.. Он промолчал.
– Я бы охотно пригласила тебя к себе, но ты ведь не приедешь?
– Нет.
– Знаешь что? Встретимся где-нибудь неподалеку от твоего дома. Кажется, тебе будет интересно то, что я собираюсь тебе рассказать.
– Опять кто-нибудь зашатался? – спросил он, вспомнив, как «шатался» Саблин перед президиумом.
– Напрасно ты иронизируешь. Серьезное дело.
Вечер был светлый, жара отступила, когда они встретились в условленном месте и медленно пошли по тропинке, поглядывая друг на друга.
Леночка была в брючном костюме, что очень ей шло, была подтянута, с чуть накрашенными губами, – и уже невозможно было представить ее в стареньком купальном костюме на пляже в Прибрежном.
– Что это ты так похудел? Я на днях видела тебя в Институте – ты шел как сомнамбула, но выглядел, кажется, лучше.
– Нет, я здоров. Как ты?
– Вот постриглась. Идет? Или ты не заметил?
Тон был свободный, но слишком уж свободный, и Коншин разозлился. Он забыл побриться, поношенный пиджак болтался на костлявых плечах, это раздосадовало его с первых минут встречи, когда он увидел нарядную Леночку. Но теперь он уже сердился на себя за эту досаду. Кроме того, ему было жалко времени.
Леночка тем временем рассказывала, как ей трудно. Ватазин постоянно болеет, лаборатория запущена. Нужно хлопотать о новых штатных единицах, и она уже выхлопотала две и теперь ищет подходящих людей. Петр Андреевич слушал и не слушал.
– Я похудел потому, что мало сплю и много работаю. Тебе трудно с Ватазиным, ты постриглась, и тебе это, кажется, идет. Но все это как-то не относится к делу, – медленно выговаривал он. – Ведь ты приехала по какому-то делу?
– Ох, мне трудно говорить с тобой в таком тоне! Ты сердишься на меня?
– За что?
– Не притворяйся. За все, что я у тебя украла. Но я подумала: «Ведь он, в сущности, ничего мне никогда не дарил». Вот это и был твой подарок. Ты ведь не жадный? И потом, если бы я сослалась на тебя, получилось бы, что между нами... Получилось бы, что я сослалась на то, что между нами было.
Петр Андреевич засмеялся. Он не ждал такой откровенности.
– Да полно! Это пустяки.
– И, кроме того, многое из сказанного тобой я просто не понимаю.
Они помолчали.
– Так решено не подавать на конкурс?
– Допустим, – осторожно сказал Коншин. – А что?
– Нет, ничего. Скучно у Ватазина. Знаешь, о чем я на днях говорила с Врубовым? Когда все уладится, не будет ли он возражать, если я перейду к тебе?
– И что же он?
– Не будет.
– Ага, не будет. А тебе не кажется, что, прежде чем говорить с Врубовым, следовало бы... – Он сдержался. – Так он считает, что все уладится?
– Не он, а я.
– Ах, ты?
– Я думаю... Впрочем, даже не думаю, а точно знаю, – она подчеркнула это слово, – что, если ты возьмешь назад свое заявление об уходе, он отменит приказ.
Коншин остановился и пристально посмотрел ей в лицо.
– Так, – сказал он. – Ясно. То есть ясно, зачем ты приехала. Или, точнее, ясно, кто тебя подослал.
– Не подослал, а попросил съездить.
– А почему именно тебя? Очевидно, у него есть для этого свои основания?
– Да, но не те, о которых ты думаешь. О наших отношениях я ничего ему не рассказывала...
Еще бы! О наших отношениях знал весь Институт!
– Ну, это другое дело. Ему я ничего не говорила. Ты сам подумай – зачем? Просто ему известно, что мы давно знакомы.
– А, просто! – стараясь успокоиться, сказал Петр Андреевич. – Стало быть, Врубов просил, чтобы ты уговорила меня взять назад заявление? А, собственно говоря, почему вдруг такой оборот?
– Потому что его вызвали в бюро отделения, и Кржевский... Не знаю, о чем они там говорили. Правда, он ждет выборов в Академии и надеется, что Кржевского не выберут, – но ведь могут и выбрать?!
– Очень хорошо, – начиная звереть, сказал Коншин. – Ты, стало быть, у директора на побегушках? А хочешь, я тебе скажу, что из тебя получится? Или, точнее, что из тебя имеет быть?
Он не знал, почему «имеет быть» точнее, он уже не помнил себя.
– Тебе сейчас трудно, потому что Ватазин болеет. А потом, после докторской, ты сама его спровадишь, чтобы занять его место. Ты его с помощью того же Врубова доконаешь, потому что у тебя мертвая хватка. А потом, когда он умрет или уйдет, ты вместе с Врубовым будешь управлять Институтом. И тебя будут бояться так же, как и его, потому что тебе, как и ему, наплевать на науку. Ты будешь сталкивать людей лбами, ты будешь подкапываться под тематику чужих лабораторий. Ты научишься сговариваться заранее, чтобы провалить того, кто станет тебе сопротивляться или просто не захочет участвовать в твоей игре. Ты будешь и хитрить, и притворяться простодушной, и лицемерить, пока не станешь в конце концов тем же Врубовым, только в юбке, а может быть, еще и пострашнее, потому что он все-таки был когда-то человеком науки. А теперь передай, пожалуйста, своему патрону, – успокаиваясь, сказал Коншин, с удовольствием наблюдая, как, побледнев, она жестко поджала губы, – что я возьму назад свое заявление лишь только в одном случае: если он отменит приказ.
61
Наконец шевеленье произошло, она его узнала не сразу, это был радостный день. Пришло спокойствие и вместе с ним странное чувство все усиливающегося нарушения. Она была нарушена, она была не она. Впервые появилось ожидание приближающейся опасности – нешуточной, грозной.
Маша не испугалась, она знала, что надо справиться с этим чувством, – и справилась. Ничего особенного, просто теперь ей приходилось носить еще и этот страх вместе с ощущением долгожданного счастья, тревоги. Тайком она написала маленькое прощальное письмо – кто знает, все может случиться!
Никогда еще Петр Андреевич не был так внимателен к ней, так настоятельно заботлив и добр. Иногда ей казалось, что с появлением ребенка он ждет исполнения каких-то особенных тайных надежд. Появление ребенка связывалось в его сознании с освобождением от душевной усталости, от сложного сплетения неизвестности и риска – словом, от того, о чем он не хотел и не мог рассказать ей, а она, в свою очередь, не хотела и не могла заставить его сделать это.
По ночам, когда не спалось, она думала о странной одновременности своих двух душевных состояний. В ней была новая жизнь, ее тело было как бы удвоено, ее ни на минуту не оставляло счастье исполнившегося желания. Но впереди была неизвестность, опасность, тревога.
Она простудилась, врачи запретили антибиотики, которые могли повредить ребенку, и пришлось лечиться домашними средствами, а грипп был затяжной, тяжелый. Но она выкарабкалась. Когда на грудь клали горчичники, он (или она) начинал лупить ногами и ворочаться, как медвежонок. И начинался бесшумный диалог с неведомым явлением, которое «нарушало» ее, которое причиняло ей боль, которое она ждала радостно и нетерпеливо. «Ну, миленький, успокойся, – уговаривала она его. – Перестань барахтаться. Ты девочка или мальчик?»








