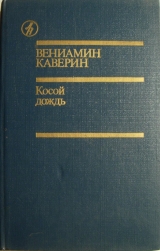
Текст книги "Двухчасовая прогулка"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
31
Родилась девочка с вьющимися волосиками, с голубыми глазами. Он приходит и радостно говорит: «Инфанта!» Альда пеленает ее, кладет в конверт, а оттуда полновесно, полнозвучно звучит хор из «Града Китежа». Она весело зовет его: «Это твое любимое, послушай!»
Хорошая девочка, но странно: то она здесь, рядом, то исчезает. Она – с луны. Грустно, что родилась такая неудачная, но все еще можно поправить. И он думает за Альду: «Ничего, будут другие». За девочку: «Почему вы так смотрите на меня, нехорошие, злые?» За себя: «Ничего, что с луны. Я согрею ее, и она оживет». И девочка начинает улыбаться, пускает пузыри, протягивает ручки...
Что-то будто толкнуло Коншина, и он вскочил с кресла с немотой в подогнутых ногах, с затекшими руками. Где он? Незнакомая комната была освещена ночной лампочкой на маленьком столе, среди книг. Ночная тишина стояла как на часах, приложив палец к губам. Ночные, сонные, еще не проснувшиеся, стояли незнакомые стулья и кресла.
Коншин был прикрыт пледом, и плед запутался в ногах, когда он вскочил. Мария Павловна прикрыла его, кто же еще? Но где она?
Круглый стол перед ним был накрыт, стояла сковородка с холодной яичницей. Ломтики черного и белого хлеба, аккуратно нарезанные, лежали г на тарелке, прижавшись друг к другу. Масленка, стакан крепкого чая. Он ужаснулся. Уснул, пока хозяйка пошла на кухню, чтобы приготовить ужин! Хорош! Голова была ясная, хотелось есть, он чувствовал себя отдохнувшим. Но к чувству свежести примешивалась досада. Черт возьми! Впрочем, что-то подсказывало ему, что невозможно и бесполезно было вести себя как ему хотелось, когда он представлял себе эту встречу.
Сняв туфли, он на цыпочках вышел в коридор и приоткрыл дверь комнаты напротив. И здесь была ночь, но уже другая, предутренняя. Сквозь легкие шторы старался пробиться прозрачный утренний свет. Продольные полоски, очертившие шторы, лежали на полу перед диваном, на котором, положив руки под голову, в голубом халатике спала – или не спала? – Маша.
Он хотел так же осторожно уйти, но она сказала весело:
– Доброе утро.
– Доброе утро! Простите меня, ради бога...
– Петр Андреевич, – продолжала она, – вчера вы проспали свой ужин, а сегодня хотите утопить в извинениях наш завтрак? Знаете, который час? Около восьми. Не знаю, как у вас, а у меня ровно сорок минут, чтобы умыться и одеться. И потом... Не будем же мы есть холодную яичницу, правда? И вам надо умыться. И побриться, – добавила она после короткой паузы. – У меня есть все для бритья. Пойдемте, я покажу.
Она провела его в ванную, он побрился, а потом, раздевшись до пояса, с наслаждением умылся холодной водой.
– А теперь вернемся все-таки к вчерашнему разговору, – сказала Маша, когда они завтракали. – Как ваши сотрудники отнеслись к тому, что случилось?
– Очень просто. Все до одного отказались подавать на конкурс.
– Так, может быть, коллективное заявление?
– Нет, это скандал, а я не хочу скандала.
– Не скажите, – задумчиво сказала Маша. – Скандал – это вещь.
– Где скандалить? В Институте? В министерстве?
– Об этом надо подумать.
– Вы хотите сказать, что я должен кинуться в бюро отделения, в редакцию «Правды» или «Литературной газеты»? Хватать за горло? Жаловаться? Кричать, что меня обижают? Ну посмотрите на меня. Похож я на горлохвата?
– Не похожи. Но надо стать горлохватом, если другого выхода нет. А стать им вы можете или даже должны. Ведь вы за всех своих в ответе?
– Да.
– Вот видите! Для этого надо только одно: вообразить себя Осколковым, оставаясь, конечно, самим собою. Я понимаю, для вас это почти невозможно. Но надо осмелиться и перешагнуть.
Коншин вздохнул.
– Можно мне называть вас Машей?
– Конечно, можно.
– Так вот, ничего не изменилось бы, милая Маша, если бы даже мне удалось вообразить себя папой римским. Все, что я могу сделать, это положить на стол, заявление об уходе. Но Врубов знает, что этого я не сделаю. Он помнит о моем долге перед памятью Шумилова, на это он и рассчитывал, затевая свою игру. Да и куда уходить без лаборатории? Двадцать лет работы собаке под хвост, а потом все начинать сначала? Нет, нужен не уход, а ход. А если уж уход, тогда всей лабораторией, – это было бы лучшим решением. Но куда?
– Во-первых, заявление об уходе – это уже и есть ход, о котором стоит подумать. А во-вторых, мне не нравится, что вы не чувствуете себя оскорбленным, – с засверкавшими глазами сказала Маша. – В ваших словах не чувствуется ни угрозы, ни решимости, ни стремления отбиться. У вас не хватает остойчивости.
– Настойчивости?
– Нет, именно остойчивости, – повторила Маша по слогам. – Надо идти вперед, не теряя равновесия. А вы его уже потеряли. Да вы же мне вчера сами доказали... Ну что вы смотрите?
– Любуюсь, – сказал Коншин.
И было чем: перед ним была прелестная женщина с нежным чистым лицом, стройная, державшаяся прямо, с белокурой, уложенной на голове косой, с покатыми, как на старинных портретах, плечами.
– Не сердитесь, – прибавил Коншин, заметив, что она нахмурилась. – Вами невозможно не любоваться. Конечно, вы правы. Нет у меня в характере этой остойчивости. Я вспыльчив, несдержан, способен только на короткий решительный шаг.
– Нет, есть. Вы себя не знаете. Кто они, все эти : врубовы, перед вами? Вы должны заставить их отступить. Вот Ватазин сказал мне о вас...
– Бедняга этот Ватазин!
– Почему же бедняга?
Петр Андреевич посмотрел на часы.
– Не пора ли?
– Вы не ответили. Верочка – мой лучший друг. Почему?
– Отвечу, но в другой раз. Ведь мы теперь будем видеться часто?
32
В том, что Саблин возьмет отдел, сомневался только Левенштейн, верный хранитель шумиловских традиций.
– Но почему? Почему? – спрашивал Петр Андреевич.
– Потому что и он боится. Не Врубова, так Осколкова. Или, точнее, паутины, в которую влипает каждый, кто вмешивается в дела нашего Института.
Все другие в один голос утверждали, что Левенштейн не прав. Мария Игнатьевна, которая знала Саблина – он был оппонентом на ее докторской, – доказывала, что не просто возьмет, а оторвет с руками. Володя Кабанов съездил в саблинский институт и вернулся обнадеженный: четыре из пяти заведующих лабораториями были готовы потесниться и отдать добрую треть своих комнат.
– Они встретили меня с подъемом! – пылко повторял он. – Конечно, все дело в Петре Андреевиче, которого им смертельно хочется перетянуть, но ведь и мы, черт побери, не лыком шиты! Конечно, первое время будет трудно, Но для Саблина строится новое здание. Через каких-нибудь два-три года у нас будет целый этаж.
Володя был оптимистом.
Нина Матвеевна Скопина, потерявшая сходство с Грибоедовым, переменившая прическу и, к общему удивлению, собравшаяся замуж, предложила, не дожидаясь конкурса, подать коллективное заявление об уходе. Спасти положение мог, по ее мнению, только неожиданный и отчаянный шаг.
Пошли к Теплякову, который, как всегда, курил на лестнице, и он, кротко поморгав своими девическими глазами, погладил бороду и сказал негромко:
– Я – как все.
Но Левенштейн оказался прав. Саблин дружески принял Петра Андреевича, выслушал, посочувствовал, но сразу же дал понять, что в дела Врубова вмешиваться не будет.
– Я уверен, что он и не думает разгонять ваш отдел, – сказал он. – И мой вам дружеский совет: никуда не обращаться и ничего не просить – словом, даже не пытаться помешать ему! Уверяю вас, это приведет к обратным результатам.
«Боится», – подумал Петр Андреевич, глядя в сторону, чтобы не видеть Саблина, старчески красивого, с эффектной седой шевелюрой, с глубоко сидящими осторожными глазами, с крупными мягкими морщинами на большом лице.
Очевидно, в глазах Петра Андреевича было написано, о чем он подумал, потому что Саблин вдруг смутился, впрочем, еле заметно. Они расстались, как всегда, сердечно.
33
Маша сказала неправду, уверяя Петра Андреевича, что довольна своей работой и не знает, что такое скука. Она действительно перепечатывала научные рукописи, ее знали в небольшом писательском кругу и один из драматургов приглашал ее на свои премьеры. Но в ту пору, когда Коншин познакомился с ней, она не только не чувствовала ни малейшего удовлетворения от своей работы, но была в глубоком душевном упадке.
У нее было неудачное замужество, она вскоре поняла, что равнодушна к мужу. Но неудача заключалась еще и в том, что, когда она только, приступила к дипломной работе, муж увез ее в Индонезию, где он работал в нашем посольстве. Она не окончила университет, у нее не было профессии, и машинисткой она стала случайно – помогая мужу, научилась бегло печатать.
Мебель, которой была обставлена квартира, принадлежала мужу, и он мог – хотя она не думала, что он это сделает, – в любую минуту распорядиться ею по своему усмотрению. Кроме нескольких заграничных платьев, которые она без конца перешивала, английского столового сервиза (свадебный подарок ее друзей Поповых), трех десятков книг, у нее не было почти ничего, только вещи, покупавшиеся или подаренные в годы замужней жизни. Она чувствовала себя в этой удобной, уютной квартире как жиличка, как постоялец. Но с этим еще можно было примириться, так же как с необходимостью отказывать себе в необходимом – она рано столкнулась с лишениями, у нее было трудное детство.
Нет, другое терзало ее, о другом она старалась не вспоминать, заваливая себя неотложной работой: у нее не было будущего. Что могло измениться, что могло сделать ее жизнь содержательнее, полнее? Она знала других машинисток, пожилых, одиноких, интеллигентных, накрашенных, с увядшими лицами, неестественно любезных, еще кокетничающих и тоже получавших иногда билеты на премьеры от знакомых драматургов. Вот и ее ждет такая же участь! Годы шли, ей было уже за тридцать. Она знала, что у нее приятное, свежее лицо, но вот глаза уже были грустные, как заметил Коншин, а в уголках появились морщинки. Ей было трудно сознаться, что жизнь не удалась, «а ведь, кажется, действительно не удалась», – думала она, опоминаясь от машинальности, с которой читала текст, не глядя на клавиатуру машинки. И, перебирая своих подруг по университету, она вспоминала, что одна преподает в педагогическом институте, другая – редактор, а третья, мечтавшая стать актрисой и работавшая администратором в театре, сказала с удовлетворенным вздохом: «Ну и что ж! Зато у меня дети!» Верочка Попова переводит и много печатается. Все замужем, а когда расходятся, снова выходят замуж. Подчас она жалела, что разошлась с мужем, но жалела холодно, рассудочно, сознавая в глубине души, что иначе поступить не могла.
Она встретила Павла Вадимовича Трубицына у Поповых – Верочка была ее самой близкой подругой в университете. Ему было за пятьдесят, в молодости он служил на океанографических судах, и Маша в его присутствии почему-то робела, а когда он обращался к ней, невольно опускала глаза. Он был превосходным рассказчиком, у Поповых его всегда ждали с нетерпением и, провожая, уговаривались о новой встрече. Была ли Маша влюблена в него? Он так много видел и слушать его было так интересно! Он всегда превосходно выглядел, не располнел, держался прямо, с непринужденностью, и, если бы не седая голова, ему можно было дать лет на десять меньше. Каким образом получилось, что в общей беседе он и Маша стали разговаривать как бы отдельно и о своем, хотя еще неизвестно было, что представляет собою это «свое»? Поповы в один голос утверждали, что возраст не имеет никакого значения. «И может быть, они правы?» – думалось Маше. Вскоре, через год, она должна была окончить университет. А дальше? Средняя школа, преподавание литературы по программе, которая, как ей казалось, была составлена так, чтобы заставить школьников разлюбить литературу.
Трубицын очень нравился Верочке – это тоже было почему-то важно. Конечно, надо было окончить университет, но Павел Вадимович получил назначение: на два или, может быть, три года он отправлялся в Джакарту.
И вот прошли эти три утомительных года в Индонезии, где она задыхалась от всепроникающей сырости – ложилась в мокрую постель, а вставая, надевала мокрый халат, – где однообразные дни проходили в узком кругу работников посольства, где она как раз и занималась преподаванием литературы в школе и где поняла, что не любит и никогда не любила мужа. Она мечтала о ребенке – какое там! Павел Вадимович считал, что нет необходимости усложнять и без того сложную жизнь.
Маша не могла дождаться возвращения, но когда они вернулись, отношения с каждым днем становились все холоднее. Теперь Маша смотрела на мужа другими глазами. Оказалось, что он мелочно ревнив – еще в Джакарте она получала выговор за то, что разговаривала лишние пятнадцать минут с молодым человеком. Он был любезен и разговорчив только на людях, а дома молчалив и, что особенно поразило Машу, негостеприимен. Нельзя было отказать ему в некоторых достоинствах – он, например, любил чистоту. Но Маша почему-то раздражалась, видя его по воскресеньям в переднике, с пылесосом в руках.
По-прежнему он любил бывать в гостях, и даже чаще, чем прежде, – ведь теперь он был женат на молодой женщине. Рассказы, которые он повторял, перевирая, Маша выучила наизусть. Он был скуп, а она презирала скупость. Маша стала заниматься французским, ей хотелось поступить на работу, а он требовал, чтобы она занималась хозяйством: Ссоры кончились тем, что она не долго думая продала все его подарки – в том числе какой-то драгоценный браслет, переходивший из поколения в поколение, – и заплатила вперед за пятьдесят уроков.
Трубицына чуть не хватил удар, он осмелился замахнуться на Машу, и тогда она сложила вещи и ушла к Поповым. Павел Вадимович уехал за границу, вернулся, снова уехал. Они разошлись, хотя дружеские отношения впоследствии восстановились...
Ах, как горько жалела она теперь, что поддалась уговорам мужа и ушла из университета. Каким интересным, содержательным делом казалось ей теперь преподаванье литературы, о котором так много спорили – «почти каждую неделю в газетах появлялись статьи.
Она старалась не забывать французский – кто знает, может быть, когда-нибудь пригодится. И все-таки забывала.
Встреча с Коншиным поразила ее. Все в нем казалось ей неожиданным, да и не только казалось. Собираясь на свидание, он забыл переодеться, приехал в поношенном костюме, небритый – а ведь, без сомнения, надеялся на то, что он называл «отдохнуть». Под старым пиджаком чувствовались худые крепкие плечи, сильные руки, и, увидев его впервые у себя в передней близко, в двух шагах, Маша побледнела, как всегда, когда не могла справиться с волнением. Он пытался ухаживать за ней, а потом увлекся, стал рассказывать о своих институтских делах и уснул, когда она ушла на десять минут, – этого в ее жизни еще не случалось. «Кружится голова», – все повторял он. Так ли? Она не знала. Кружилась у нее – в этом не было никакого сомнения. И ведь как странно! Когда она расспрашивала о нем Ватазиных, она заранее знала почти все, что они о нем скажут. Ей даже казалось, что она знает больше, чем они, потому что заранее вложила в него свои давно установившиеся представления о человеке, которого она непременно должна была встретить и полюбить. Самое главное заключалось не в том, что он не был похож на других, не в его неожиданностях и странностях, а как раз наоборот – в сходстве с тем неизвестным, воображаемым человеком, образ которого непонятно как и почему сложился из прочитанных книг, кинофильмов, всего передуманного и пережитого.
Он пообещал позвонить и не позвонил – так долго, две недели! Маша смотрела на проклятый молчаливый телефон, как на притаившееся загадочное существо, которое в одно мгновение могло сделать ее счастливой. А когда это наконец произошло – ведь надо, надо было притвориться сдержанной, спокойной!
Так не бывало с ней еще никогда, и она радовалась, и ужасалась, и доказывала себе, что если даже они останутся только друзьями, все равно она счастлива этим нахлынувшим, неожиданным и долгожданным чувством.
34
В Пущине, где был крупный биологический центр, не оказалось подходящего помещения, если только это не было поводом для отказа. Разговор с ректором университета, одновременно и деловой и сердечный, кончился неопределенно.
Может быть, это было преувеличением, но за каждой неудачей Петру Андреевичу мерещилась теперь представительная фигура Осколкова с его неестественно голубыми проницательными глазами. Казалось, что он даже не очень старался скрыть, что следит за каждым шагом Коншина, – это было для него характерно. Вдруг он позвонил Петру Андреевичу и сказал, что убедил директора в необходимости расширить отдел.
– Два мальчика кончают медико-биологический факультет Второго медицинского института. Я говорил с ними. Мне кажется, что они вам пригодятся.
Это был ход, которым Врубов и Осколков старались доказать, что они не только не разгоняют отделено и заботятся о его укреплении. Мальчики были умные и, по-видимому, способные. В другое время Коншин охотно взял бы их, но теперь это значило бы, что отдел не упразднен, а как бы упразднен, и, следовательно, об уходе не может быть и речи.
Петр Андреевич написал докладную, отказался, директор ответил ему приказом. После этого мальчиков отправили к Левенштейну, который немедленно завалил их технической работой, а приказ и копия докладной отправились в «склочную папку».
И дальше день за днем пошли получасовыё разговоры по телефону, обсуждение всевозможных вариантов, хлопоты, на которые не было времени, встречи с Машей, на которые время все-таки находилось.
Незаметно, постепенно она вошла в круг близких людей, для которых жизненно необходимо было отменить приказ и восстановить отдел. Уволенные сотрудники оставались на своих местах, и они же должны были подавать на конкурс – эта бессмыслица в особенности ее возмущала.
– Вам не кажется, что я стала вашей внештатной сотрудницей? – однажды спросила она Петра Андреевича.
Теперь он встречался с Машей почти каждый вечер, а хотелось, хотя он себе в этом не признавался, видеть ее каждый час. Поводы были не нужны, но повод всегда находился, потому что все, что Коншин делал, спасая свой отдел, знала и одобряла (или не одобряла) Маша.
35
– Вы просто свалились мне на голову вместе со своим отделом. И я иногда просыпаюсь со странным ощущением, что со мной происходит то, что в эту минуту происходит с вами.
– Да. И у меня то же ощущение. Точно не недели прошли с тех пор, как мы познакомились, а годы.
Они разговаривали в Лоскутове – Петр Андреевич впервые пригласил Машу к себе.
– Вот так я и живу, – сказал он, показывая ей свою кое-как прибранную квартиру, в которой вопреки его усилиям чувствовалась неустроенность одинокого человека. – Вы не думайте, что у меня всегда такой беспорядок. Сейчас моя Ольга Ипатьевна больна, а то она со мной обращается строго. Требует, например, чтобы дома я ходил в мягких туфлях. И восхитилась, когда один шотландец, войдя с улицы, снял с ботинок тоненькие галоши. Даже сказала: «Вот это человек!»
– И была совершенно права, – откликнулась Маша, вынимая из сумочки другую маленькую прозрачную сумочку, в которой лежали хорошенькие домашние туфли.
Зато в полном порядке было все, что относилось к музыке, прекрасный новый проигрыватель и пластинки в конвертах, аккуратно стоявшие в камерах полированного низкого шкафа.
– Вы любите музыку?
– Да, очень.
– Тогда мы с вами как-нибудь непременно поедем к Поповым. Это мой любимый дом со студенческих лет. Ирина Павловна, мать Верочки, преподает в Гнесинском и устраивает у себя музыкальные вечера. Помните, я говорила вам о Верочке Поповой?
– Помню. Она замужем за Ватазиным.
– Да. У них я тоже бываю, но редко. А кстати, почему вы однажды назвали его беднягой?
– Как его здоровье?
– Он поправляется. Так почему же?
– Что же хорошего? Три инфаркта.
– Нет, вы думали о чем-то другом.
Коншин смутился.
– Давайте-ка лучше ужинать.
Она посмотрела на него, поджав губы. Он опустил глаза.
– Ну хорошо. Только позвольте мне сегодня быть хозяйкой, – сказала она, когда Коншин принес из кухни белую скатерть. – Не нужно ничего убирать со стола. Вы ведь дома не обедаете?
– Иногда. По субботам.
– А завтракаете и ужинаете на кухне?
– Да.
– Вот и мы пойдем на кухню. Есть мне не хочется, а чаю выпьем. Приготовить нам что-нибудь?
– Да. Начнем с устриц и бордо, а потом, пожалуйста, приготовьте мне салат и филе соус мадера.
Она улыбнулась.
– А не угодно яичницу с колбасой? У вас есть колбаса?
– Ветчина.
– Еще лучше.
– М-да, – задумчиво сказал он, глядя, как она ловко накрывает на стол, разбивает и размешивает в стакане яйца. Она вопросительно посмотрела. – Нет, ничего, ничего...
– А теперь вернемся к Ватазиным, – сказала Маша, когда яичница была съедена и они пили чай. – Я жалею Верочку.
Коншин промолчал.
– Полно, я же все знаю. И не только я. У этой вашей Кременецкой странная черта: она не только не скрывает свои романы, а, напротив, рассказывает о них на всех перекрестках. Закройте рот – дружески посоветовала она Коншину, глядевшему на нее с изумлением. – Очевидно, ей хочется, чтобы весь мир знал о ее победах. Верочка говорила, что когда Кременецкая была вашей любовницей, об этом тоже все знали. И жалели, потому что вас любят в Институте. Ах, боже мой, да что же вы так смутились? – спросила Маша с досадой. – Мне хочется помочь Верочке, и я решила, что вы, может быть, посоветуете что-нибудь как... Ну, словом, как специалист по Кременецкой.
Коншин не мог удержаться от улыбки.
– Ну вот! Вы уже смеетесь, хотя, в сущности, все это совсем не смешно. В самом деле, – рассуждала она, – вы вон какой здоровый и крепкий и можете одним ударом сбить с ног человека, а Георгий Николаевич рыхлый, слабый, близорукий и выглядит в своих очках с толстыми стеклами старше своих лет, а ведь ему только сорок четыре. Вы, может быть, легко прошли через эту, ну, скажем, любовь, не знаю уж, что там у вас было.
– Нет, трудно.
– Тем более. Даже вам было трудно! А Георгий Николаевич... Ведь ему в буквальном смысле грозит верная смерть. Вы даже представить себе не можете, как он мучается. – Она помолчала. – Они оба мучаются. Георгий Николаевич потому, что таится и убежден, что Верочка ничего не знает. А она – потому что знает и боится, чтобы он, боже сохрани, не догадался об этом.
– И ревнует? – спросил Коншин.
– А как вы думаете? Но изо всех сил старается не показать. И ведь они любят друг друга. Но они уже девять лет женаты, в отношениях близости что-то теряется, и мужчина, мне кажется, чаще, чем женщина, невольно начинает томиться, тосковать. Мы с Георгием однажды говорили об этом, разумеется, отвлеченно, без имен и даже, как ни странно, почти без слов. Мы как бы обменивались мыслями. И вот что я услышала в этом разговоре: «Ведь никто не страдает оттого, что я близок с другой. Неужели у меня нет права на «свое», на ту долю полной свободы, которую мне подарила судьба? Подарила или наказала – кому, в конце концов, до этого дело?» Конечно, он так себя спрашивает только в полной уверенности, что Верочка ничего не знает.
– И что же вы ему ответили?
– Я только дала ему понять, что ему надо рассказать жене все без колебаний и размышлений. Но вам я могу сказать, что виноваты, мне кажется, оба.
– Почему?
– Потому что все началось задолго до Кременецкой. Оба, не задумываясь над своими отношениями, как бы привычно «принимали» друг друга. Дни летят, повторяются, отщелкиваются, как на счетах, – и нет ничего легче, как просмотреть поворот. Ну, а что представляет собой ваша Кременецкая? Что она за человек?
– Она прежде всего женщина, а потом уже человек. Проходя мимо нее, мужчины оглядываются, это я замечал много раз.
– Так хороша?
– Да не так уж и хороша, однако оглядываются. И больше того: как будто заставляют себя отрывать от нее глаза.
– И ей это нравится? Впрочем, оставим это, – вдруг быстро сказала Маша. – Дайте мне сигарету. Я редко курю, а сейчас захотелось.
Они закурили.
– И простите, – она слегка побледнела, – это было бестактностью, что я стала расспрашивать. Я вижу, что вам неприятно. Больше не буду.








