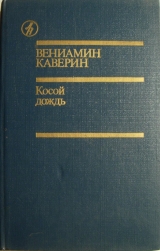
Текст книги "Двухчасовая прогулка"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Каверин Вениамин Александрович

Художник Д. АНИКЕЕВ
ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА
1
«Позвольте мне рассказать историю моей жизни, – читаете вы подчас в искреннем, простодушном письме. – Это настоящий роман». Историями набит белый свет. Они происходят в каждом доме, открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные, скучные – стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них. Но мимо одной вы проходите равнодушно, другую взвешиваете, оцениваете и забываете, чтобы вспомнить случайно или не случайно. Вы не принимаете в ней никакого участия. Но она – «ваша», и вы почти бессознательно разыгрываете ее, как музыкант, исполняющий сонату, не глядя в ноты. Иногда она превращается в рукопись. Рукопись, если она удается, превращается в книгу, а книга ищет и находит – или не находит – свое место среди событий, составляющих жизнь.
Взгляните на черновики – в них еще полуслепые слова толпятся, тесня друг друга. Подчеркнутые строки, находки, намеченные наспех, подробности, записанные кое-как, десятки страниц, жирно зачеркнутых крест-накрест, одни карандашом, другие фломастером (эти уже не могут пригодиться), рисунки, чертежи, планы. И рядом – жизнь автора, которая врывается в рукопись началом дружеского письма, записью сюжета другой книги, которая когда-нибудь будет написана, размышлениями, воспоминаниями, загадочными знаками, понятными только одному человеку на свете.
Но вот начинается строгий отбор, вспоминаются характеры, обдумываются отношения – будущая книга еще раскачивается, как высотный дом во время землетрясения. Еще не найдена таинственная связь, которая должна заставить читателя листать страницу за страницей, а между тем уже приходит день, когда кажется, что обдумано все, приходит вместе с уверенностью, что перемены неизбежны. Чистая страница лежит перед вами, и – никуда не денешься – на ней должна быть написана первая фраза.
Впрочем, она уже давно написана и пора переходить к летнему вечеру 1971 года, когда Петр Андреевич Коншин, заканчивая прогулку, случайно встретился с Осколковым, заместителем директора своего Института.

2
– Петр Андреевич, а вы что же тут делаете, в Лоскутове?
– Живу, Валентин Сергеевич.
– Давно ли?
– Третий месяц. Обменял свои две комнаты в центре на однокомнатную квартиру.
– В новом доме?
– Да.
В Лоскутове был только один шестиэтажный дом.
– И довольны?
– Очень. Здесь тихо. Рядом лес. Зимой можно ходить на лыжах.
– Ну, это уж не для меня!
Осколкову было под шестьдесят, но он не располнел, как многие его сверстники, держался прямо, с привычной сдержанностью, и если бы не его усталое лицо с ярко-голубыми глазами, ему нельзя было бы дать больше пятидесяти.
– А вы где живете? – спросил Коншин.
– Живу в Москве, а здесь бываю. Часто, летом почти каждый день после работы. Вы, наверное, приметили рядом с последней остановкой трамвая старый деревянный дом с балюстрадой. Моя дача. К сожалению, назначена на слом. А жаль! Я бы сохранил ее... «Памятник русской дачной архитектуры девятнадцатого века. Охраняется государством». Впрочем, кажется, удастся отстоять.
Он засмеялся. Смех был неприятный. «Задавленный», – подумал Коншин.
– Знаю этот дом. Проходил мимо и слышал музыку. Даже узнавал Рахманинова, Дворжака, Баха.
– Неужели так слышно на улице? А вы любите музыку?
– Про любителей говорят – «страстный». Обо мне можно сказать – «пылкий».
– Так непременно заходите. Есть редкие пластинки. Кэтлин Фэрриер, например.
– Даже не слышал.
– Между тем считается одной из лучших певиц в мире. Контральто. Прославилась исполнением Генделя и Баха. У меня как раз есть и тот и другой.
– Спасибо. С удовольствием.
Они обменялись телефонами, простились, и Коншин ушел немного озадаченный: между ним и Осколковым были скорее плохие, чем хорошие отношения.
3
Через несколько дней он возвращался от Левенштейна, где весь вечер говорили об институтских делах, давали себе слово не говорить и все-таки говорили. Потом Левенштейн повел его смотреть детей – у него была двойня, мальчик и девочка, – и Коншин, у которого в горле защипало от умиления, ласково погладил их одинаковые белокурые головки.
Теперь, в очереди на такси, он думал, что одинок, как собака, и, в сущности, несчастен. Перед ним стояла Хорошенькая (мысленно он так и назвал ее, с большой буквы) – в шубке с продольными блестящими полосками и в меховом берете. Ей было на вид лет тридцать, и Коншин, любивший угадывать профессии, решил, что она врач. Ему хотелось заговорить с Хорошенькой, и он загадал: «Заговорю, если обернется». Но она не обернулась. Она ждала, казалось, терпеливее всех. Снег таял на свежем лице, а на прядях светлых волос, выбившихся из-под берета, не таял. В ней было что-то рождественское, она стояла, как Снегурочка под елкой.
И мигом он вообразил, что она навещала мать: в метро, в автобусах он любил придумывать биографии случайных соседей. Мать мнительная, а Хорошенькая не любит лечить родных. Но он уже думал о собственной матери, которую похоронил в прошлом году. Мать сокрушалась, что у нее нет внуков. Жениться снова? Некогда, да и зачем? У него есть Леночка Кременецкая, а семейная жизнь сложна и требует постоянного, терпеливого внимания. Снова счастливое семейство Левенштейнов представилось ему. Но там все держится на Але, а где взять еще такую Алю? Такую умную, гостеприимную Алю, которая уже сдала кандидатский минимум, а потом, сообразив, что на свете существует нечто важнее диссертации, бросила работу и родила Льву Петровичу сразу двух прелестных детей. Такую взять негде.
Должно быть, последние слова он произнес вслух, потому что Хорошенькая обернулась.
– Простите, вы не врач? – негромко, чтобы не обращать на себя внимания, спросил он.
– Нет. А вам нужен врач?
Она сказала это с чуть заметной улыбкой – может быть, почувствовала, что от него пахнет вином?
Только он собирался ответить, как подошли сразу две машины, и одновременно в клубах пара, вырвавшегося из дверей ресторана, надевая пальто на ходу, разговаривая и смеясь, появились молодые люди. «Экие бугаи», – успел подумать Коншин.
В первую машину уже садился мужчина с чемоданом, ко второй подошла Хорошенькая, но, прежде чем она открыла дверцу, один из молодых оттолкнул ее. Очередь зашумела, но он уже договаривался с шофером, опустившим стекло, и стало ясно, что сейчас молодые люди сядут в машину и уедут, а Хорошенькая останется с беспомощно протянутой рукой. Но Коншин, переломив нежелание ввязываться в скандал, кинулся к нахалу и левой рукой – он был левша – сильно двинул его в челюсть. И тот вдруг, что называется, «слетел с копыт», распластавшись на мостовой. Его ошеломленные товарищи не сразу бросились на Коншина, и он успел посадить Хорошенькую, а потом почти машинально плюхнулся рядом с ней на сиденье.
– Давай, – сказал он шоферу.
– Что «давай»? Вылезайте.
Коншин сунул руку в карман и положил рядом с шофером трешку. Это подействовало.
– Куда?
– Улица Алексея Толстого, – сказала Хорошенькая и взглянула на Коншина. – А вам?
– Прежде всего прошу меня извинить.
– За что?
– Ну вот... Сел в машину без вашего разрешения.
– У вас не было времени, чтобы спрашивать разрешения. Вы мне помогли, и я благодарна. Здорово вы его. Вы боксер?
Коншин засмеялся.
– Нет. А вот про вас, когда мы стояли в очереди, я подумал – врач.
– И ошиблись. Так вам куда?
– Далеко. В Лоскутово. Водитель, вы когда-нибудь были в Лоскутове?
– Был. Не поеду. Мне к одиннадцати в парк.
– Прекрасно, – с удовлетворением сказал Коншин. – Отвезем даму и поговорим.
Он отвез ее раньше, чем ему хотелось бы, и она не позволила ему расплатиться. Коншин знал, что женщинам нравится его вежливость, которой он умел придавать старомодный оттенок. Но на этот раз оттенок, очевидно, не помог. Он попросил шофера подождать и проводил ее до старого трехэтажного дома, до двери, на которой было светлое пятно от недавно снятой дощечки.
– Вы мне разрешите... – начал он, прощаясь.
Она перебила:
– Извините. Я очень признательна вам, но...
Пока она рылась в сумочке, ища ключ, он убедился в том, что она не просто хорошенькая и что это слово к ней даже не подходит. Прелестная, может быть, а это совсем другое дело! Блондинка, лет двадцати пяти. Уютная, мягкая, но и твердая. И видно, что недаром живет на свете. Ключ нашелся.
– Я только хотел...
– Извините, – снова сказала она и улыбнулась. Очевидно, у него был расстроенный вид. – До свидания.
– Будьте здоровы.
Это пожелание, не совсем обычное, Коншин перенял от отца. Прощаясь, его отец, врач, желал пациентам здоровья.
Он вернулся к машине. «Здесь какой-то особый квартал, – смутно подумалось ему. – Дипломатический? Это дом американского посла? Нет, тот на Спасо-Песковской площадке...»
Но и самой Спасо-Песковской площадки не было давным-давно, тому назад лет пять или десять. Исчезла Хорошенькая, и неизвестно даже, было ли происшествие у ресторана «Бухарест», на стоянке такси. В сердце творилось что-то странное. Махнуть к Леночке? Но это безумие: воскресный вечер, двенадцатый час, все спят и, главное, муж, конечно, дома. «Недобрал», – подумал Коншин. Они ехали в Лоскутово. Он недобрал у Левенштейна, но это было прекрасно. Завтра рабочий день, и хотя Осколков не решается сделать ему замечание за то, что он приходит в отдел к двенадцати, а то и к часу, но завтра надо прийти к девяти и улизнуть от всех и вся, потому что завтра у него опыт.
4
В детстве Коншину казалось, что он никогда не сможет управлять людьми, связывая себя с интересами их существования. Он отлично учился и, будучи спокойным, уравновешенным школьником, много времени отдавал общественной работе, так же было и в студенческие годы. Он занимался ею старательно, энергично – и все-таки не очень хорошо, а иногда даже плохо. Ему мешала неуверенность в своем праве вмешиваться в чужие дела и менять их так или иначе. Он думал, что в любом поручении как раз и участвовало это право, никому, впрочем, кроме него, не казавшееся произволом.
Возможно, что он навсегда остался бы человеком легким, беспечным, желающим всем добра, но беспомощным, когда надо было распорядиться этим желанием, если бы не попал в руки Ивана Васильевича Шумилова.
Студент последнего курса, Коншин явился к нему с научным предположением, от которого пришел в восторг его будущий учитель. Завязавшиеся отношения упрочились, когда Шумилову удалось «отбить» Коншина, посланного было по распределению преподавателем на Дальний Восток.
Общее впечатление блеска, которым сопровождалось все, что говорил и делал Шумилов, прекрасно соединялось с желанием, чтобы этот блеск был всеми оценен или по меньшей мере замечен. Друзья в шутку называли его «гусаром» – и действительно, что-то гусарское было в природной веселости Шумилова, в жизнелюбии, которым были отмечены все его речи, поступки, решения.
Этот высокий красивый человек, мастер на выдумки, не оставлявший, казалось, равнодушной ни одну женщину, был одним из крупнейших теоретиков медицинской науки. Петр Андреевич считал своим долгом развивать и углублять систему его научных воззрений.
5
Коншин руководил отделом, состоявшим из двух лабораторий, и это было сложное дело, которое далеко не исчерпывалось холодным словом «руководство». Это было дело, за которым стояло, переплетаясь, множество решений и поступков, – и не стояло, а двигалось, меняясь год от года.
За двадцать лет работы Петр Андреевич изучил то, что можно назвать искусством управления. Он давно привык к мудрой молчаливости Левенштейна, верного хранителя шумиловских традиций. Толстый, скептический, добродушный, он напоминал Коншину того тургеневского героя, который на все, что ему доводилось услышать, отвечал только «брау, брау», что означало «браво». Это был человек, считавший, что любое внешнее продвижение приводит к отдаче, которая неизбежно сказывается на самом образе мышления деятеля науки. Ему неоднократно предлагали лабораторию, он отказывался решительно и непреклонно...
К упрямству Володи Кабанова Петр Андреевич научился относиться терпеливо. Маленький, решительный, кривоногий Володя внимательно выслушивал все замечания руководства, а потом ни на йоту не отступал от намеченного направления. Над его богатой личной жизнью подшучивали: девушки, имена которых он путал, звонили ему ежедневно.
Полной противоположностью Володе был Сергей Львович Тепляков – бледный, бородатый, с кроткими задумчивыми глазами. Можно было подумать, что его деятельность заключается в том, что он часами курит на лестнице, рассеянно здороваясь с товарищами по работе – иногда дважды, а то и трижды. Петр Андреевич не мешал ему. Автор немногих, но безупречных работ, Тепляков не терял времени на лестнице. Он думал.
...В искусстве управления отделом лежало, в сущности, только два принципа, и Петр Андреевич понимал, что, если их соблюдать, станет выполнимой главная цель, относившаяся уже не к тактике, а к стратегии.
Первым принципом была очевидность. Ничто ни при каких обстоятельствах не должно происходить за спиной, касается ли это внешних или внутренних отношений. Разумность работы должна быть ясна каждому, начиная с шефа и кончая лаборантом. Вторым принципом была естественность. Редкая статья печаталась под одним именем, почти всегда она была результатом усилий двух, трех, четырех авторов, и порядок, в котором стояли имена, был основан на объективной оценке вклада каждого из них. Несправедливость заранее исключалась, что создавало атмосферу взаимного доверия. Этот принцип соблюдался не только в подобных случаях, но и в сотнях других, вызывавших необходимость прийти к справедливому решению. Отношения с сотрудниками сложились давно. Одного он защищал еще при Шумилове, который в минуты вспыльчивости был способен на несправедливость, другого покрывал при загулах. Третий, по общему мнению, был дураком, хотя и считал себя глубоким мыслителем. Но этот дурак был тонким экспериментатором, правой рукой Коншина, его опорой. Четвертый долго не печатался, все искал «подход», и надо было осторожно придерживать тех, кто ждал от него немедленных результатов. Пятый метался из стороны в сторону и давно бы вылетел из другой лаборатории, а Коншин ценил его именно за эту неуверенность, потому что в ней чувствовалась попытка взглянуть на дело всей лаборатории со стороны. Шестой не мог писать, потому что у него постоянно болели дети, и надо было писать за него. И наконец, находились люди, которые лучше, чем он, понимали дело, по меньшей мере свое дело, которым они занимались в полную силу. Но самое главное, без сомнения, заключалось в том, что все они были не сотрудниками, а соратниками, которых он втянул в рискованное предприятие. Идея, неопровержимость которой он доказывал в статьях и выступлениях, была очевидна только для него, и они работали в атмосфере его увлеченности, его убежденности, его предсказывающего взгляда.
В мелочи, неизбежно сопровождавшие работу отдела, Коншин вмешивался редко. Он знал, что каждый серьезный работник (а других, кажется, у него не было) сумеет взвесить самостоятельно, является ли эта мелочь хотя бы незначительным, но истинным вкладом. Ощущение истинности было особенно важно – оно помогало работе практически.
Петр Андреевич заметил, что эта последняя черта характерна для женщин в большей степени, чем для мужчин, или, во всяком случае, для женщин, работающих в его отделе. Когда они чувствовали «истинность вклада», они трудились без устали, неутомимо. Но когда с помощью какого-то загадочного чувства они угадывали постороннюю цель – карьеру, внешний расчет, – они сознательно или бессознательно начинали работать плохо. Впрочем, Коншин, любивший повторять павловское: «Природа – проста», – и эту черту объяснял очень просто. Если уж отрываться от семьи и детей, если уж жертвовать своим особенным, женским, то не ради посторонней цели, а ради истинности своей доли в общей работе, причем эта доля обходилась им дороже, чем мужчинам. Стало быть, и цениться она должна была дороже.
Это наблюдение в полной мере относилось к Нине Матвеевне Скопиной, похожей, как многие утверждали, на Грибоедова мужским треугольным лицом и по-мужски подстриженными, слегка вьющимися волосами. Сходство подчеркивалось маленькими очками в тонкой немодной оправе. Это была женщина, сознательно ограничившая свою жизнь интересами науки. В своей фанатической отрешенности она была резка, насмешлива, зла. Но за этой отрешенностью Коншин угадывал то, что он больше всего ценил в людях, – мужество и благородство.
Напротив, понятие отрешенности показалось бы смешным по отношению к Марии Игнатьевне Ордынцевой, плотной, крепкой женщине, седой, но моложавой для своих пятидесяти трех лет. Из основного ядра отдела она была, кроме Левенштейна, старше всех. Это была личность опасная в том смысле, что она не умела ни молчать, ни выбирать удобное место, чтобы высказывать свои подчас очень острые мнения.
6
Знакомство Коншина с Леночкой Кременецкой, работавшей в другом институте, началось не совсем обычно.
Ей давно хотелось посоветоваться с Коншиным по поводу своей диссертации, над которой она работала почти два года. Леночка начинала у Врубова – нынешнего директора Биологического института – и он, без сомнения, легко мог бы устроить эту встречу. Но не зная, в каких отношениях Коншин с Врубовым, она решила пойти без рекомендации, полагаясь только на себя. Решение было принято перед зеркалом. «Полагаясь на себя» – это означало «на свою внешность».
У нее было свежее крестьянское лицо, в котором беспечность прекрасно уживалась с трезвостью и здравым смыслом. Пожалуй, ее нельзя было назвать красавицей, но что-то располагающее было в ее легкой походке, в улыбке и даже в тонких белокурых волосах, завязанных небрежным узлом на затылке. Этой привлекательности ничуть не мешали ни короткий нос, ни слишком большие даже при ее росте ноги. Кокетливость ее казалась немного странной – она кокетничала не только с мужчинами, но и с женщинами. Но и в этой странности была привлекательность, о которой Леночка прекрасно знала.
К Петру Андреевичу она решила приехать не на работу, а домой – и неожиданно, хотя всем было известно, что его день проходил по часам и что он старался соблюдать этот строгий порядок. День заканчивался прогулкой – может быть, стоило позвонить ему и попросить разрешения встретиться на прогулке?.. Но Леночке хотелось показать ему свои таблицы, а это невозможно было сделать где-нибудь в парке (Коншин жил тогда напротив «Ударника»). И после долгих колебаний она решила приехать к нему за полчаса до прогулки.
Петр Андреевич открыл ей дверь, и хотя встретил вежливо, оттенок недовольства все же почувствовался в первые минуты разговора. Но Леночка знала, что он исчезнет, и он действительно исчез, хотя для этого она почти ничего не сделала – только говорила, как бы сердясь на себя за собственную дерзость.
Она не раз видела Коншина, читавшего каждые три месяца необязательную лекцию в университете. Но так близко она встретилась с ним впервые, и он показался ей выше ростом и моложе своих сорока трех лет. Он нравился Леночке, ей хотелось взглянуть на него в домашней обстановке. Впрочем, все слушательницы Коншина были влюблены в него, и ему не раз случалось получать от них любовные записки, над которыми он добродушно подсмеивался.
Он был выше среднего роста, худой, узкоплечий и красивый, хотя в лице его не было, кажется, ни одной черты, которую можно было бы назвать этим словом. Но в его сутуловатой, угловатой фигуре была мягкая значительность, как бы приглашавшая собеседника высказаться откровенно. Улыбка восхищения и одобрения, скользившая по его добрым губам, необычайно шла к его нервному лицу, светло-серым глазам и непроизвольно крепкому рукопожатию. И все вместе производило впечатление красоты, которую он не только не замечал, но и удивился бы, если бы ему о ней сказали.
Не выходя за границы материала, он, к изумлению Леночки, так все перестроил в ее диссертации, что незначительное выдвинулось вперед, а то, что казалось ей самым важным, ушло в тень («До поры до времени», – серьезно сказал Петр Андреевич).
Это и было впечатление, которое осталось у Леночки после их первой встречи: его мягкость, расположенность и удивление перед легкостью, с какой он мгновенно перекроил ее работу.
И у него осталось чувство удивления, но совсем другого, не имевшего никакого отношения к науке: она записывала его соображения, он расхаживал по комнате и, останавливаясь, смотрел на молодую прямую нежную шею с выбившимися из-под шпилек крутыми завитками. На другой день, читая лекцию в университете, он почему-то вспомнил и эту шею, и разгоревшееся ухо, и то, что за окном вдруг повалил густыми хлопьями снег, и то, что они оба странно замерли, когда повалил снег. Коншин перестал говорить, Леночка – записывать. Тишина, после которой должно было, казалось, случиться что-то возможное и невозможное, установилась в комнате. Но ничего не случилось. Только к свету настольной лампы присоединился сумрачный свет снега, который бился в окно, как бесформенные белые птицы.








