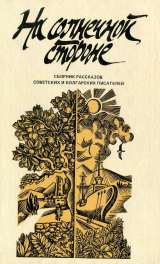
Текст книги "На солнечной стороне. Сборник рассказов советских и болгарских писателей"
Автор книги: Василий Шукшин
Соавторы: Виктор Астафьев,Чингиз Айтматов,Нодар Думбадзе,Юрий Нагибин,Георгий Марков,Вадим Кожевников,Павел Вежинов,Георгий Мишев,Николай Хайтов,Димитр Коруджиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Неожиданно он попал на освещенную улицу. Фонари на высоких столбах так ярко освещали улицу, что эта ночь казалась праздничной, и он шел в ней как победитель.
Он вдруг понял, что просто поднял голову и смотрит на фонарь. Ему опять стало плохо, ноги подкосились, он схватился за столб, глядя вверх… Это был последний столб на дороге, последняя неоновая капля в этой ночи, в этом городе, а может быть, и в его жизни. Это тоже было абсурдом, и дальновидность, которая не покидала его никогда, растворилась в мраке, не давая ему ответа.
Когда ему стало получше, он опять свернул в темные улицы, где царил мрак, но он опять говорил себе, что люди уже не смогут бродить в темноте, скоро здесь появятся голубые лампы, они дойдут до конца его земли.
Вдруг он увидел перед собой необычайно красивый дом в народном стиле – с нависающим вторым этажом, с колонками. Он удивился, что не видел этого дома раньше. В спину ему ударил яркий свет, раздался шум двигателя. Заскрипели тормоза, хлопнула дверца машины, и он услышал голос своего шофера:
– Я здесь, товарищ секретарь.
– Иди домой и ложись спать, – ответил он. Секретарь совершенно забыл, что шофер ждал его перед театром и поедет за ним следом. – Я могу и сам добраться до дома. Погода сегодня прекрасная. И скажи в комитете, скажи… кому надо, что этот дом станет музеем.
В этот момент ему было очень тяжело, потому что теперь ко всем болям прибавилась и эта – он слишком поздно увидел этот дом, а, наверно, здесь есть и другие такие же дома, ведь такие вещи не появляются сами собой.
Но открылась и задняя дверца машины, и появился бай Продан:
– Я, признаться, забеспокоился уже, сынок, но раз с тобой все в порядке, давай поговорим. Знаю, что не успокоюсь, пока мы не поговорим. Ты на машине или пешком?
– О чем мы должны поговорить, бай Продан?
– Да как тебе сказать…
– Как-нибудь скажешь, раз решил.
Старик долго не решался заговорить, они вдвоем шли по улице, а машина ползла следом за ними. Потом он заговорил о каналах. И соседние области они могли бы водой снабжать, лучшее зерно получали бы.
– Разве мы даем плохое зерно?
– Я не говорю, что плохое. Только в этом много химии. Да и юг наступает на нас, снега все меньше, лежит он недолго. Успокаивать меня не надо, сынок. Со святым Ильей об осадках не договоришься.
– Договорюсь и договор тебе покажу, если ты дашь мне гарантии, что уровень воды в каналах через десять лет не упадет. И что они останутся чистыми. И что не приползет сюда с большой реки лесс с нефтью. И что не окажутся в воде химикаты, куда более опасные, чем мои. Я, бай Продан, употребляю столько препаратов, сколько их употребляют повсюду в мире. Если мир откажется от них, откажемся и мы. Но если даже и откажутся от них, то лишь затем, чтобы заменить чем-то более совершенным. Возврата к прошлому не будет, бай Продан, не может быть.
Он говорил уже быстро, задыхаясь. Воздух уже не входил в его слабое измученное тело. Он вцепился пальцами в воротничок, пуговица оторвалась и упала на землю.
Голос его не зазвучал снова. Все поглотила эта ночь, а ему еще многое нужно было сказать. И здесь все притихли, и там, в театре. А люди ждали его слов. Надо было закончить ему свой разговор с бай Проданом там, на сцене:
– Мое право, бай Продан, базируется на риске. Я начал эксперимент, поэтому терпеливо жди его окончания. Если проиграю, то хуже всего будет мне самому.
– Ты заговорил прямо как наш народный герой Левский! – воскликнул бай Продан.
– Я не Левский, поэтому мне и тяжело. Нередко я спрашиваю себя, что делали бы сегодня такие, как он, из того же теста сделанные люди? Как бы жили, когда с рабством, против которого они боролись, уже покончено?
– Ты можешь с легкостью рассуждать о Левеком, ты ведь губишь область, в землю ее зарываешь…
А зал уже шумел, говорили все разом о том, чего Гербицид не сказал старику, а, может быть, этого и не стоило ему говорить – недра их земли благодатны, секретарь открыл их щедрость.
…Там, на черной глине, были следы, но не круглые, а длинные и прямые – бесконечные борозды, протянувшиеся от горизонта до горизонта, в которых искрился золотистый промытый песок.
Ему тесно было внизу, на темной глине с золотыми разводами, он тянулся все вверх и вверх по таким же бороздам, звенели тяжелые колосья, звенели и искрились, раскинувшись от горизонта до горизонта. Золото хлеба покрыло целый остров, этот остров плыл, плыла вся эта новая и суровая земля, с которой он нашел общий язык.
И уже ничего его не страшило, только грустно было, что не успел он показать Марии смешной замок, сделанный собственными руками, ему хотелось с кем-то передать его жене, но он понял, что этого ему уже не сделать. Да и Мария смеялась бы только, если бы замок вынул он, ее муж, и ее смеху никто не радовался бы так, как он.
Бай Продан пытался приподнять его единственной рукой, попросил шофера посмотреть, светятся ли еще живым блеском глаза Гербицида. Шофер пожал плечами:
– У него это уже было, бай Продан! И не раз.
– Что это, говори!
– Да инфаркты.
– Но ведь это не может продолжаться бесконечно, – тихо произнес расстроенный вконец бай Продан. – Ты что, думаешь такие вещи могут проходить бесследно? – И вдруг крикнул: – Скорее! Скорее в больницу! Если надо, в Софию! Могут и оттуда самолет прислать. Это же такой человек!..
В больнице доктор сказал, что надеется только на везение. Больного перенесли в другую машину, которая с воем помчалась на аэродром. В машину сели и бай Продан, и шофер, и доктор. Автомобиль несся с воем и словно стонал: «Берегитесь, берегитесь! С меня должно начаться везение!»
Фары уже, освещали взлетную полосу. На середине бетонной полосы уже вертелся пропеллер небольшого самолета – из тех, с которых распыляют гербициды.
Самолет заправляли бензином – предстоял «дальний полет, может быть, самый дальний полет этого самолета.
Нодар Думбадзе
Хазарула
Помню, в четырнадцать лет впервые заговорил я с деревом. Самому-то дереву давно уж перевалило за шестьдесят, точь-в-точь как моей бабушке. Это была яблоня, и звали ее Хазарула.
Бабушка каждую зиму привозила яблоки Хазарулы в Тбилиси. С первым утренним поездом приезжала она в город и мчалась с вокзала к нам – румяная, цветущая, благоухающая пряными запахами деревни. Обнимала меня, крепко прижимая к груди, потом бросала мне в постель холодное, величиною с кулак яблоко, приговаривая:
– Держи-ка, нена[2]2
Нена – (здесь) ласковое обращение к ребенку в западной Грузии.
[Закрыть], гостинец от Хазарулы с нашего двора. Она хоть и сморщилась вся – сущая Датино, алмасхановская кривляка, – зато с утра натощак лучше ее яблочка нет ничего. Ешь, золотце, и пусть все твои беды уйдут со мною в могилу…
Яблоки были и впрямь очень вкусные.
Когда началась война, я переехал в деревню, к бабушке, и здесь уже лично познакомился с Хазарулой. Яблоня высилась прямо над марани[3]3
Марани – погреб.
[Закрыть] – душистая, кое-где изъеденная червями и тронутая сухоткой, но все еще гордая, красивая и сильная, широко разметавшая свои тенистые руки. На ней красовались черпаки, горшки и кувшины – побольше и поменьше; но, увы, я узнал, наша Хазарула не цвела, как когда-то, и не принесла плодов.
Однажды, ранней весной сорок второго года, бабушка разбудила меня чуть свет. В руке она держала блестящий, острый, как бритва, топор.
– Ты что это, бабушка, – нарочно запричитал я, – хочешь меня погубить?
И спрятался под одеяло.
– А ну, не валяй дурака! – в сердцах вскричала бабушка. – Вставай, покуда я за ухо не стащила тебя с тахты… Встань и займись делом…
– Какие-такие дела у тебя на рассвете?! – возмутился я. – Что задумала, женщина?
– Пусть-ка почувствует мужскую руку, а то уж меня и в грош не ставит, – нахмурясь, пробормотала она.
– Бабушка, ты это о ком – о Гитлере или о нашем бригадире?
– Ишь ты, мутруки[4]4
Мутруки – ослик.
[Закрыть] упрямый! Ты мне свои шуточки брось, слышишь?
– Встаю, бабуля, встаю. Объясни только, о ком речь? – отвечал я и стал одеваться.
– О ком, о ком – о Хазаруле! Уродина, ни стыда, ни совести. Слыхано ли – этакое предательство, да еще в голодуху?!
– Так ты… о дереве? – От изумления у меня еле ворочался язык.
– О дереве, о дереве!
– О яблоне?! – Я все еще не верил своим ушам.
– Разве яблоня без яблок это яблоня? – вопросом на вопрос отвечала бабушка и тотчас сама решила: – Нет, она больше не дерево, а дрова.
– Ладно, чего от меня-то надо? Срубить ее, что ли?
– Ну, зачем так уж сразу – срубить. Сперва припугнем ее, дуру, а не испугается – срубим. Чего с ней цацкаться?
Бабушка объяснила мне, как я должен запугать Хазарулу, прислонила топор к моему изголовью и направилась к двери.
– Думаешь, она меня послушает? – усмехнулся я.
– Если осталась у нее хоть капля ума, – сказала бабушка, – послушает.
– А ты сама куда? – спросил я.
– Нет, вы должны говорить наедине. Ты и Хазарула, – пояснила бабушка уже в дверях и удалилась.
Я встал. С топором на плече поднялся на марани и остановился лицом к лицу с Хазарулой. Набухшие влагой почки ее готовы были лопнуть. «Интересно, – подумал я, – дерево и в самом деле слышит человека?» И улыбнулся.
Потом схватил топор и с силой занес его над стволом. Раз! В последний миг я удержал топор на весу и лишь слегка коснулся им корня яблони.
– Рубить или не рубить? – спросил я вслух. – Срубить или не срубить? Срубить или не срубить?!.
И задумался.
Наконец, после долгих раздумий, я махнул рукой и заговорил, да так громогласно, что меня услыхала не только Хазарула, но и камень, накрывший зарытый в землю квеври – огромный кувшин с вином.
– Черт с тобой – сказал я, – обожду еще год. Но если и тогда не дашь плодов, пеняй на себя. Срублю под корень!
Короче, я выполнил в точности бабушкин наказ. А Хазарула? Она стояла невозмутимая, даже веткой не повела и только тянулась всем телом вверх, стараясь согреться в лучах восходящего солнца.
Я снова готов был смеяться – теперь уже не над бабушкой, а над собой. С маху всадив топор в чурбан, валявшийся под яблоней, я вернулся назад, в оду[5]5
Ода – дом на высоких сваях.
[Закрыть].
– Ну, как? – спросила бабушка.
– «Как»… Напугал ее до смерти. Разве не видишь, вся трясется, бедняга! – отвечал я с важностью и заставил бабушку взглянуть на Хазарулу.
Тут уж я засмеялся в голос – Хазарула и впрямь дрожала всем телом!
Подул восточный ветер.
В горы скорым шагом поднималась весна. Она выглянула из-за губазаузской рощи и вошла к нам во двор – босая, как распутная девка; подняла подол своего платья, прошлась по свежей зеленой траве и свела с ума всех и вся: скот, птицу, растения. Жизнь вокруг забила ключом.
Распустился миндаль; расцвели алыча, слива, яблони «нацара»; зацвел розовым цветом персик; расцвела дуля… А Хазарула, казалось, только встала спросонок – моргает, потягивается, и ни единой живой душе неизвестно, чего от нее ждать.
Но вот бабушка вновь разбудила меня на рассвете и показала на Хазарулу:
– Глянь-ка, нена!
Величавая стояла Хазарула в бледно-розовом одеянье, распахнутом на груди, как это делают старухи, умаявшиеся после долгих трудов, – стояла и улыбалась, ехидно поглядывая в нашу сторону.
– Ну, что я тебе говорила! – торжествовала бабушка.
Расцвела Хазарула – но как расцвела! Отовсюду слетались к ней пчелы – и какими роями! Завязались на ветках плоды – сколько их было, не счесть! Потом, созревая, они налились – да еще как налились! Хазарула на целый год завалила нас и наших соседей яблоками – свежими и сушеными, вареньем и повидлом. Скотина, небось, набила себе оскомину, вечно жуя плоды Хазарулы. Помню, я что ни день относил полную, с верхом, корзину яблок корове Теофана Душадзе.
– Хватит, бичо[6]6
Бичо – парень.
[Закрыть], оставь эту корову в покое! – разгневался как-то Теофан при виде моих чрезвычайных забот. – Скоро она будет доиться яблочным компотом!
– Что ты наделала, Хазарула? Как умудрилась свести с ума всю деревню? – спросил я дерево в канун наступления зимы, сбивая длиннющей палкой с самой верхушки последнее яблоко, исклеванное дроздами.
– Раз уж ты дерево плодовое, да еще яблоня – только так и надо поступать! – отвечала Хазарула, скрипя старческими своими суставами.
Следующий год запомнился нам надолго: Хазарула больше не стала плодоносить. Сколько я ни пугал ее, как ни грозился, ни молил – баста! Иссякла хазарульность Хазарулы.
Год спустя, когда мы черпали из квеври вино, бабушка вдруг взглянула на небо, потом на Хазарулу и, покачав головой, сказала мне, словно какому-то чужаку:
– Быть сегодня снегу, а мы остались без дров. – В голосе ее слышалось раздражение. – Совсем пропадем от холода. Надо срубить Хазарулу!
– Подождем еще годик, бабуля, тогда и срубим, – взмолился я. – А ну как я снова ее напугаю…
– Да пойми ты, нена, это конец. Ее, как и меня, стуруху, ничем не испугаешь.
– Нет, – заявил я, – не могу я срубить ее!
– Как так не можешь?! – вспылила бабушка. – Тебе, видно, что мои слова, что собачий лай – все едино!
Я уперся было:
– Да нет же, бабушка! Нет… Просто не могу срубить ее.
– Почему? – удивилась бабушка.
– О женщина, не ты ли уговорила меня: дерево, мол, все слышит?!
– Полно, нена, на старости лет чего не сболтнешь. А ты и уши развесил. Человек человека, бывает, не слышит, куда там дереву… Я тогда пошутила, внучек, и в мыслях не держала, что ты мне поверишь.
– Нет, – настаивал я, – не могу! По-моему, дерево не только слышит, но и видит. Погляди, как оно отворачивается от нас.
– Диду, диду[7]7
Диду – междометие, означающее крайнюю степень изумления.
[Закрыть]! Что слышат мои уши, лучше бы им оглохнуть! – запричитала бабушка и в сердцах шлепнула себя ладонью по щеке. – Э-э, да какой с тебя спрос. Я тебе, дурню, мозги запорошила, мне на тебя и управу искать. Эй, соседи! Люди добрые, сюда, сюда! Сажайте всем миром на цепь взбесившегося мальчишку! О горе, долго ему не жить! – она взывала теперь ко всей деревне.
– Эй, вдова Каландадзе! Чего ты хочешь от этого мальчика? За что собираешься господу богу подкинуть его душу? – откликнулся на ее вопли шагавший куда-то по проселку меж плетнями Анания Салуквадзе и завернул к нам во двор.
– Как это чего хочу, батоно[8]8
Батоно – вежливое обращение к мужчине, старшему; буквально – господин, сударь.
[Закрыть] Анания?! Сам посуди, заставила я в позапрошлом году родного внука напугать эту бесплодную Хазарулу. А теперь вот прошу, сруби ее, умоляю по-всякому. Так он, видишь ли, не желает. И знаешь, почему? Дерево, мол, все видит и слышит… Черт знает что! – в сердцах объявила бабушка и протянула гостю стакан, наполненный чистым, прозрачным вином «адеса»[9]9
«Адеса» – сорт винограда.
[Закрыть].
– Доброе утро и бог тебе в помощь, калбатоно[10]10
Калбатоно – вежливое обращение к женщине; буквально – госпожа, сударыня.
[Закрыть] Дареджан, – благословил бабушку Анания Салуквадзе и с таким видом выпил вино, что у меня слюнки потекли, словно я сам вовсе не стоял перед открытым чури[11]11
Чури – то же, что и квеври: обычно зарываемый в землю кувшин для хранения вина.
[Закрыть], полным вина.
– Видит и слышит? – переспросил Анания и погладил свои отливающие рыжиною усы.
– Не только видит и слышит, дорогой Анания! До того обалдел сопляк – уверяет: дерево еще и говорит! – пожаловалась бабушка. – Но нет, не его здесь вина. Это я, я сама задурила ему мозги, мне теперь и в петлю лезть!
– А вина твоего он случаем не пробовал с утра? – спросил Анания Салуквадзе.
– Да вроде пробовал… – отвечала бабушка. Перед нею вдруг снова блеснула надежда.
– Тогда налей мне еще стакан, калбатоно Дареджан, – улыбнулся Анания, – и я точно скажу, кто его свел с ума – ты или вино.
Бабушка наполнила стакан, Анания одним махом опрокинул его в свою глотку.
– Сдается мне, калбатоно Дареджан, – начал он, выдержав долгую паузу, – вы оба свели его с ума – и ты и вино. Но, чтоб я вынес окончательный приговор, налей-ка еще стаканчик.
Бабушка налила ему вина, но при этом глянула на него такими глазами, что я на его месте поостерегся бы даже пригубить напиток. Однако Анания как ни в чем не бывало осушил и третий стакан. На сей раз он тотчас изрек свое суждение:
– Нет уж, сейчас мне ясно, отчего он рехнулся, – и указал пальцем на вино. – Так ты утверждаешь, – обратился он прямо ко мне, – что дерево все видит, не так ли?
– Да! – подтвердил я.
– А камень?
– И камень тоже.
– А река?
– И река…
Он призвал на мою голову благословение божие и повернулся к бабушке:
– А что, калбатоно Дареджан, выходит все хоть куда! Скажем, ты – дерево… ну, хоть эта яблоня, Хазарула… Если ты, как болтает твой парень, и видишь, и слышишь… неужто ты сразу не заметишь мутрука… мужика, вроде меня, с топором на плече. Подходит и хочет тебя срубить. Понимаешь – срубить?! Все видишь и знаешь, а бежать не можешь! Долго ли тут сойти с ума? – вопросил Анания и вновь протянул пустой стакан, но бабушка почему-то замешкалась. – Налей, женщина! – вскричал Анания Салуквадзе. – Главное, что я должен тебе поведать, еще впереди.
Бабушка наполнила его стакан.
– Ты, бичо, хоть и городской, – воззвал он ко мне, – пора уже, пора тебе освоить нашу крестьянскую премудрость. Трех вещей не станет держать у себя крестьянин: скотину, не дающую потомства, бесплодное дерево и бездетную… – тут Анания заколебался, уставясь на бабушку.
– Нечего на меня таращиться, Анания, – рассмеялась бабушка. – Говори, договаривай, не стесняйся. Не будь у меня сына, откуда бы взяться внуку.
– Твоя правда… И бездетную бабу… У твоей бабушки Дареджан было семеро душ детей. Вот так-то.
– Чего ты хочешь от меня, дядя Анания? – спросил я.
– Почему не рубишь дерево? – спросил он в ответ.
– Жалко мне его.
– Значит, бичо, дерево пожалел? Твои, почитай, сверстники на фронте под танки с гранатами ложатся, а ты…
– Он ведь при нужде ни курицу тебе, ни ягненка не зарежет, – сказала бабушка. – Вон дерева никак не срубит – ему, видишь ли, жалко. Больше тебе скажу: стал он было на позапрошлый год свинью резать – еле поймали ее в этом году в Интабуети, нож в горле так и торчит! Да разве дело это?! – сетовала бабушка.
– Правду она говорит, бичо? – спросил Анания.
– Правду, дядя Анания. Только ты мне зря наставления не читай, все равно не срублю Хазарулу, – заявил я.
– Жалко стало, бичо?
– А разве не жалко?
– Ну и черт с тобой, с жалостливым! Налей мне еще стакан, калбатоно Дареджан, и завтра твоя Хазарула ни свет ни заря будет валяться на земле. Сам со всем и управлюсь завтра – нынче мне недосуг.
Бабушка налила ему вина. Он выпил.
– Калбатоно Дареджан, у тебя случайно закусить на найдется? – как бы между прочим спросил он.
– А кол на закуску не хочешь, батоно Анания? – ехидно спросила бабушка.
Анания молча вышел со двора и медленно двинулся вверх по проселку.
– Эй, батоно Анания, куда тебя понесло?! – крикнула бабушка. – Ты вроде вниз собирался?
– Да, были внизу у меня кое-какие дела, калбатоно Дареджан, – признался Анания. – Но чтоб так зацвела лоза у нашего председателя, как я гожусь теперь в дело…
Он махнул рукой.
– Но тогда, батоно Анания, уважь меня, старуху, обопрись лучше на плетень Шакрона, – попросила бабушка. – Мой и так еле дышит.
Анания переметнулся через проселок и повис на изгороди Шакрона Микаберидзе. Он шагнул было дальше, но вдруг оглянулся.
– Эй, бичо! – позвал он меня. – Значит, говоришь, видит твоя Хазарула? Ах, чтоб тебе… До Хазарулы ли тут, – хихикнул Анания, – я и сам ни черта не вижу…
И, шатаясь, побрел вдоль изгороди.
А прав-то был я. Все видело и слышало безмолвно стоявшее нагое дерево. До полуночи думала Хазарула. А в полночь стиснула свое сердце и подобрала корни… Оплетенный корнями ее квеври содрогнулся. Почуяла это Хазарула, крепче прежнего сжала корни – прогнули вмятины глиняные бока, но кувшин остался цел. Снова сжала Хазарула корни, и первая трещина рассекла кувшин. Красная жидкость лениво засочилась из него, орошая долгие корни Хазарулы. Страшная дрожь пробежала по всему ее телу… Но со временем дрожь эта обернулась неведомым сладким трепетом. Обреченная и жаждущая, приникла она к кувшину, и красная жидкость потоком хлынула по ее корневищам. А она все впивала в себя это красное чудо, вот уж без малого семьдесят лет таившееся меж ее корнями; и все эти годы она, ничего не зная о том, любовно окутывала его сетью животворных подземных побегов.
О, как она укрывала и берегла его!
Красная жидкость нескончаемым потоком струилась из лопнувшего квеври, и Хазарула все сильнее сжимала кувшин, жадно упиваясь неиссякающей диковинной влагой. Тело ее, сотрясаемое дивной радостной дрожью, наполнялось теплом и радостью. А она все пила и пила, позабыв обо всем на свете… Наконец, захмелела, и мир стал светлей и счастливей!
Прежде, в юности, Хазарула дивилась: как могут жить люди, не пуская в землю глубоких корней? Как они движутся вокруг нее, Хазарулы? Да и вообще, почему они так движутся? Но потом привыкла ко всему этому, не задаваясь больше мыслью о непонятных, необъяснимых вещах – все одно ведь некому было отвечать на ее вопросы. А сегодня свершилось чудо! До дна опустел кувшин, последнюю каплю выпила Хазарула, и вдруг ей открылась, стала ясна тайна этой странной жидкости… Нет, она теперь не дивилась ни тому, что люди, бывало, обнимались, целовались, плакали; ни тому, что они гнались друг за другом и ссорились, смеялись, пели песни, держась за руки, и плясали вокруг нее, Хазарулы; ни тому, что с таким усердием мыли квеври и потом благоговейно наполняли этой удивительной влагой. Все, все поняла Хазарула, и тут ей самой захотелось до смерти петь, обниматься, целоваться и плакать, бегать, плясать… Но как было ей совершить все это – бедная Хазарула, ведь она оставалась деревом, не человеком… И она сделала, что могла – до утра качалась и гудела Хазарула. А утром… Утром вдруг почувствовала глухой удар, обрушившийся на ее бок. Но боли не испытала; нет, ей не было больно, и потому она оставила этот удар без внимания. Потом ощутила в другом боку такой же точно удар, но и на него не отозвалась. А удары все падали и падали на нее – час или более. Наконец почувствовала она, некий напор слева направо стал клонить ее долу. Напор становился все сильнее, послышался скрип, протяжный и резкий… Сперва она наклонилась лениво, потом вдруг бессильно улеглась наземь. Теперь лишь услышала она треск и хруст своих собственных рук и плеч, лопались суставы и кости… Но все равно ни малейшей боли она не испытывала, просто закрыла глаза и сладко – ах, как сладко и глубоко! – уснула.
– Вставай, вставай, нена! – разбудила меня бабушка. – Знаешь, Анания свалил спозаранку Хазарулу. Вот, бери топор, хоть ствол от ветвей очисть! – Сказала и вышла на кухню.
Ночью выпал снег, деревня стояла такая красивая, точь-в-точь невеста под фатой, готовая к венцу. Только наш двор, казалось, был в трауре: на марани покойницею лежала недавно срубленная Хазарула, огромная, изуродованная, с поломанными ветвями. Понурясь, поднялся я на марани и, прежде чем обрубить ветки, присел на сруб. Присел, пригляделся и окаменел: из рассеченных жил поверженной яблони сочилась кроваво-красная влага.
– Бабушка! – закричал я.
– Чего тебе? – выглянув из дома, спросила она.
– Поднимись сюда на минутку.
– В чем дело?
– Поднимись, сама увидишь.
– Что это? – спросила она в изумлении.
– Наверно, кровь дерева, – отвечал я дрогнувшим голосом.
– Быть не может. Сейчас январь, все растения спят; соки забродят лишь в феврале, – сказала бабушка.
Она обмакнула палец в красную жидкость, понюхала его и вдруг испуганно взглянула на меня.
– Открой чури! – велела она.
Я тотчас снял камень и крышку с зарытого в землю кувшина, и мы с бабушкой глянули в широкое его горло. Квеври был пуст!
– О чудо свыше благословенное!.. Мать-прародительница, зерцало истины… Святая Мария, смилуйся над нами, бедными, не своди нас с ума! – взмолилась бабушка, голос ее дрожал.
Воздев руки к небу, она медленно опустилась на колени.
Хазарула, содрогнувшись от холода, открыла глаза. Ей, в непривычном ее положении, мир показался опрокинутым вверх дном. Она удивилась. Сперва она обвинила во всем диковинную красную влагу. Но тут увидела сидевшего на срубе понурого парня, облокотившегося на топорище, а чуть поодаль, у раскрытого кувшина, на невообразимо белом снегу коленопреклоненную старуху в черном с воздетыми к небу руками. Увидела и поняла: она, Хазарула, мертва. И закрыла глаза.
Уже навеки.
Перевод с грузинского Н. Микавы и М. Ткачева








