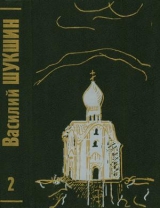
Текст книги "Том 2. Рассказы 60-х годов"
Автор книги: Василий Шукшин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Бык
Одно время работал я на табачной плантации, на табачке, у нас говорили. Поливал табак.
Воду надо было возить из согры.
Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.
Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя – веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится – хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул – бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.
Один раз – после обеда – надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой, маленький мужик, орет на меня:
– Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?
Я ополека́л все закоулки, все укромные места – нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу.
Нашел в просе – лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него. Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься… Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит… Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), – сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.
Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо. Через пять минут, видим, летит наш бригадир сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:
– Стреляйте в него! Стреляйте, что вы стоите?! Спорет ведь он меня!..
Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет – у нас их позабирали, как началась война.
Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, – кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо – не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.
Петрунька туда – бык за ним, Петрунька сюда – бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень – и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями, и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.
По давней традиции (она, как ни странно, сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили… Привозили из деревни самогонку и – начиналось.
На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!» К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, – пожалел он меня тогда, пожалел.
Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» не часто бывает.
Самолёт
Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум – в городе, точнее за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит – тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но – так, – отдышаться… Вот уж не знал!
Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, – они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю, и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.
Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!
– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!
Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку – так бы пустил его вниз с горы.
А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял… самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было – можно подойти и потрогать… Раньше нам приходилось – редко – видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?»
Ах ты, господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские – тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.
– Кукурузник, сука.
– Сидит… Горючего, наверно, нет.
И пошли, не глядя больше на самолет.
Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы – действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.
Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый… Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.
Даешь сердце!*
Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом… Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул:
– Даешь сердце!
Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.
Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин.
Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет пятидесяти, полный, рыхлый… Ходил, однако, скоро. И смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не нравилось, что он – одинок. Почему одинок, никто не знал, но только это нехорошо – в пятьдесят лет ни семьи, никого.
И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце.
Недоумевали.
В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным, обветренным лицом участковый милиционер.
– Здравствуй, товарищ Козулин!
Козулин удивленно посмотрел на милиционера.
– Здравствуйте.
– Надо будет… это… проехать в сельсовет. Протокол составить.
Козулин виновато поискал что-то глазами на полу…
– Какой протокол? Для чего?
– Что?
– Протокол-то зачем? Я не понял.
– Стреляли вчера? Вернее, ночью.
– Стрелял.
– Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет… это… побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ль, кого?
– Да нет… Победа большая в науке, я отсалютовал.
Участковый с искренним интересом, весело смотрел на фельдшера.
– Какая победа?
– В науке.
– Ну?
– Я отсалютовал. А что тут такого? Я – от радости.
– Салют в Москве производят, – назидательно пояснил участковый. – А здесь – это нарушение общественного порядка. Мы боремся с этим.
Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим показал, что он готов ехать объясняться.
У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской.
Предсельсовета ждал их.
– Это, оказывается, ночью-то, салют был, – заговорил участковый и опять весело посмотрел на Козулина. – Мне вот товарищ Козюлин объяснил…
– Козулин, – поправил фельдшер.
– А?
– Правильно – Козулин.
– А какая раз… А-а! – понял участковый и засмеялся. И тяжело сел в большое кожаное кресло. И вынул из планшета бланк протокола. – Извиняюсь, я без умысла.
Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил правой рукой ремень гимнастерки (из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза), пригласил фельдшера:
– Садись, товарищ Козулин.
Козулин тоже сел в глубокое кресло.
– Так что случилось-то? Почему стрельба была?
– Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, – торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали – что дальше? – От мертвого человека – живому, – досказал Козулин.
У участкового вытянулось лицо.
– Что, что?
– Живому человеку пересадили сердце мертвого. Трупа.
– Что, взяли выкопали труп и…
– Да зачем же выкапывать, если человек только умер! – раздраженно воскликнул Козулин. – Они оба в больнице были, но один умер…
– Ну, это бывает, бывает, – снисходительно согласился председатель, – пересаживают отдельные органы. Почки… и другие.
– Другие – да, а сердце впервые. Это же – сердце!
– Я не вижу прямой связи между этим… патологическим случаем и двумя выстрелами в ночное время, – строго заметил председатель.
– Я обрадовался… Я был ошеломлен, когда услышал, мне попалось на глаза ружье, я выбежал во двор и выстрелил…
– В ночное время.
– А что тут такого?
– Что? Нарушение общественного порядка трудящихся.
– Во сколько это было? – строго спросил участковый.
– Не знаю точно. Часа в три.
– Вы что, до трех часов радио слушаете?
– Не спалось, слушал…
Участковый многозначительно посмотрел на председателя.
– Какая это Москва в три часа говорит? – опять спросил он.
– «Маяк».
– «Маяк» всю ночь говорит, – подтвердил председатель, но внимательно смотрел на фельдшера. – Кто вам дал право в три часа ночи булгатить село выстрелами?
– Простите, не подумал в тот момент… Я – шизя.
– Кто? – не понял милиционер.
– Шизя. На меня, знаете, находит… Теряю самоконтроль. – Фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза – пальцами. – Ширво коло ширво… Зубной порошок и прочее.
Милиционер и председатель недоуменно переглянулись.
– Простите, – еще раз сказал фельдшер.
– Да мы-то простим, товарищ Козулин, – участливо произнес председатель, – а вот как трудящиеся? Им, некоторым, вставать в пять утра. Вы же человек с образованием, вы же должны понимать такие вещи.
– Кстати, – по-доброму оживился участковый, – а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа-то – вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили.
– Не смейте так говорить! – закричал вдруг фельдшер. И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: – Зачем вы так?
Некоторое время все молчали. Первым заговорил председатель:
– Горячиться не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили, все мы, в конце концов, животный мир, важно само достижение. Тем более что это произошло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще раз говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время – грубое нарушение покоя. Мало ли еще будет каких достижений! Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с дровами?
Фельдшер растерялся от неожиданного вопроса.
– Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо. – Фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой выкрик. Он посмотрел на участкового: – Простите меня – не сдержался…
Участковый смутился:
– Да ну, чего там…
Председатель засмеялся.
– Ничего. Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон.
– Но кто забу-удет, – шутливо погрозил участковый, – тому два долой! Протокол составлять не будем, но запомним. Так, товарищ Козулин?
– При чем тут протокол, – сказал председатель. – Интеллигентный товарищ…
– Интеллигентный-то интеллигентный… а дойдет до наших в отделении…
– Мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин, – сказал председатель. – Идите работайте. Заходите, если что понадобится.
– Спасибо. – Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к выходу.
На пороге остановился… Обернулся. И вдруг сморщился, закрыл глаза и неожиданно громко – как перед батальоном – протяжно скомандовал:
– Рр-а-авняйсь! С'ирра-а!
Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо:
– Опять нашло… До свиданья. – И вышел.
Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалился в кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице.
– У нас таких звали: контуженный пыльным мешком из-за угла, – сказал он.
Председатель тоже смотрел в окно.
Ветфельдшер Козулин шел, как всегда, скоро. Смотрел вниз.
– Ружье-то надо забрать у него, – сказал председатель. – А то черт его знает…
Участковый хэкнул.
– Ты что, думаешь, он правда «с приветом»?
– А что?
– Придуривается! Я по глазам вижу…
– Зачем? – не понял председатель. – Для чего ему? Сейчас-то?..
– Ну, как же – никакой ответственности. А вот спроси сейчас справку – нету. Голову даю на отсечение: никакой справки, что он шизя, – нету. А билет есть. Ты говоришь: ружье… У него наверняка охотничий билет есть. Давай на спор: сейчас поеду, проверю – билет есть. И взносы уплачены. Давай?
– Все же я не пойму: для чего ему надо на себя наговаривать?
Участковый засмеялся.
– Да просто так – на всякий случай. Мало ли – коснись: что, чего? – я шизя. Знаем мы эти штучки!
В воскресенье мать-старушка…*
А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее – супружница.
Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече… Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой от роду) «смотрели» куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину – суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, немолодой уж… Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая «смотреть» куда-то в даль, одному ему ведомую, начинал…
Песен он знал много. И все они были – про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев… Знал он и «божественные», но за этим следили «сельсоветские». А если никого из «сельсоветских» близко не было, его просили:
– Гань, про безноженьку.
Ганя пел про безноженьку (девочку), которая просит ласкового боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну – хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках…
Бабы плакали.
Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая.
Пел Ганя про «сибулонцев» (заключенных сибирских лагерей) – как одному удалось сбежать; только он сбежать-то сбежал, а куда теперь – не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим.
Пел про «синенький, скромный платочек»…
Слушали затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни.
В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла.
Оттого, что Ганя все «смотрел» куда-то далеко и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее – передачка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока…
Передайте передачку,
А то люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много –
Сильно с голоду морят.
Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали – и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтоб передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее, эту передачку – хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко. Но…
Ей привратник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет.
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».
Горло сжимало горе. Завыть хотелось… Ганя понимал это. Замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом:
Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла…
И никто про то не знает –
На душе что понесла.
Как же не знали – знали! Плакали. И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все «смотрел» в свою далекую, неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий душу.
Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые… Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли – как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так – из жалости, что человек – слепой, и ему надо как-то кормиться. А потом и совсем – вызвали Ганю в сельсовет и сказали:
– Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше.
Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя… Сказал:
– Спасибо нашей дорогой советской власти.
И ушел.
Но и тогда не перестал он ходить, только – куда подальше, где еще не «провели» это «вшивое радиво».
Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали.
– Ты, дядя… шибко уж на слезу жмешь. Ты б чего-нито повеселей.
– Жиганье, – обиженно говорил Ганя. – Много вы понимаете!
И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной дальше… Но дальше – не лучше.
И Ганя перестал ходить.
Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки.
– Глот! – кричала Матрена. – Ты вот ее пропьешь, пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?
– Закрой варежку, – предлагал Ганя. – И никогда не открывай.
– Я вот те открою счас шумовкой по калгану!.. Черт слепошарый.
Ганя бледнел.
– Ты мои шары не трожь! Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это.
Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь: на свадьбу поиграть – отказывался.
– Я не комик, чтоб под пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть – под их и пляшите.
Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена сбегала, пожаловалась), заикнулись:
– Вы знаете, есть ведь такое общество – слепых…
– Вот и записывайтесь туда, – сказал Ганя. – А мне и тут хорошо. А этой… моей… передайте: если она ишо по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю.
– Почему вы так?
– Как?
– Вам же лучше хотят…
– А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я… губошлеп уродился, что себе добра не хочу. Вы мне пензию плотите – спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чего мне в том обчестве делать? Чулки вязать да радиво слушать?.. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон.
…Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже…
Приехали из города какие-то люди – трое, спросили:
– Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?
Ганя насторожился.
– А зачем? В обчество звать?
– В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам сказали…
– Ну, так?
– Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать…
– А зачем? – пытал Ганя.
– Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не должны умирать…
Догадался же тот городской человек сказать такие слова!.. Ганя встал, заморгал пустыми глазами… Хотел унять слезы, а они текли, ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать.
– Вы споете нам?
– Спою.
Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ремень на плече. И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и прекрасное.
Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный, погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая, – никто в этот будничный, рабочий день не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня – праздник.
Пришла с огорода Матрена.
Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин… С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами – приготовились слушать Ганю.
– Сперва жалобные или тюремные? – спросил Ганя.
– Любые.
И Ганя запел… Ах, как он пел! Сперва пел про безбоженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и «смотрел» вдаль.
– А что-нибудь такое… построже… Нет, это тоже хорошая! Но… что-нибудь – где горе настоящее…
– Да рази ж это не горе – без ног-то? – удивился Ганя.
– Горе, горе, – согласились. – Словом, пойте, какие хотите.
Как на кладбище
Митрофановском
Отец дочку родную убил, –
запел Ганя. И славно так запел, с душой.
– Это мы знаем, слышали, – остановили его.
Ганя растерялся:
– А чего же тогда?
Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать все, двое ему возражали: зачем?
Ганя напряженно слушал и все «смотрел» туда куда-то, где он, наверно, видел другое – когда слушали его и не спорили, слушали и плакали.
– А вот вы говорили – тюремные. Ну-ка тюремные.
Ганя поставил гармонь рядом с собой. Закурил.
– Тюрьма – это плохое дело, – сказал он. – Не приведи господи. Зачем вам?
– Почему же?!
– Нет, люди хорошие, – будет. Попели, поиграли – и будет. – И опять жесткая строптивость сковала лицо.
– Ну просют же люди! – встряла Матрена. – Чего ты кобенисся-то?
– Закрой! – строго сказал ей Ганя.
– Ишак, – сказала Матрена и ушла в огород.
– Вы обиделись на нас? – спросили городские.
– Пошто? – изумился Ганя. – Нет. За что же? Каких песен вам надо, я их не знаю. Только и делов.
Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли.
Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.
– А чего, правда, заартачился-то? – поинтересовался он. – Спел ба, может, больше бы дали.
– Свиней-то вырастил? – спросил Ганя после некоторого молчания.
– Вырастил, – вздохнул Егор. – Теперь не знаю, куда с имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада – разрешили: давай по пять штук! А куда теперь? На базар – там без меня навалом, не один я такой…
Егор закурил и задумался.
– Эх ты, поросятинка! – вдруг весело сказал Ганя. – На-ка трешку-то – сходи возьми бутылочку. За здоровье свинок твоих… и чтоб не кручинился ты – выпьем.








