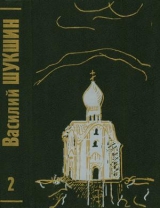
Текст книги "Том 2. Рассказы 60-х годов"
Автор книги: Василий Шукшин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Земляки*
Ночью перепал дождь. Погремело вдали… А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.
Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.
И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!
Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке.
Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина – предгорье. Выйдешь на следующий бугор – видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.
На «лбах» и «гривах» травы – коню по брюхо. Внизу – согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет… Но ведь… что же? Тут сам не поймешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо – торопился, не глядел.
А выйдешь на свет – и уж жалко своей же грусти, кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и – нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться.
Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.
Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность – жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.
Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.
Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть.
Он ходил, ездил по этой дороге много – всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане – он издох под хозяином.
Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов, Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.
И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом – долго. Коровы тем временем зашли на клевер… Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: «Спасайте, они клевера обожрались!» Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем… Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.
Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.
Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал. Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу.
Нет милее работы – косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!
Сочно, просвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея… И потекла в траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне – упал. И прямо задницей на нее, на змею. Неделю потом поносило («гвоздем летело»).
Память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот, змеи… Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею – сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки – много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало – белое, мелкое и много. Ребятишки орали: «Видишь! Вон они!» Все видели ножки.
До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.
– Слава богу! – сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.
Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь, поесть.
В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жаворонки-сверлышки.
Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал, вот – хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». А когда нам хорошо, мы не думаем: «А где-то кому-то плохо». Хорошо нам, и все.
Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый… Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпичной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.
«Как живые», – подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.
– Доброго здоровья, – приветствовал старик в шляпе. – Увидел – человек, присел отдохнуть. Возражений нет?
– Чево ж? – сказал Анисим. – Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.
– Жарко, да. – Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. – Жарковато.
«В добрых штанах-то… зеленые будут», – подумал Анисим.
– Хошь, садись со мной? – пригласил он.
– Спасибо, я поел недавно. – Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало. – Косишь?
– Надо. Нездешний, видно?
– Здешний.
Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.
– Не похож?
– Пошто? Теперь всякие бывают. – Анисим захрумкал огурцом… И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. «Хочет, наверно».
– Подсаживайся, – еще раз сказал он.
– Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.
– Да хватит тут!
Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.
– У тебя газеты нету? – спросил Анисим.
– Зачем? – удивился гость.
– Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.
– А-а… Да шут с ними. Ах, огурцы!..
– Што?
– Объеденье!
– Здешний, говоришь… Откуда?
– Тут, близко…
Не верилось Анисиму, что гость из этих мест – не похоже действительно.
– Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.
– А-а. Погостить?
– Побывать надо на родине… Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?
– Лебяжье. Вот по этой дороге…
– Один со старухой живешь?
– Ага.
– Дети-то есть?
– Есть. Трое. Да двоих на войне убило.
– Где эти трое-то? В городе?
– Один в городе, Колька. А девахи замужем… Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая – та подальше. – Не сказал, что другая замужем не за русским. – Была Нинка-то по весне… Ребятишки большие уж.
– А Колька-то в каком городе?
– Да он – и в городе, и не в городе: работа у ево какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищут.
– А какой город-то?
– В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает… Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.
Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.
– Спасибо. Хорошо поел.
– Не за што.
– Косить пойдешь?
– Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.
– Колька-то с какого года? – спросил еще гость.
– С двадцатого. – Тут только Анисим подумал: «А чего это он выспрашивает-то все?» Посмотрел на гостя.
Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.
– Вот так, земляк, – сказал.
«Чудной какой-то, – подумал Анисим. – Старый – чудить-то».
– Здоровьем-то как? – все пытал городской.
– Бог милует пока… Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.
– Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры…
– Нет, давно уж…
– Умерли?
– Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.
– Погиб?
– Знамо. Пошто с войны не приходят?
Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка – ни малого дуновения – не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.
По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно… Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.
– Вот и прожили мы свою жизнь, – негромко сказал городской старик.
Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался, – с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою так-то». Ласково.
– Не грустно, земляк?
– Грусти не грусти – што толку?
– Што-то должно помогать человеку в такое время?
– У тебя болит, што ль, чего?
– Душа. Немного. Жалко… не нажился, не устал. Не готов, так сказать.
– Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.
– Есть же самоубийцы…
– Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри не жилец. Пристал.
– И не додумал чего-то… А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал. – Городской помолчал. – Жалко покоя вот этого… Суетился много. Но место надо уступать. А?
– Надо. Хэх!.. Надо.
– А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? – Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем – в смехе. – Чтоб так и осталось все. А?
– Надоест, поди.
– Да вот все никак не надоест!
– А ты зараньше не думай про ее – не будешь страшиться. А придет – ну придет… Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.
– Да…
– Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь – тоже плохо. Расстройство одно.
– Вспоминаешь?
– Но.
– Это хорошо.
– Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?
– Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?
– Больше – детство.
– Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?
– Брат у меня был, Гринька, – тот прокуда был. – Анисим улыбнулся, вспомнив. – Откуда чего бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил…
– Что же он вытворял? – живо заинтересовался городской старик. – Расскажи-ка… Пожалуйста, пока отдыхаешь.
– Хэх!.. – Анисим покачал головой, долго молчал. – Шельма был… Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево – куснешь, зеленый – в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий – свинью тогда как раз резали, – растер ево в золе… Знаешь, как пузыри-то делают?
– Знаю.
– Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшенную… – Анисим засмеялся. – Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот… Утром Егор открыл дверь-то – на улицу выходит, – а ему прям в лицо харя-то эта глянула… Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу орать: «Караул! У меня черт на крыльце!»
Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся…
– Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..
– Да, так Егора потом и звали: «Егорка, черт на крыльце». А раз – мы уж побольше были – на покосе тоже… Миколай Рогодин – хитрый был мужик, охотник до чужого – и говорит вечером: «Гринька, – говорит, – подседлай какого-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота». Гринька, недолго думая, подседлал коня – и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же… Ну и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: «Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих». – Оба старика от души посмеялись. Городской закурил. – Поматерился же он потом!.. А што сделаешь – сам послал.
– Да… – Городской старик вытер глаза. Задумался.
Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.
– Ну, пойду с богом… – сказал Анисим. – Маленько вроде схлынуло.
– Жарко еще…
– Ничево.
– Корову-то обязательно надо держать?
– Как же?
Анисим взял литовку, подернул ее бруском. Поглядел на ряды кошенины – неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него… Внимательно. Грустно.
– Ну, пойду, – еще раз сказал Анисим.
– Ну, давай, – сказал городской. – Ну и… прощай. – Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом.
Старик косил допоздна.
Потом пошел домой.
Дома старуха с нетерпением – видно было – ждала его.
– К нам какой-то человек приезжал!.. – сказала она, едва старик показался в воротчиках. – На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?
Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой…
– В шляпе? Старый такой…
– В шляпе. В кустюме такой… Как учитель.
Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только… неужели же?!
– Не Гринька ли был-то? Ты ничево не заметила?
– Господь с тобой! С ума спятил. С тово света, што ли?
С бабой лучше не говорить про всякие догадки души – не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова – верит; старой скажи попробуй про самую свою нечаянную думу – сам моментально дураком станешь.
– Уехал он?
– Уехал. Этто после обеда пошла…
«Неужто Гринька? Неужто он был?»
Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий.
Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был… «Неужто Гринька?»
Через неделю старикам пришла телеграмма:
«Квасову Анисиму Степановичу.
Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова».
Брат был, Гринька.
Из детских лет Ивана Попова*
Первое знакомство с городом
Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.
Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца – добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло – чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, – я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» – курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел… Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами… Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.
– Ну? – сказал он.
– Курил… – хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму… Может, они бы поругались, и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой – бьет детей.
– Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька… Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери…
Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком – мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку…
– Папка, не надо, не ходи!
– Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, – не пойду к матери.
– Не буду. Истинный мой бог, не буду.
– Ну смотри.
…И вот едем в город – переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.
Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то, мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно… Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху из жаркой синевы льются витые серебряные ниточки… Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер – зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.
Мы останавливаемся покормиться.
Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок – варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:
– Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.
Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум… Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины… Не заводиться с превеликим трудом – так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставить, – бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство – обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой»! Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.
– Ну, все?
– Все вроде…
– Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!
Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, – в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку – по пояс… Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…
Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы – попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности, и вот надо же – поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже… Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы… Вот этими курсами-то он се и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую – хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.
…Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц… Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный… Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно – верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил… Наверно, чтоб подбодрить нас.
По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.
– Господи, да когда же приедем-то? – не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!
– Скоро, скоро, – бодрится папка. – Еще свернем на одну улицу, потом в переулок – и дома.
Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.
Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.
– Здесь. Счас скажу, что приехали…
– Скорей там, – велит мама.
– Да скоро! Скажу только…
В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале – хоть бы хны.
– Мам, мы тут жить станем?
– Тут, доченька… Заехали!
– Уговори ты его назад, домой, – советую я.
– Да теперь уж… Вот дура-то я, дура!
Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.
Наконец появился папка… С ним какой-то мужик.
– Здравствуйте, – не очень приветливо говорит мужик. – Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?
– Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.
– Ну, заезжайте.
Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка… с самолетом. Я прирос к сундуку.
– Хочешь подержать? – спросил парнишка.
Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди… Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.
– Ты изломаешь.
Таля захныкала и все тянулась к самолету – тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:
– Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! – мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.
Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:
– Иди спать, Славка, не путайся под ногами.
Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то – с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки – светлая паутинка. Я даже вскрикнул:
– Гляньте-ка!..
– Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори – не дома.
Тут вступилась мама:
– Парнишке теперь и слова нельзя сказать?
– Да говори он, сколько влезет, – потихоньку. Чего заполошничать-то?
Они еще поговорили в таком духе – частенько так разговаривали.
– Завез, да еще недовольный…
– Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.
– Ну и не одергивай каждый раз парнишку!
– Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь…
А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу – лягалась… Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.
Мы легли спать.
Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице – группами – молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:
– Ванька, какое самое длинное слово на свете?
Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:
– Не знаю, деда.
– А-а!.. – и начинает: – Интре… интренацал… – и потом только одолевает: – Ин-тер-на-ци-о-нал!
Мы покатываемся со смеху – мама, я и Таля.
– Эх вы!.. Смешно? – обижается дедушка. – Ну, валяйте, смейтесь.
Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка… Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.
Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:
– Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.
Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет – они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова – бор, – это страшновато. Да и что там, в бору-то? – грузди только.
Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали… Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату – посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь… и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут – сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.
– Ой! – сказала она. – Дай-ка мне.
– Всю, что ли?
– Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?
– Дали. Славка дал.
Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь… Услышали:
– Уже пакости́ть начали? – с порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. – Зачем ты взял сайку?
И – вот истинный бог, не вру – я сказал:
– Я думал, она чужая.
– Чужая… Нехорошо так делать. Это – воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью…
Что-то я вконец растерялся… Вдруг спросил:
– Горошину-то вытащили?
– О какой! – удивилась хозяйка. – Хитрит еще, – и ушла.
Мне стало совсем невмоготу.
– Пойдем домой? – предложил я Тале.
– Счас, давай только доедим, – легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а – сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.
Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.
Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо – вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка… Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:
– Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?
– А зачем? – спросил дяденька.
– Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает, – раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю… И показал:
– Вот так прямо – до перекрестка, потом улица налево пойдет – по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.
От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.
Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала – хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние…
– Таленька!.. Доченька ты моя-а!..
Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.
Скоро началась война. Мы вернулись в деревню…
Папку взяли на войну.
В 1942 году его убили.








