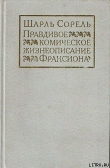Текст книги "Час шестый"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Каэр открыл скрипучую дверь дощатого тамбура и ушел. Лузин почувствовал душевное облегчение.
– Кто такой? – спросил Степан Иванович у бухгалтера.
– Бывший артист и поэт, – ответил бухгалтер. – А наш валаамец-то ведь тоже поэт. Вон какие стихи печатает в «Перековке». Хоть не под своей фамилией, а складные. Не говори, Степан Иванович, никому, что это он.
– А я и не знаю, кто это «он»! – засмеялся Лузин и вдруг затих. – И «Перековку» я пока не читал…
Бухгалтер назвал фамилию ушедшего. Но таких артистов Лузин не слыхивал до сегодняшнего дня, вернее, уже вечера. Пора было опять добираться на чем-то на мехбазу за колесами для новых «тачанок», как называли заключенные деревянные тачки.
* * *
Как это ни странно, Степан Иванович Лузин любил, когда пели блатные и воры. Никак не мог он понять, почему бандиты могут так самозабвенно, красиво петь?
Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что пригорюнилась, девица красная,
Очи блеснули слезой?
Запевал иногда и сам старнадз Буня, если присутствовал. Сегодня запел, и довольно приятно, пожилой вор с русалкою на белом плече. Песню поддержал другой картежник с золотой фиксой во рту:
Жаль мне покинуть тебя, черноокую!
Певенъ ударил крылом,
Вот уже полночь, дай чару глубокую,
Вспень поскорее вином!
Блатные один за другим пристраиваются к первым двум, успевая глядеть в карты и считать очки. Песня набиралась силы и стройности, широко раздвигая стены барака:
Время! Веди мне коня ты любимого,
Крепче держи под уздцы!
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.
Есть для тебя у них кофточка шитая,
Шубка на лисьем меху!
Будешь ходить вся как златом облитая,
Спать на лебяжьем пуху!
Снова за душу твою одинокую
Много я душ загублю!
Я ль виноват, что тебя, черноокую,
Больше, чем жизнь, я люблю!
Блатные певцы и воровские картежники не обращают внимания на приглушенный голос Ипполита в другом барачном углу. Около валаамского послушника совсем иная и малочисленная публика.
«… Волею провидения враг рода человеческого без устали искушал племена и народы возможностью быстрого построения Светлого царства на грешной нашей Земле. А Земля год за годом тысячи лет все так же летела вокруг солнышка. Необъятный ослепительный сгусток огня, то есть тепла и света, а может, и еще чего-то необходимого для людей, грел планету то с одного бока, то с другого. Купались в его животворных лучах то «священные камни Европы», то индийские пагоды… – Вероятно, валаамский послушник еще в Петербургской гимназии готовился стать поэтом. Почему же он вдруг захотел в монастырь? – А клевреты лжеца то и дело подзуживали сильных мира, чтобы они натравливали нации друг на друга, поджигали большие и малые войны, чтобы народы губили, уничтожали взаимно друг друга, чтобы и внутри государств ни дня не стояли без дела эшафоты, гильотины и виселицы. Неужто во всем этом и был смысл мировой истории? Молчали камни и храмы, пока не родился Христос, посланник Бога… Земля облетела с тех пор вокруг солнца без малого две тысячи раз. Войны, революции и страдания людские летали вокруг солнца вместе с нею. Несмотря на то, что солнце-то должно было быть в каждом человеческом сердце, как учил Богочеловек. Но люди распяли Христа на кресте. Вознесенный на небо, он оставил на земле своих апостолов, и Дух-утешитель долго поддерживал в них огонь пламенной веры в Бога-отца. Но враг человеческий сумел разделить церковь надвое, на католическую западную и восточную православную. Апостол Христа Иоанн, великий затворник острова Патмос, предсказывал такое деление и ослабу веры Христовой. Скрижали его главной книги, называемой «Апокалипсисом», не вразумили Запад и не примирили его с Востоком. Католицизм в наказание Господне почал делиться на множество вер, которые дружно двинулись противу православия и его хранительницы России – Родины нашей. Почему Русь оказалась такой многострадальной? Да потому, что русские люди ослабили веру в Христа, они очень сильно грешили, и Господь много раз лишал их своей благодати. Стоило русским на время оставить древнее благочестие, как сатана сразу напускал многие беды на православный народ».
– Выходит, у сатаны-то, как у Бога, имелись свои апостолы?
Ипполит согласно закивал слушателю.
«Да, да! Не буду упоминать вам о потере веры нашей в древних веках, скажу лишь о нынешних. В наказание за наши грехи Господь напустил на Россию революцию и полчища бесов… Читайте святителя Игнатия, как готовилось бесовское нашествие на матушку Русь. Читайте…»
Примерно такими словами объяснял валаамский послушник свои религиозные взгляды «кулакам», ворам и каэрам. Растолковывал Ипполит обитателям барака суть православия, но никогда не рассказывал, почему он попал сюда и почему не боится ни старнадза Буни с его топором, ни начальника Когана с его револьвером. Рассказ валаамского насельника был грубо и неожиданно остановлен:
– Ты, монах в задрипанных штанах, кончай лекцию против вшивости! – возгласил Буня, с улицы распахнувший двери. Он гордо и нагло оглядывал все углы. За его спиной молча стоял чекист в форме.
– Ты кого, сука, привел? – тихо спросил пожилой вор. – Сколько у него на вороту красных мух? По одной или по две?
– Сколько надо! – вслух объявил Буня. – Пока по одной, если потребуется, придет, у которого по две.
– Одевайтесь! – приказал человек Ипполиту. – Быстро, быстро! Мне с тобой чухаться некогда…
– Вот и явился к нам бес от сатанинских апостолов, – сказал Ипполит и начал складывать свои жалкие монашеские вещички…
Барак молчал многозначительно и сурово.
XIV
Много перемен свершилось в России, пока Данило да Гаврило тянули общую соловецкую лямку! Кузнец навечно улегся на главном острове Белого моря. Пачина живым под дулами трехлинеек переплавили на не менее знаменитый Попов остров. Долго водили Данилу по «Невскому проспекту» этого острова. Болотный холод совсем было выстудил Данилово сердце. Каждую ночь готовился Пачин «откинуть копыта», как говорил Деменей Кусюмов – башкир, с коим вместе корчились на еловых нарах. Не успевали оба обсохнуть до утренней канители. Их обоих перевели на канал, и начали они усиленно напрягать гужи, чтобы выслужить полтора за один день на строительстве «канавы», как называли Беломор многие заключенные.
Здесь Данило Пачин узнал, что власть отменила округа и уезды, зато учредила какие-то районы.
Скачков остался на прежней должности, ему-то было все равно: уезд, округ или район. Микуленок пошел выше. Стал Николай Николаевич Микулин председателем райисполкома. Теперь они были почти на равных с секретарем райкома. Секретари слишком часто менялись. Менялось в России все и вся… Кабинетная жизнь отнюдь не стояла на одном «градусе», как выражался Данило Пачин, и каждая перемена в верхах тотчас отзывалась и на «канаве», и на жителях Ольховицы.
У прокуроров и следователей хлопот был полон рот, как говорил Скачков, ограда выше колокольни, как говорилось в народе.
– О чем задумался, детина? – хохотнул Скачков после того, как без стука вошел в предриковский кабинет и с чувством пожал руку Микулина. Уверенно сел он около главного предриковского стола, за коим Микулин проводил совещания. Столы стояли буквой «Т», как было принято в райкомах.
Скачков спросил у предрика, как правильно: «Никулин» или «Микулин»?
– Таскать, и так и так можно, это не имеет значенья!
Николай Николаевич продолжал маршировать по собственному кабинету. Он действительно сильно задумался и не знал, что делать. После очередного визита в райком председателю было над чем задуматься. Секретарь райкома сказал не очень-то приятную новость.
По сообщению райпрокурора, в народный суд поступило заявление от гражданки Мироновой, – проживающей в деревне Шибаниха. Она якобы требовала с Микулина алименты. Секретарь не посулил предрику повоздействовать на судью и прокуратуру. Он просто приказал немедленно исправить моральный облик, чтобы не допустить падения авторитета советского служащего. «Если дело дойдет до областного прокурора Головина, тебе не миновать оргвыводов…» – добавил он напоследок.
В дополнение к райкомовской головомойке дошли до предрика слухи, что Палашка Миронова снова беременна, и в Шибанихе будто бы опять думают на него, то есть на предрика. Мол, больше и некому. Нет, это уж слишком!
– Дак ты чего ходишь по кабинету как журавель по болоту? – опять спросил Скачков и хохотнул.
– Жил бы тихо, да от людей лихо, – ответил предрик.
– Каковы дела с ворошиловским жеребцом?
При таком вопросе Микулин воспрянул духом, заулыбался и сел.
– Таскать, жеребца Ворошилов берет! Он объявляет нам благодарность! Из Москвы бумага пришла. Надо припасать вагон и конюха, жеребца будем отправлять. На, почитай!
Пока Скачков читал бумагу с ворошиловской благодарностью, предрик снова поугрюмел и начал вышагивать.
– Дак это же хорошо! – оживился Скачков. – Прогремишь на весь Советский Союз! Бумагу-то подписал сам нарком!
– Сам-то сам…
– Тогда в чем дело?
Скачков не знал пока про Палашкино заявление, но опытным глазом следователя он давно заметил, что микулинское расстройство на личной почве. Следователь спросил, что в голове у предрика. В голове же у Микулина торчала одна загвоздка: Палашкина дочка. Вдруг и второго ему судом припишут. Опозорится он на всю область. Хотя ко второму Палашкиному заходу предрик не касался ни сном, ни духом. Кто успел? Неизвестно… Присудят вот алименты за чужого, и будешь всю жизнь платить. Но самое главное – оргвыводы за моральное разложение. Микулин только что собрался идти расписываться со скачковской секретаршей синеблузницей Любой. Было о чем думать!
Скачков расхохотался, когда выслушал предрика:
– Да, оказывается, дело не в жеребце, а в кобыле! Николай Николаевич, есть о чем тужить. Все в наших руках. Мы это дело уладим вмиг. Не тужи, дорогой.
– Как ты уладишь?
Они стали приятелями с того самого дня, когда Микулин подписал бумагу на Игнаху Сопронова. Сопронов отсидел свое и, несмотря на участившиеся припадки, опять пошел в гору. Он и привез весть о Палашкином брюхе, когда приезжал на совещание работников райсоюза. До этого его выбрали в председатели Ольховского сельпо, хотя метил Игнаха в сельсовет на место Веричева.
– Уладим мы это так, – посерьезнел Скачков. – Сегодня же поговорю с прокурором, скажу ему и про ворошиловскую благодарность. А дальше найдем свидетелей по месту жительства, чтобы подтвердили, что ты тут ни при чем. До суда доводить не рекомендую…
– Вся Шибаниха знает, что девка у нее моя. Не будут писать.
– Напишут, как миленькие! Завтра еду в Ольховицу, у меня там срочные дела с хохляцкими беженцами. Проверну заодно и твое дело.
Предрик сразу повеселел:
– А чего с хохлами?
– Помнишь Малодуба Антона? Мы, понимаешь, отпустили его на родину как человека. А он, видать, снюхался там с контриками! Съездил и приехал обратно. Теперь в Ольховицу, и такую пропаганду привез.
– Какую?
– Говорит, что на Украине народ с голоду пухнет, что кое-где жрут человечину. Ну, я ему покажу, где чего жрут! А ты с алиментами… Ишь, чего испугался.
– Испугаешься, коли до райкома дошло!
– Не боись, я тебе это дело усахарю. Поедешь со мной в Ольховицу?
– Нет, у меня сессия на носу, надо готовить доклад.
– Знаю, какая у тебя сессия, – подмигнул Скачков. – Мне кое-что моя секретарша говаривала… Да, а ты помнишь Ерохина?
Микулин снова насторожился.
– Как не помнить!
– Так вот! Был я на днях в Вологде. В Духовом на Ерохина требуют характеристику. А еще всучили всесоюзный запрос. Не могут найти твоего земляка… Гири… Горен… Курьером служил у Калинина.
Скачков нашарил в полевой сумке блокнот, вспоминая фамилию.
– Гирина, что ли? – подсказал Микулин.
– Вот, вот. Ты знаешь его?
– Дружки со Штырем были.
– Были да сплыли! Как бы тебе эта дружба боком не вышла. Приказано собрать на него все подробные данные. Допросить родню. Гляди в оба с этим Гириным! Так едешь со мной в Ольховицу или нет?
– Нет.
– После женитьбы напишешь мне бумагу насчет твоего Штыря! Сразу.
– Может, я и жениться не буду…
– Будешь, будешь! – снова хохотнул следователь и встал. – Любка—девка хорошая…
Микулин по уходе Скачкова вызвал Смирнова, нынешнего заведующего сельхозотделом, велел ему выехать в срочную командировку в Ольховицу:
– Зайдешь к Скачкову, с ним и уедешь утром. Он скажет, чем там заниматься. Самое главное, навались на последнюю единоличницу и на строительство скотного двора. Выясни, что и как… Вечером зайдешь ко мне на квартиру. Поговорим… На обратном пути требуется пригнать жеребца…
Фокичу ехать в такую даль никак не хотелось, но предрик есть предрик. И ворошиловская бумага веселила, обязывала и подгоняла не только одного Фокича. Она не на шутку взбудоражила весь райком и райисполком. Мигом дошло дело и до областного военкомата.
На другой день уполномоченные на микулинском тарантасе выехали из райцентра, только выехали не утром, а уже после обеда. Им пришлось ночевать на середине пути в том самом доме со въездом, где всегда останавливались шибановцы. Зато с ночлега Фокич со следователем выехали еще затемно. Проехали второй волок, стало светать. Пели петухи в деревнях, стук цепов доносился от многих гумен. Люди молотили рожь. В тех деревнях, где ежегодно праздновали день Успения Богородицы, уже сушили в овинах проросший солод. Радужная паутина плавала в воздухе. Роса изумрудами играла и переливалась, когда всходило солнце. Ритмичный бой цепов стихал на гумнах вместе с восходом.
Лошадью правил сам следователь. Тарантас кренился на крупных выбоинах, отдохнувшая лошадь бодро отфыркивалась.
Сидя на мешке с овсом, Фокич взял скачковскую папиросу, заметил:
– Товарищ Скачков, Николай Николаевич просил собрать кое-какие бумаги в Шибанихе…
– Скажу все на месте, погоди! Дай на природе очухаться… – И передал Фокичу вожжи. – Давай, правь государством! Харчей-то взял каких? У меня только хлеб да вареные яйца.
Из полевой сумки он вытащил две четвертинки, еду и миниатюрную эмалированную кружку. Фокич сразу повеселел, на ходу расстегнул свою полевую сумку и развязал свой узелок со снедью. Собственную четвертинку, спрятанную в овес, он побоялся показывать. Ее «оприходовали» лишь после двух скачковских, когда следователь запел:
Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
У последнего волока Смирнов минут пятнадцать кормил кобылу овсом. День за разговорами кончился, время уже шло к осени. Солнышко скрылось. Слепни исчезли, но последние летние комары в изобилии садились на лошадиную морду. Лошадь мотала толовой, отмахивалась хвостом, иногда останавливалась и била задней ногой по брюху. Когда Скачков с Фокичем добрались до первых деревень Ольховского сельсовета, совсем стемнело. Только на западе светилась лиловая полоса. Но и она быстро сникла, как бы растаяла в беспредельной сплошной темноте.
– Каллистрат Фокич, где ночевать будем? – спросил следователь.
– Я, товарищ Скачков, думаю, надо ехать к большому дому, раньше там жил бухгалтер маслоартели Шустов.
– А нынче?
– Теперь там живет предсельпо Сопронов Игнатий Павлович. Семья небольшая, места у него много.
– Нет, к Сопронову иди ты, а меня вези к Веричеву, – приказал следователь. – Ночевать врозь будем! У меня особые дела к сельсовету.
Фокич не стал перечить, хотя и рассчитывал на сопроновскую добавку. Спросил:
– Может, дернуть мне прямо в Шибаниху? Насчет жеребца-то вопрос там надо решать с колхозом. В «Пятилетке» теперь Евграф Миронов. Командует, говорят, очень надежно.
– Езжай! Дорогу знаешь… Жеребца примешь лично сам!
После четвертинок Скачков забыл о микулинском деле и спрыгнул с тарантаса около веричевской избы. Фокич напоминать не стал, постеснялся. У Веричева три передних окна светились довольно шибко. Наверное, горела десятилинейная лампа. Кажется, Веричев сам почуял приезд начальства и выскочил на крыльцо в темноту.
Дела к председателю Ольховского сельсовета были у Скачкова действительно важные. Во время поездки в Вологду Семен Руфимович Райберг приказал выявить биографию Гирина, о котором толковали с Микулиным. В блокноте Скачкова, хранившемся в полевой сумке, считавшемся таким же важным документом, как партбилет или удостоверение чекиста, было записано:
«1. Выяснить все, что касается Петра Гирина, урожденца деревни Шибанихи, а также и Павла Даниловича Рогова деревни Ольховицы. На обоих объявлен всесоюзный розыск. Возможно, что Рогов скрывается на территории Ольховицы или Шибанихи. Приметы. Русая окладистая борода. На одной ноге нету большого пальца. Рост средний.
2. Ликвидировать три последних единоличных хозяйства и хутора на территории Ольховского сельсовета.
3. Допросить про людоедство на Украине и арестовать украинского переселенца Малодуба Антона. Ездил на родину и вернулся обратно с контрреволюционными репликами.
4. Насчет элементов Ник. Ник.».
Слова «уроженец» и «алименты» следователь во всех своих бумагах писал так, как произносил в разговорах.
По поводу «элементов Ник. Ник.», помимо перегона ворошиловского жеребца и других важных дел, была поставлена задача и завсельхозотделом Каллистрату Фокичу Смирнову. Поставлена тайно от следователя. Фокич и без Скачкова знал, что ему делать: во-первых, надо было уговорить председателя колхоза «Первая пятилетка» Евграфа Миронова, чтобы он повлиял на свою дочь Пелагею и чтобы она отозвала из суда свое заявление. Во-вторых, если с отзывом не получится, собрать письменные свидетельства колхозников, где бы говорилось, что Микулин к новой беременности отношения не имеет…
«Дело сложное, – подстегивая лошадь, думал полупьяный Фокич. – Наберу ли таких свидетелей-то? Наберу! Скачков подсобит, ежели заупрямятся…»
Через час-полтора в непроглядной, но теплой ночи мелькнули первые шибановские огоньки. Деревня затихла еще не вся. Во многих домах горели керосиновые лампы. Молодяжка только что расходилась из церкви со своего игрища. Играла чья-то гармонь. В темноте какая-то девка звонко пропела:
Пятилетка, пятилетка,
Немолоченая рожь,
Из-за этой пятилеточки
В сыру землю уйдешь.
Гармонист играл худо: отвори да затвори. Захотелось и самому растянуть, но Фокич погасил такое несерьезное желание. Не раздумывая, направил он повозку к дому бывшего председателя Куземкина. Света в доме не было. Фокичу пришлось долго стучать в ворота. «Ходит, видно, по гулянкам!» – подумал уполномоченный, вспоминая, что Куземкин до сих пор холостяк. Наконец двери в избу скрипнули.
– Кого середь ночи леший принес? Кто ломится-то?
Фокич сказал, кто он такой.
– Дак дерни за веревочку-то! Ведь и ворота не заперты.
Старуха ушла обратно в избу. (Она была, видимо, в одной рубахе.) Фокич подергал за веревочку, ворота открылись, и он ступил в сени. В избе за переборкой тускло горела коптилка. Куземкина действительно дома не оказалось… Старуха в кути долго и, кажется, ворчливо звенела самоварной конфоркой, щепала лучину, ставила самовар. Фокич напрасно пытался разговорить родительницу бывшего председателя. Она лишь ругала Митьку и второго сына, обоих называл «пустоглазыми».
Фокич достал свой, как он называл, поминальник, в темноте записал пропетую девкой частушку и вышел на улицу. Он распряг лошадь, разнуздал. С помощью кузёмкинской бадьи напоил из колодца и привязал к тарантасу. После этого он насыпал в торбу овса и нацепил ее на кобылью голову.
Младший «пустоглазый» первым явился с гулянки. Он зажег семилинейную лампу, поздоровался с Фокичем за руку. Чай пили и ели пшеничный пирог с рыжиками вдвоем. Парень оказался не больно-то разговорчивым, сразу ушел спать на сено. Старуха улезла на печь.
… Митька пришел домой чуть ли не под утро. Фокич глубоко спал на широкой лавке под шубой. Под головой торчала единственная в доме пропахшая табаком пуховая подушка. Митька погасил увернутую лампу и на цыпочках подался на сенную поветь к братану. В Шибанихе пели вторые голосистые петухи.
В шестом часу, как раз в тот момент, когда отгорланили петухи и когда солнышко оторвалось от горизонта, в Шибанихе раздался резкий звонкий удар по металлу. Он отдаленно напоминал звон средней величины колокола. Но это звенел не колокол, а обычный плужный отвал, висевший на веревке, привязанной другим концом к нижней ветке березы. После первого удара на какое-то время утренняя тишина снова обволокла спящую деревню. И вдруг послышались удары частые, требовательные. Зуб от бороны лупил и лупил в руке Евграфа по звенящей стали плужного отвала.
Председатель колотил по отвалу до тех пор, пока не заблеяла и не поперхнулась от жадно схваченного травяного клочка первая выпущенная овца. Следом за овцой, подобно рыбацкой лодке, лениво и торжественно выплыла из климовского двора красно-пестрая корова. Тогда из ворот клюшинского подворья с куском пирога в зубах и выскочил Гуря-пастух. Поспешно ударил он в свою деревянную барабанку. В зубах пирожный кусок, в обеих руках сухие березовые колотавки. Гуря барабанил с куском пирога во рту. Евграф сунул железный зуб в березовое дупло и едва удержал смех внутри себя:
– Гляди, Гуря, не подавись! Ты прожуй, прожуй сперва…
Гуря перестал барабанить, сунул колотавки в холщовую, вроде бы школьную сумку и взял в руку недоеденный кусок пирога.
– Не подавлюсь я, не подавлюсь, в поскотине и доем пирог-то, больно скусной. Пшеничной, мяконькой. В поскотине и доем…
– Вот, вот, не торопись.
Евграфу не хотелось даже оглядываться на свое новое пристанище, на избенку, доставшуюся ему после тюрьмы. Недавно ворота избенки мазнули дегтем! Опять поставили метку!.. Второй уж раз… И за что только Господь наказывает? Летом Палагия опять с кем-то сгуляла. Бабенки-то все видят, что надо и что не надо. Народ бает, что сблудил Микуленок, когда была матросская сварьба. Ревит девка, а не говорит, с кем. Что толку, если и скажет? Будет все равно второй выблядок… Замуж не выйти. Стегал, стегал по заднице, изувечил бы в горячке, не заступись Марья, жена. Потатчица! Обе ревели в голос. Да ведь и самому жалко… Родная кровь…
Евграф угрюмо пошел в контору, вернее, в свою же зимовку. На воротах конторы все еще был заметен поставленный кем-то дегтярный крест. Чем только не смывала Палашка эти черные дегтярные знаки! И с дресвой-то шаркала, и с теплым щелоком… Скоблила и вострым лучевником, все зря. «Один выход, ворота навесить другие… – подумал Евграф. – Предрика бы и заставить… Пусть бы он, блядун, и навешивал. Подали на него в суд, ладно и сделали».
Так рассуждал председатель «Первой пятилетки» Евграф Миронов. Бабы, молотившие на гумне ржаные снопы, не ждали и первого звона, они давно скидали снопы на долонь роговского гумна и сейчас молотили. Дело там было надежное. Гуря погонил коров в поскотину, тоже дело надежное.
А что не надежное? У Евграфа болела душа за плотников, рубивших коровник для МТФ, то бишь для молочно-товарной фермы. Запланирована была и КТФ – коневодческая товарная, но какая она товарная? Ведь кобыл не доят. Только не Евграфу менять колхозные всякие названия.
Плотники раньше восьми не соберутся. Правда, бригадиром у них поставлен Ванюха Нечаев, этот курить по часу и лясы точить не даст. Ежели размашутся, то и на обед не остановить.
Другое важное дело было у Евграфа насчет медведя… Еще не сошли коросты на клюшинской телушке, а зверюга до смерти задрал зыринскую. От этой остались в поскотине, считай, рожки да ножки. Вот почему на завтрашний день Евграф всем миром наметил поход в поскотину, чтобы выгнать зверя подальше в лес. Володя Зырин сходит даже за ружьем в Ольховицу к Митьке Усову. Заодно и волка турнуть, если завелся.
На лавочке около конторы сидели Киндя и Савватей Климов. Судейкин курил цигарку, а Савва ругал его за это:
– И чего ты, Киндя, эдак небо коптишь? Дым да сажа! То ли дело, когда понюхаешь да чихнешь.
– Больно сопель много от твоего нюханья. Я соплюном сроду не был.
Евграф не стал отпирать ворота с дегтярным крестом и пристроился около двух рановставов.
– Ты, Анфимович, слыхал ли новость? – заговорил Климов. – Митькина матка сказывала, за жеребцом вечор приехал нарочный, который, бывало, плясал у Кеши еще в старой избе.
– Пускай хоть сейчас обратывает.
– Нет, сейчас-то он пока спит. Чур меня, чур, пробудилися! Оба с Митькой… Идут!
Подоспевшие Фокич с Куземкиным за руку поздоровались со всеми подряд. Евграф отпер замок на воротах, пропустил уполномоченного в контору. Мужики не посмели заходить в помещение, и сам председатель побыл там всего ничего. Выскочил, как из угарной бани:
– Скажи, Савватей, счетоводу-то, как проспится, чтобы сразу запряг уполномоченную кобылу в тарантас! Пусть перегонит ее в Ольховицу и тамотка сдаст следователю! Лыткина направь к здешнему, ежели увидишь… А ты, Акиндин Ливодорович, пойдем-ко со мной.
– Куда ты меня повел?
– Не я тебя, а ты меня! Пока Смирнов полномоченный баб вызывает, веди к жеребенку. Поглядим, можно ли его посылать Ворошилову…
– Пойдем! Для Ворошилова я не жеребца, а и свою коровенку отдам. Опять, паскуда, не обгулялась! Не знаю, чево с ней и делать…
Председатель и Киндя Судейкин отправились глядеть жеребца. За ними увязался рано поднявшийся Алешка Пачин. Вчера они с Серегой Роговым боронили зябь и Алешка потерял зуб от бороны «зигзаг». Этот зигзаг и во сне всю ночь мучил Алешку. Вера Ивановна не знала, чем подсобить. Сама ходила искать, да разве найдешь? На дороге нет. Он, может, отвинтился в земле, когда боронили полосы. Ищи – свищи! Председатель посылал Алешку искать второй раз и заявил: «Пока не найдешь, в деревню не приходи!»
Алешка Пачин, неразлучный с Серегой, искал зуб дотемна, а сегодня ходил по пятам Евграфа. Ходил и канючил:
– Божат, мы не наши! Божатко, нам удить идти! Я больше не буду зубья терять! Я не виноват, что он был худо привинчен…
– Кыш! Пусть Серега без тебя на омут идет. А ты ищи зуб! Где потерял, там и ищи!
– Пусти ты их, Анфимович, на слободу-то, – вступился за ребят Киндя. – Явен грех малу вину творит. У меня в подвале вроде есть какой-то зуб. Я тебе принесу!
– Божатко, отпусти рыбу удить… – хныкал ободренный Киндей Алешка.
Председатель смягчился, когда подошли к березе с плужным отвалом:
– Ладно, дам вам зуб взаймы! Идите на реку оба. – Евграф отзвонил на отвале вторую побудку старым, без гайки, зубом и не стал класть железяку в березовое дупло. Подал ее Алешке. – Снеси покамест домой! Потом привинтим. Бегите удить!
Ребятишки схватили зуб и нечередом понеслись в баню за удами.
– Вишь, мужики будут, добытчики! А мои девки спят. И женка только что печь затапливает. Ты, Анфимович, постой тут, я скоро…
Киндя Судейкин ушел в дом, изнутри открыл двор с Уркагановым стойлом. Жеребец, привязанный к железному крюку, сдержанно заржал, заперетаптывался.
– Стой, стой по-людски! Не пляши. – Киндя бросил в ясли охапку завядшего клевера и разнуздал жеребца. – Как бы язык не куснул… А что, Евграф Анфимович, за жеребенка-то колхозу дадут? Ведь он нам и самим нужон! Посулил Ворошилов чего или шиш с маслом? Может, медаль, а то целый трактор пришел из Москвы-то. Тамо железа-то много.
Евграф подумал про «шиш с маслом» и промолчал. Он все еще дивился, откуда появилось такое жеребячье имечко – Уркаган и кто виноват, что жеребца вытребовали в Москву. Микуленок, что ли? Гордость за родную деревню Шибаниху пересилила в душе Евграфа все остальные чувства.
Судьба жеребца решалась еще до Евграфа при Митьке Куземкине. Когда ожеребилась новожиловская кобыла, никто не думал, как бы назвать жеребенка. Теперь на всех взрослых лошадей в колхозе были заведены паспорта. Нарком Ворошилов приказал поставить на учет каждую лошадь. Из района приезжала спецкомиссия. Всех коней осматривали как новобранцев, мерили рост по холке, проверяли зубы, отмечали болячки, клички и выписывали на каждую паспорт. Потому Куземкин долго и думал, как назвать жеребчика от новожиловской лошади. Где он слыхал это слово: уркаган? Бог весть! Кличку надо было давать по первой букве материнского имени, но на ту букву ничего Митьке не подвернулось. «Давай, записывай по отцу! – приказал председатель конюху Савватею Климову. – Отец Ундер, пусть и этот будет на букву «у»!»
Так появился в Шибанихе жеребец по имени Уркаган. Будучи завсельхозотделом, Микулин вздумал подарить шибановского жеребца Красной Армии. Пришла ему в голову такая мысль во сне, нежданно-негаданно. Куземкин в «Первой пятилетке» тоже недолго думал. Письмо из района ушло в Москву, хотя вначале никто не рассчитывал на то, что оно дойдет до наркома. Все, в том числе и сам предрик Микулин, забыли про ту бумагу. Вдруг приходит ответ из Москвы, да еще от самого Ворошилова!
Пускать Уркагана в поскотину со всеми лошадьми стало уже нельзя, приходилось держать отдельно. А где? Только двор в доме Кинди Судейкина был приспособлен для такого верзилы, как Уркаган. И Киндя вспомнил былые дни, когда он ходил за Ундером. Судейкину установили за уход пятнадцать трудодней в месяц. Савватею Климову, конюху, Зырин вписывал в книжку и за всех лошадей двадцать трудодней в месяц, а Кинде за одного жеребца полтрудодня в сутки. Но Савватей сам отказался от Уркагана, а Киндя сумел его даже объездить…
– Вот так имечко дали! – сказал Евграф Кинде, когда после тюрьмы заходил к Судейкину и глядел на жеребца в первый раз. – Ты, Акиндин, хоть знаешь ли, что такая кличка значит?
– Знаю! – сказал тогда Киндя. – Уркаган – это когда буря и наводненье.
– Когда буря – это называется ураган, – поправил Евграф. – А уркаган значит начальник шпаны.
– Вот оно что! Разве у шпаны бывают начальники?
– Бывают… – вздохнул Евграф. – У всех бывают.
На том тогда и остановились, пока не выбрали Миронова в председатели. Евграфу в ту пору было не до колхоза, одна у него была дума, где ночевать со всем бабьим семейством. Нынче Евграф сам стал начальником, а за жеребцом приехал уполномоченный Фокич. И стало Евграфу жалко отдавать жеребца в чужие руки. Такого красавца… Куда его погонят, сердешного, неужто опять будет война?
На Уркагане был отцовский, то бишь ундеровский, недоуздок с двумя железными кольцами. Сквозь кольца продернут Киндей толстый канат, пропущенный в большое кольцо в стене. Киндя один выводил жеребца на улицу. Правда, объезжали Уркагана втроем с Володей Зыриным и Ванюхой Нечаевым. Порвал жеребец шлею и вдребезги распазгал копытами две или три телеги… Лягался, лягался да и успокоился после соленой хлебной горбушки. Пошел в упряжке спокойно, сперва в галоп, потом и рысью.
Жеребец легонько заржал, когда Киндя совсем распахнул ворота. Судейкин по внутренней навозной лесенке сходил в избу и подал жеребцу горбушку хлеба:
– Вот на-ко, поешь… В Москве не дадут.
– Пошто не дадут? – спросил председатель. – Может, и дадут.