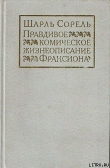Текст книги "Час шестый"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Розовый шар солнца краснел в просветах медностволых сосен, подымаясь все выше, розовый этот шар становился все меньше, превращаясь в золотой ослепительный сгусток.
Глухариная песня широко и звучно прошила лесную заповедную тишину, и глухарь замер. К нему снова вернулся слух, но никто не отозвался на его призыв, никто не прилетел на ток, хлопая крыльями. Только пробудился в избушке дедко Никита Иванович, спавший около каменки на сосновом полу. Он осторожно, чтобы не скрипнуть, открыл дверцу и сходил до ветру. Затем вернулся в избушку и на коленях прочитал свое обычное утреннее правило с четырьмя молитвами святого Макария.
«Господи, – шептал Никита Иванович, чтобы не разбудить бредившего во сне Павла. – Господи, иже многою твоею благостью и великими щедротами твоими дал еси мне, рабу твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякого зла противна. Ты сам Владыко, всяческих творче, сподоби меня истинным твоим светом и просвещенным сердцем творити волю твою ныне и присно и во веки веков…»
Никита Иванович вздохнул и добавил:
– Аминь.
Молитвы Богородице и ангелу-хранителю он произнес уже мысленно, то есть без голоса, укоряя себя за отступничество, ведь обычно он произносил молитвы в полный голос.
Павел спал неспокойно: какие-то бесы корежили мужика во сне. Бормотал Павел что-то бессвязное: «Хэва, хэва, дай нямю, евей, Трифон…» Комары успели проникнуть в избушку. Дед Никита накинул на голые ноги зятя запасную сатиновую рубаху и осторожно вылез на волю. Глухариная песнь опять пролетела над лесами торжественным неповторимым таежным псалмом. Дедко отошел от жилья подальше, саженей на сорок, прямо в золотое морошковое болото. И сам запел первый псалом… Он хорошо его помнил, а сегодня сбился… Поперхнулся дедко на первых словах и затих, словно глухарь.
Приближался или прошел день Петра и Павла, пивной праздник, и какая шла неделя по Пятидесятнице, дедко не знал. Он сбился со счета дней, живя на болоте, не ведал, что читают в храмах на этой неделе. Сейчас вот и слова псалма подзабыл… Солнце поднималось за лесом. Теплом и светом начинался новый день. Глухарь, как будто смущенный, пристыженный похотью, смолк до вечерней зари…
Кругом желтели золотые морошковые россыпи подобно звездам небесным. Голубела местами не по дням, а по часам вызревающая черника. Со мхов столбами поднимались душистые воспарения. И такие столбы света и солнца падали с неба навстречу! Они-то и рождали какой-то поистине райский воздух. Дедко не знал, что этот райский запах рождался при встрече земных и небесных потоков и отнюдь не на каждом месте, а лишь на каком-то избранном самим Господом… Не ведал он, что аромат этот ученые люди зовут озоном. Озоновые дуновения, летевшие сверху, он считал райским дыханием. Болото с таким обилием ягод и впрямь было для Никиты Ивановича райским образом, светлым прибежищем!
Старик не торопясь начал собирать морошковое тальё. Слишком спелые, исходящие соком медовые ягоды он отправлял в беззубый рот и давил языком, а те, что потверже, кидал в корзину. Они доспеют за день-два и станут такими же медовыми, а вот черники было все еще мало. Дедку как раз черникой и хотелось побаловать Павла, словно с неба свалившегося к нему на болото…
«Убежал с Печоры-то… Что будет с ним? Пусть спит, совсем измаялся… – думал Никита Иванович. – А чем питаться станем? Нету ни хлеба, ни чаю-сахару, оставалась одна соль в мешочке…»
Павел проснулся и уже вылез на волю. Он стоял у порога и жадно вдыхал озоновый воздух, полосой прошедший над берестяной крышей с ее тесаным восьмиконечным крестом.
– А что, дедушко, топор-то каков у тебя? – спросил он подошедшего ближе дедка.
– Топор-то у меня добёр, твой ишшо, да точила нету… Без топора в сузёме и делать нечего… А ты спал бы да спал, рано ведь… Бредил всю ночь, хэва, хэва, кричит, не поймешь, как цыган.
– Хэва – это костный мозг… – усмехнулся Павел, – Мыд – значит оленья либо медвежья печень… А оленью кровь ненцы пьют целыми чашками, еще теплую.
– Кровопивцы! – Дедко перекрестился.
– Да нет, дедушко, хороший народ. Вина только больно много пьют, ежели есть… А так золотой народ. Кабы не оне, сгинул бы я… Зыряна-то те похитрее…
– Кого дома-то видел?
– Одного Серегу… Да еще… – Павел осекся, словно бы поперхнулся. Горечь, затихшая за ночь, снова копилась в душе. «Нет, не скажет он дедку ни слова про Веру Ивановну и про Акима Дымова, ведшего ее под руку! Чего дедка-то впутывать? Не скажет…»
– Васька, брат, в деревне, жениться приехал! Евграф Миронов из тюрьмы выпущен…
– Да ну? Неужто? – обрадовался дедко. – Как уж это его отпустили? А у Василья-то чево, сварьба была?
– Мне-то к народу показываться нельзя. Сразу и загребут. Никого не видал, кроме Сереги. А тот сказывал, что Оксинья с Олешкой бродят по миру… Накормил меня Серега печеной картошкой… Достать бы мне сапоги, хоть неражие! Я бы… Ох, дедушко…
И плечи Павла Рогова, как вчера, затрясло от судорожных рыданий. Он сидел на еловой чурке около порога, слезы текли за ворот давно сопревшей солдатской гимнастерки, подаренной еще Гришкой-хохлом два года назад.
Дедко не останавливал Павла и подумал: «Пусть выплачется. Настрадался мужик». Когда Павел усилием воли остановил тряску, дедко промолвил тихо:
– Ну, а про отца-то? Про Данила-то Семеновича не слыхал ли чево?
Либо про моего Ваньку…
Павел вдавил в мох пятку своей четырехпалой босой ноги… В проколотой пятке начинался жар. Дедко подал ему корзину с морошкой и полез в дверцу, чтобы затопить каменку. Запах горящей бересты слегка успокоил обоих. Павел долго рассказывал дедку про свои приключения: как ехал с Тришкой по морю, как пас с ним оленей. Вспомнил и сам кое-что, потому что многое стало уже забываться. И то, как ушел от Трифона в зырянскую деревню, и то, как напросился косить у справного мужика-зырянина. Подряжался на три дня, а остался на все лето. Выручила сперва баня, потом толчея, которую без запруды построил на быстрой речке. Колесо крутилось от низовой воды. Она двумя пестами толкла овес, истолкла заодно и отчаянную тоску Павла Рогова… В деревне имелась трехклассная школа. Молодой учитель Михаил Степанович, тоже зырянин, показал Павлу физическую карту со всеми реками, подсобил составить маршрут… Павел изучил все реки, включая притоки Печоры и Сухоны, по этим рекам и речкам он медленно продвигался на юг, ночуя в русских селениях. У истоков Печоры ему пришлось временно повернуть на восток. Через тысячу лесных волоков, воруя у редких жителей репу и брюкву, иногда и прося милостыню, он добрался до Уральских предгорий. Он зимовал в трех или четырех лесных поселках. То подряжался рубить дрова, то на хозяйских харчах, на хозяйском топоре, пиле и точиле ставил избяной сруб. Хозяева документов не спрашивали… Топор в руках Павла был самым надежным паспортом. Бог спасал его на милицейских и комиссарских постах. Наедине Павел даже пел иногда «По диким степям». Молиться Данило не приучил. Не однажды приходилось прятаться на деревенских задворках, ночевать в пустых гумнах, в полевых стогах, пока добрался до железной дороги. И вот уже на своей станции остался он без сапог, едва не попал в милицию. Шел в Шибаниху босиком, хорошо, что ночи Петровым постом были светлые…
Дедко, слушая этот рассказ, согласно кивал бородой да поддакивал. Дивился и охал, прицокивал языком… А когда Павел намекнул на измену Веры Ивановны, Никита Иванович произнес твердо:
– Нет, наша Верка не той породы. – И у Павла взыграло сердце… Дедко добавил: – Иди в деревню-то… Как только заживут ноги, так и иди. Принесешь хоть картошки. Да спичек-то не забудь. А сапоги попроси взаймы… у Еграши…
– Нельзя, дедушко, мне к нему показываться!
– Дак товды не надо было и Печору кидать! – повысил голос Никита Иванович. Но тут же смягчился и добавил: – Чево ты думал-то? Ждал, что в Шибанихе тебя встретят хлебом-солью? Про Игнашку с Митькой ты, видно, совсем забыл.
– Не забывал я про них! Думал, как-нибудь… увижу своих и уеду ближе к Уралу. Семейство вытребую…
– То-то и оно, что думаем-то задницей, а не головой.
Дедко достал из-под крыши комок еловой смолы, разорвал рукав своей старой рубахи и подал Павлу:
– На-ко вот, к ноге привяжи… Заживет скоряя… Ежели загноится, смола и жар вытянет.
Павел начал перевязывать проколотые подошвы ног… Он прикидывал, что ему делать дальше. Можно ли хоть день-два прожить на дедковых скудных харчах? Как достать сапоги и при этом никому не попасть на глаза?
IX
Тоня пешком провожала мужа до Ольховицы. За самоваром у Славушка распили на скорую руку поллитра «рыковки». Сидел матрос у распахнутого окошка, вдыхал запах лугов и сквозь слезную поволоку косил взглядом на тесовую крышу отцовского дома. Тесины, прокаленные солнышком, источали марево. По ним бежали струи летнего зноя. По цвету крыша была похожа на серый борт корабля. Скулы твердели, когда Славушко рассказывал о смерти матери. Ясно, четко вспомнился матросу один детский случай. Дело было еще до школы. Забрался однажды через хлев на крышу дома и заплакал, не зная, как слезть обратно. Сухая от зноя крыша оказалась скользкой, холщовые штаны не держали мальчишку. Он съехал до средины, едва удержался, чтобы не сползти дальше. До самых поточных куриц было совсем близко. Он знал, что значит грохнуться с высокой крыши отцовских хором. Сидел Васька в слезах, крепился, наконец взревел от животного страха. Отец издалека услышал рев. Прибежал из сенокосного поля. Лестницу искать было некогда. Первым делом Данило снизу успокоил Ваську, велел не реветь. Вторым делом приказал плевать на ладошки и по очереди мазать слюной голые пятки, что и остановило дальнейшее сползание. Так мальчишка и плевал, мочил слюной и слезами подошвы ног, чтобы усидеть, не сползти и не грохнуться, пока отец не приволок и не поставил самую длинную в Ольховице лестницу. Данило и сам боялся и все приговаривал снизу: «Сиди, батюшко, сиди! Только не шевелись, сиди да плюй на пятки!»
Это отцовское «плюй на пятки» запомнил Васька Пачин на всю жизнь. «Плюй на пятки!» – советовал он друзьям-краснофлотцам, когда те попадали в непромокаемую. (Они не понимали смысла Васькиной пословицы, рассказывать же не всегда было и время.) После сиденья на крыше мальчишка не испугался даже самой высокой в Ольховице кровли Прозоровского дома. Он слазал туда на спор, когда коммуна метала стог…
– А что, Митька Усов так и живет у Прозорова? – спросил матрос и тут же покаялся. Лицо жены вспыхнуло, словно маков цвет.
– Так и живет, – ничего не заметил Славушко. – А чего ему? Свою избу под дожжом сгноил, нонече гноит Прозоровскую.
«Плюй на пятки!» – сказал Васька сам себе и перевел разговор на нынешний сенокос.
К яйцам, сваренным в самоваре на полотенце, так никто и не притронулся.
– Ой, батюшко, Васильюшко, как ты дойдешь-то! – суетилась хозяйка. – На-ко, еицьки-ти хоть в карман положь! Глико, сотона, Евграф-то лошади не дал. Мало ли у вас лошадей-то в ковхозе? Хоть бы постыдился, ведь свой человек-то уезжает на службу.
– Добежим на своих двоих! – сказал Васька. – Божату Евграфу боязно сейчас родне угождать. Было бы как раньше, свою бы лошадь не пожалел.
– Акимко-то, пес, орет вчерась на всю волость: «Я им покажу, этим данилятам, я им покажу! Потрут они у меня сопель на кулак».
– Как бы самому ему не выпустить красные сопли, – усмехнулся матрос и встал. Расцеловался со Славушком, обнял хозяйку, взял чемодан. Жена отняла у него поклажу.
– Прощай, божатка! – сказал Васька весело. Хозяйка заплакала:
– На-ко хоть полотенце-то, через плечо чемодан-то нести!
Поклажа матросская была не тяжела, да нести придется много верст. На оводах и в жару… Тоня продернула хозяйское полотенце в чемоданную ручку. Все вышли из дома. На околице матрос перехватил у жены чемодан:
– Иди домой, дальше не провожай.
Она же все шла и шла… Васька обнял Тоню у придорожного стога. Сено было недавно сметано. От стога веяло запахом летних трав, пронизанных зноем.
Молодые прислонились на минуту к этому Ольховскому стогу. Тоня заплакала на широком плече Василия Пачина. Он гладил ее пахнущую рекой голову. Коса так и оставалась не расплетенной на две половины. Хотел спросить, почему она все еще заплетается по-девичьи, да не осмелился. А Тоня уже промочила слезами синюю матросскую форменку и вдруг заплакала по-бабьи, навзрыд. И тогда матрос решительно встал. Обнял ее в последний раз, еле расцепил плотные руки жены.
– Прощай, Тонюшка! Войны не будет, приедешь ко мне насовсем в Ленинград. А я той порой офицером стану. Заживем как люди…
Он кинул чемодан за плечо и зашагал прочь. Шел быстро, стараясь поменьше оглядываться. Тоня в слезах стояла у стога, такая крохотная, такая родная. Сердце матроса сжалось от скорби и нежности. Дорога вильнула влево за ивовые кусты. Вскоре и гумна остались далеко позади. Он оглянулся: придорожного стога было уже не видно, а тесовые ольховские крыши светились на солнце серебряным блеском. Они струились дрожащим маревом. «Прощай, Тоня, прощай, Ольховица!» – вслух произнес Васька Пачин и зашагал быстрее.
Шел он так споро, что на первом же волоке догнал тележный обоз. Трое залесенских и горских возниц ехали налегке, а двое везли на станцию сухое корье. Пачина окликнул кто-то знакомый, возы остановились. Матрос приторочил к тележному передку свой чемодан и, не вникая в то, что кричат земляки, быстро двинулся дальше. Он стыдился своих слез… Он дождался обозников уже ночью, в той самой деревне, где зимою поят и кормят коней. Стояли у того же дома, где брат матроса Павел Рогов обнаружил в телеге у Митьки Усова берданку и где голодный Игнаха воровал пироги из поклажи шибановских возчиков.
Матрос не стал останавливаться с обозом. Он забрал чемодан, попрощался и двинулся дальше. С рассветом он был уже в райцентре и на вокзале. Ленинградский поезд ходил через Вологду не каждый день. Пачин боялся, что опоздает на службу. До Вологды-то надо было еще часа четыре добираться на дачнике! Усталый и потный, Пачин пришел на вокзал и сразу встал в очередь за билетом. Едва-едва успел он купить билет и заскочить на подножку этого самого дачника. Дорожную пыль пришлось стряхивать в тамбуре.
Какой, к чертям, дачник, и кто прилепил к нему это нездешнее имечко? Никаких дач тут до самого Белого моря сроду не было… Лишь проплывают в полях деревни, похожие на родимую Ольховицу и на ту же ставшую такой близкой Шибаниху. Те же серебристые тесовые и драночные крыши, те же стога, похожие на красноармейские шлемы. Мелькают за окном дачника палисады с черемухами и рябинами. Черемухи давно отцвели, рябины еще цветут белым, кремовым цветом. Еще не завелись ягоды на рябинках, еще далеко до ягод. Еще не краснеют они своими роскошными тяжелыми гроздьями, дрозды еще не разбойничают на ветках. Скоро, скоро рябины начнут стыдливо краснеть в подоконных своих палисадничках, у бревенчатых бань, на берегах озер и тихоструйных речушек…
Краснофлотец Пачин с грустью обновил в памяти деревенские впечатления. Вспомнилось, как покраснела жена, когда во время чаепития он по неосторожности упомянул фамилию Прозорова. Вогнал ее, как дурак, в румяную краску…
Но не из-за того непразднично было на сердце матроса! Тревога от нехороших предположений то и дело вкрадывалась под тельняшку. Он гасил эту тревогу свежими воспоминаниями об отпуске, о женской ласке и новой родне… Четыре утренних и четыре вечерних зари полыхнули над ним одной краткой зарницей, бесшумной и ослепительной.
Вечерняя, вернее, ночная заря незаметно и как-то сразу переливалась в утреннюю, он едва успевал забыться на сгибе левой руки жены. И сладостный запах пота от этого сгиба, и запах речной воды от ее расплетеной на ночь косы, и сонный щебет ласточкиных чиряток в средине тихой ночи, и долгий, по-вдовьи тяжелый вздох коровы внизу… Особо помнится стукоток ритмичной Гуриной барабанки в рассветной Шибанихе… Все это слилось для Пачина в одну сплошную зарю. Восемь зорь вечерних и утренних. Нет, счастливых было всего четыре, если не считать свадебную. И чего там считать свадебную, да еще в пост?.. Да еще с дикой дракой, когда Акимко Дымов едва не поставил фонарь. Подростками, бывало, вместе ходили за морошкой в болото. А тут налетел как петух… Что с ним стряслось? Говорят, что таскается в пьяном виде за Верой Ивановной, Пашкиной бабой… Хорошо, что все обошлось без последствий. Вот было бы скалозубства для вечернего «якоря»: курсант Пачин жену не привез, а привез синий фонарь под глазом…
Братва окрестила «якорем» тот самый гальюн, где курильщики собирались каждый вечер перед отбоем…
Свист дымовской гири не запечатлелся в слуховой памяти курсанта, но запечатлелась на всю жизнь ночная возня ласточкиных чирят под стропилами избы Тониных братьев. Да еще Гурина барабанка. Запомнились и коровьи вздохи внизу, под верхним сараем, словно меха в Гавриловой кузнице. До конца жизни запомнит матрос холщовый полог, еще до свадьбы приготовленный тещей на повети около перевала со свежим сеном. Никто не ведал, не слышал, что было под тем пологом, ни один комар не проник в эту полотняную крепость…
Зато матрос припомнил все давно забытые ночные сенокосные деревенские звуки, похеренные еще черноморской службой.
А можно ль забыть удивление и даже стыд, полыхнувшие на дорогом лице Тони, когда после дурацкой стычки вздумал он сам постирать тельняшку и форменку? Тоня сердито, силой вырвала из рук грязную обмундировку.
Ослепительной счастливой зарницей мелькнула в жизни курсанта отпускная неделя. Какой там отпуск! Получилось всего четыре дня без дорог… Но за что ему такое везенье? Подготовительный курс Пачин закончил с одними тройками. Мало кому даже из старших курсантов удавалось побывать в отпуске летом во время практики. Летом братва плавала кто на «Авроре», кто на «Комсомольце», а кто и на эсминцах и тральщиках.
Уже хаживал кое-кто и в заграничный поход. А тут – поездка домой… Опять, наверное, выручил Николай Герасимович, земляк из-под Устюга… Вспомнилось, как встречали на крейсере товарища Сталина и Орджоникидзе, как давали концерт самодеятельности.
Тогда Васька Пачин под баян сплясал матросское «яблочко».
Ходили на Кавказское побережье. Товарищ Сталин покинул корабль в Сочи, но Пачин стоял в это время на вахте в машине. А во время другого похода матрос получил благодарность от самого комфлота Орлова… Но всего больше запомнилось, как еще до этого ходили они в Турцию. Ночью, когда стояли в Стамбуле, на крейсере случился пожар. Горела переборка в котельном отделении. Противопожарная система не сработала из-за неисправных трубопроводов, а за переборкой размещался артиллерийский погреб… Васька едва не задохнулся в горячем дыму, орудуя огнетушителем.
Тогда командир корабля Несвицкий объявил матросу особую благодарность перед строем. Позднее Николай Герасимович Кузнецов вызвал Пачина в свою каюту. Не тот ли разговор круто изменил судьбу неграмотного деревенского парня? «Товарищ Пачин, почему ты не вступил в комсомол?» – спросил командир первого плутонга Кузнецов. Васька сказал, что его не приняли из-за отца, который лишен права голоса. Кузнецов хмуро выслушал историю неудачного поступления в комсомол и отпустил. Но уже через неделю «сын кулака» Василий Пачин стал комсомольцем. Вскоре Николай Герасимович завел разговор об учебе в Ленинградском училище им. Фрунзе…
Легко сказать – учиться, а если у тебя и всего-то пять классов, шестой коридор! В среднюю школу надо было ездить чуть ли не за тридцать километров, со своими харчами. Ночевал Васька у дальних родственников, проучился всего одну зиму. На вторую осень отец Данило начал учить сыновей рубить новый хлев, и Васька не очень тужил о школе. Старый хлев совсем «сопрел». Вот и все пачинское образование.
Память об отборочных испытаниях и сейчас заставляет краснеть от стыда. Преподаватель по физике, с аккуратной бородкой, в стареньком, может, еще царском кителе (со следами погон на плечах) открыл регистрационный журнал: «Ну-с, молодой человек, а не скажете ли мне, что такое угловая скорость?»
До этого Васька с успехом прошел проверку на быстроту смекалки. Показал хорошую цветную сообразительность и кое-как написал диктант. Но что значит угловая скорость, увы, Пачин не знал… Старичок в кителе все же допустил к остальным вступительным испытаниям, и Пачина зачислили на подготовительный курс…
Многие задачки по физике и до сего дня Пачину не даются. По химии на вступительных его спросили, что значит валентность. (Освоил эту валентность совсем недавно, да и то на дополнительных занятиях и с помощью дружка, одного вятского сослуживца.) А уж написать формулу обычной столовой соли Пачин и вовсе не смог на вступительных. По немецкому на отборочных вспомнилась лишь одна фраза «Анна унд Марта баден». Еще неизвестно, что было легче: в комсомол ли вступить или выучить бином Ньютона.
Тот же Коля-вятский присоветовал поступить в кружок по эсперанто: мол, изучишь – тебе все языки и будут понятны, даже поймешь испанский. Так доказывал вятский. Однажды в неделю ходили кое-кто и на этот кружок. Занятия велись на квартире. Черноглазая Берточка перед самым отпуском коснулась Пачина своим упругим бедром, окутала нездешним запахом каких-то духов: «Товарищ Пачин, ты не имеешь учебника? Я тебе сегодня же подарю, у меня есть один, совсем свободный…»
Учить эсперанто за счет увольнений не больно-то и хотелось, но освоить с помощью эсперанто сразу три языка было заманчиво. Еще заманчивей вскидывались густые черные ресницы преподавательницы. Между тем по-немецки некоторые однокурсники уже читали сказки братьев Гримм. Правда, далеко не все…
Дачник пришел в Вологду как раз перед ленинградским поездом. В кассах творилась давка, и Пачин едва успевал. Он взял билет в воинском зале. Вагон оказался полупустой… Запыхавшийся матрос перевел дух. Вскоре поезд пошел. Пачин раскрыл чемодан и достал тещины пшеничные пироги. Один оказался со щукой, другой – воложная посыпушка. Морская, с голубым красивым якорем, еще с «Червоной Украины», кружка горячего кипятку совсем не помешала в эту минуту. Матрос подкрепился, снял ботинки. Сунул чемодан под лавку и лег на своем плацкартном. Знакомиться с немногочисленными пассажирами ему не хотелось. Он прикрыл глаза и снова начал вспоминать дни, прожитые в Шибанихе. Что ждет курсанта теперь?
На тральщике, где он проходил морскую практику, был объявлен незапланированный ремонт. Кто из начальства выхлопотал для Пачина десятидневный отпуск? Наверное, опять приложил руку Николай Герасимович. Это одному ему было известно о семейном положении матроса и о желании Пачина жениться.
Учиться придется минимум три года, а может, и больше. Разрешат ли снимать квартиру, если Тоня приедет к нему? Как устроить ее на работу? На какие шиши придется жить?
В деревне Васькине семейное положение не лучше… Глубокая затаенная обида, словно огонь под соломенным пеплом, таилась где-то далеко в сердце. Матрос пытался не думать. Но как не думать? Отца, видимо, уже нет в живых. Брат Павел неизвестно где и тоже не ясно, живой ли. Жена Павла с детишками и с третьим пачинским братом Алешкой бедствуют. Живут в бане, ходят по миру. Как умирала мать в Ольховице, тоже жившая в бане, этого Пачину лучше не вспоминать… За что? Что сделали худого советской власти все «данилята»? Как оказался в супостатах первый дружок детства Акимко Дымов? Еще ведь в тот зимний приезд вместе ходили по игрищам. Нынче едва не убил гирей…
Вспоминалась матросу и памятная избушка «рендовой» водяной мельницы, где лежал обмороженный брат Павел. Представилась на миг окровавленная скатертка, острая плотницкая стамеска… Глухой удар обухом… И звук, с коим отлетел в угол избушки отмороженный палец. Пачин вздрогнул задним числом. Ему вспомнилось и то, как в глубоком снегу разъезжались упряжками с шибановским активистом Игнахой Сопроновым.
Где сейчас Павел и тятя Данило Семенович? Живы ли? А может, и живых давно нет…
Вагоны мерно стучали на рельсовых стыках. Васька Пачин скрипнул зубами… Промокнул глаза платочком, вышитым женой Тоней. До Ленинграда было еще далеко-далеко.
* * *
Одряхлевший от старости тральщик, видимо, надолго угодил в сухой док. Старшина велел ждать указаний и отпустил в училище. Все было, как и прежде. Пачин явился перед отбоем к вечернему «якорю».
– Ребята, качай его, он подженился! – воскликнул вятский.
Курильщики загалдели.
– Не врет?
– Правда!
– Где документ? Показывай!
Смущенный матрос достал из бумажника «документ».
– Ура женатику!
С десяток дюжих рук схватили матроса под мышки, за поясницу. По чьей-то команде под общий смех начали метать вверх и ловить на лету: «Раз, два, взяли! Раз, два, выше!» Ноги Василия трижды взлетели под потолок. Затем приятели бережно опустили матроса на цементный пол…
– Теперь пускай расскажет про первую вахту.
В гальюне дымили, хоть вешай бескозырку. Человек несколько старшекурсников кусали трубочные чубуки, их называли адмиралами. Никогда не курил матрос, а тут наглотался табачного дыму, лучше бы не приходить к «якорю»…
– Докладывай по добру, целину ли пахал?
Пачина выручила команда дневального приготовиться к вечернему построению.
Училище жило обычным своим чередом. Вятский уже после отбоя рассказал про Берту, она провела очередное занятие. По словам вятского, раза три спрашивала про Пачина. На дополнительных занятиях по иностранному вятский – парень хватский – не мог будто бы сообразить, что значит плюсквамперфект, и получил неуд. Преподаватель каким-то духом святым разведал про флотских эсперантистов. Вятскому пришлось объясняться. Скорее всего сам и похвастался задолго до этого. Вятский выслушал ехидное замечание: «Ну, ну! Поздравляю, молодой человек, в будущей войне пригодится и эсперанто. Хотя, как мне представляется, такого языка вообще-то совсем нет».
Василия Пачина эта фраза в пересказе товарища зацепила за сердце. Но через несколько дней Берта Борисовна на очередном занятии легко ликвидировала все зацепки, убедила в необходимости эсперанто.
– Ла квиньяра плано естас фундаменте, – звучно читала она. – Эн ла конструо де социализме. Ла гран-дегайп лаборойн…
Человек шесть матросов, в том числе двое из фрунзенского, да трое каких-то гражданских на квартире преподавательницы вслух зубрили термины, записывали в тетрадях новые правила. Двери из коридора в прихожую неожиданно приоткрылись. Показалась чья-то рыжая шевелюра, и блеснули очки. Загадочно улыбаясь, человек ждал, когда его заметит хозяйка.
– Я занята сегодня! – раздраженно сказала Берта Борисовна.
– Да?
– Да… Записываем: ла квиньяра плано естас…
– Очень это бывает странно с твоей стороны.
Рыжая голова почему-то еще минуты две торчала в дверях.
– Яков Наумович, я же сказала!
Голова наконец исчезла. Дверь больше не открывалась. Однако урок был испорчен. Вскоре раздраженная Берточка распустила подопечных. Пачина она задержала и жестом руки, и движением роскошных черных ресниц. Пачин снова присел на кушетку. Когда эсперантисты ушли, она устроилась рядом, но так близко, что матрос услышал, как бьется ее сердце. Учительша коснулась его коленом, и он вскочил с кушетки, как будто ошпаренный. Она тоже встала и, глядя на матроса снизу вверх, скороговоркой произнесла:
– Я закрою двери на ключ…
И, проворно закрыв дверь, продолжила уже шепотом:
– Мейерсон больше не войдет… он ушел. Мне говорили, что ты в отпуске?
– Женился, Берта Борисовна! – сказал Пачин, краснея.
– Почему? Как так? – изумленно воскликнула она и вдруг переменилась в лице.
Пачин стоял перед ней по стойке «смирно». До него не сразу дошло, чем кончился этот эсперантский урок.
– Вон отсюда! Немедленно! – злобно блеснула глазом Берта Борисовна и отвернулась в слезах.
Пачин, ошарашенный, не помнил, как очутился на лестнице.
В конце увольнения долго ходил и размышлял о случившемся. Он прошелся через мост и по набережной. Якоря у подъезда училища напомнили ему, кто он такой и что происходит. Как тесно сидела Берта Борисовна с ним на зеленой кушетке! Опять, как бы случайно, она коснулась его…
Ему все стало ясно. Вятский хохотал, когда Пачин рассказал ему обо всем. И откуда он узнал, что эсперанто является ключом ко всем европейским языкам?
– Я туда больше не ходок! – заявил Васька. – И ты, брат Коля, зря эту муть зубришь… Табань!
– Подождем табанить, поглядим, зря или не зря. Еще неизвестно… Я пока не то, что некоторые. Я пока холостой…
– Ты видел, как в двери какой-то рыжий заглядывал?
– Нам не страшен серый волк, – пропел вятский.
… А Пачину между тем было не до Берты Борисовны. Отпускную задолженность по физике, химии и немецкому требовалось срочно ликвидировать. И Пачин забыл про два «Б», то есть про очаровательную эсперантистку. Химик вослед физику назначил дополнительные занятия…
Неясные слухи об отчислении неуспевающих настойчиво ползли среди курсантов. Черт бы побрал это прямолинейно-ускоренное! Кинематика так и шла следом за Пачиным все эти годы, начиная с «Адмирала Нахимова». Даже по алгебре осилен бином Ньютона. И квадратные уравнения сдались краснофлотцу. Синусы и косинусы уступили настойчивости, а вот задачки по физике все еще кусаются, словно клопы. Решать приходится с помощью вятского. Но вятский учивался на гражданке в восьмом и девятом. Пачину же формулы давались со скрипом… «Как необъезженные лошади», – думал о них матрос, шаркая по паркету полотерной щеткой. Матросская роба была вся в поту, рабочие брюки вымазаны мастикой. Щетка, пристегнутая то к одной, то к другой ноге, ходила по паркету туда-сюда. Пачин оказался удачливым полотером, справлялся с этой задачей быстрее вятского. Еще надо было делать приборку в актовом или, как говорилось, столовом зале, где шел ремонт. На судне ремонт, тут ремонт. Говорят, что это самый большой зал не только в Ленинграде, но и во всей России. Здесь уместятся два-три гумна… Не зря Ленин выступал когда-то именно в этом зале.
– Курсант Пачин, к начальнику училища! Тебя ждет комиссар Волков, – услышал Васька неожиданную команду ротного. – Быстро, быстро!
Ротными назначались курсанты-выпускники. С ними было легче служить. Все-таки свой брат, курсант. С другой стороны… придиры те еще.
Ротный сказал, что Пачина ждут в кабинете через две с половиной минуты.
«Звериные морды» носовых корабельных частей висели вдоль всего узкого коридора. То лев, то носорог. А вот и клыки кабана торчат. Разглядывать Пачину нет времени. Надо быстренько скинуть робу, переодеться, помыть хотя бы руки. Пачин бегом кинулся в кубрик. Что нужно от курсанта начальнику училища Татаринову и комиссару Волкову? Непонятно…
* * *
Но в кабинете начальника училища, кроме хозяина, сидел не комиссар Волков, а Бессонов – комиссар надводного сектора, и еще кто-то третий, в гражданском.