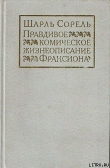Текст книги "Час шестый"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Василий Белов
ЧАС ШЕСТЫЙ
«Бе… час яко шестый…
тогда предаде Его им, да распнется…
И неся Крест Свой,
изыде Иисус на глаголемое
лобное место,
идеже пропяша Его».
(Ин. 19, 74–18)
I
Под вечер, в день святого животворящего Духа, проходная калитка Московской тюрьмы в Вологде распахнулась, и рослый охранник прямиком в поток равнодушных, страдающих от жары обывателей выпустил приземистого бородатого узника. Очутившись на воле, мужик поспешно содрал с головы драную шапку. Он по-медвежьи неловко повернулся к охраннику и раскрыл было рот, опутанный сивой порослью, чтобы поблагодарить. Но бравый красноармеец уже не глядел на него.
– Пшел, пшел! – пробурчал стражник, отмечая что-то карандашом в амбарной своей книге. – Отпустили, дак иди. Нечего тут оглядываться…
Калитка домзака (так называли вологжане свою старинную Московскую тюрьму) захлопнулась. Крякнул мужик и левым рукавом домотканого армяка обтер белый, как репа, лоб. Правой рукой он летучим крестом еще раз осенил широкую грудь и окинул взглядом беленную известкой тюремную стену. Круглая кирпичная башня, сооруженная около главных ворот, да и сами главные ворота родили было искорку любопытства, но мужик тут же опустил глаза на свои ноги, обутые в непонятную обувь. И вконец устыдился. Не сапоги, не валенки, не лапти, не шоптаники, а какое-то дикое содружество опорок и тряпок, похожее на обутку украинских выселенцев, – вот что осталось от прежних яловых сапог! А ведь все другие и прочие идут и оглядываются…
Он покраснел, кинул за спину почти пустую котомку и стыдливо вступил в число этих «других и прочих». Озираясь, словно был в чужом огороде, словно не имел права ступать по этим ровным деревянным мосткам, он шел, сам не зная куда. Лишь бы уйти подальше от узилища. «А высока стена-то! – подумалось. – И крепка, видать, сделана при царе». И вспомнилась вдруг песенка, придуманная про него одним земляком:
Как Миронов-то Евграф
Будто барин или граф…
Да, это был действительно Евграф Миронов.
«И правда, – думал он сам про себя, – два года держали тебя, Анфимович, как графа, вон за какой высокой стеной-то… Не убежишь…
И вот – выбрался! Вытерпел все, что послал Господь за грехи. Оставлено было и отцово подворье, и родная оседлость. И Марья жена, и дочка Палашка – все было отнято. Каковы они сами-то? Живы ли? Окольным путем доходили слухи про Ольховицу с Шибанихой, а письма не доходили. Если и живы жена с дочкой, то маются, сердешные, по чужим углам, каково им-то, бедным? Да еще с младенчиком…»
То, что Палашка ходила с брюхом, сказывал Евграфу один мужик из Залесной, сидевший в тюрьме вместе с Мироновым. А кого Палашка родила, как назвали, Евграф так и не знал. Писем из дому не было. Но после стычки с Микулёнком в кабинете у Скачкова Евграф так почему-то и считал: родился парень Виталька.
«Витальке теперь два годика. Наверно, уж вдоль лавки бегает, а то и к порогу… Да где она, дедкова лавка? Всё отняли: и лавки, и ложки…» При мысли о внуке, которого никогда не видел, Евграф почуял, как сильно забилось сердце. Сразу прибавилось новых сил и захотелось ему бежать… Однако бежать бегом по городу Евграф не посмел: что про него подумают? Вот, скажут, рехнулся мужик, вроде Жучка. Все-таки ноги сами прибавили ходу.
Улица называлась Советский проспект. Справа синела река с плотами и баржами. Большой колесный пароход плюхтался около пристани, буровил плицами воду. Евграф погасил свое любопытство. На уме не пароходы, а паровозы. Как бы поскорее уехать на свою станцию? Не было ни денег, ни хлеба. За пазухой одна тюремная грамотка, где синими печатными буквами сказано, что он, Евграф гражданин Миронов, обязан явиться в деревню Шибаниху Ольховского сельсовета. Обязан… Тут и обязывать нечего, полетел бы в Шибаниху на крыльях. Беда, крыльев-то нету. Не дал Господь…
«Весь я в мыле, вроде Ундера жеребца», – подумал Миронов, когда перевел дух на площади.
Он стоял около бывшего храма.
«Ми-ра-бо», – прочитал по складам одну афишку, потом вторую, крупными буквами: «Чи-ка-го». Кто такие эти Чикаго да Мирабо? Третья надпись «Хижина дяди Тома» Евграфу понравилась. Он прочитал афишу второй раз с начала и до конца. Большой фанерный щит занимал видное место на бывшем храме, который стал кинотеатром имени Горького. Будь Евграф в другом положении – обязательно бы сходил, поглядел бы, что значит это кино и как там показывают. Нынче было не до того…
Ему показали, в какую сторону надо ступать, чтобы попасть на вокзал, к паровозам. Бывал он в городе и до тюрьмы, бывал, да ничего не запомнил. Много ли запомнишь за один раз? Приезжали с Ванюхой Нечаевым покупать хомуты, попили тогда чаю в дому у наставниц и уехали. Ничего не запомнил Евграф, где и что! Сейчас же он словно по воздуху летел прямиком к вокзалу. И свой поезд сразу нашел, называется «дачный». А дальше-то что? «Без денег везде худенек», – говорится в пословице, а тут и без хлеба…
Вагоны были еще закрыты. Евграф побрел вдоль поезда. Паровоз несильно чихал впереди. Пожилой, с бледным лицом кочегар, глядя сверху в окошко, заметил странного мужика и молча стал наблюдать за ним. «А что, – подумал Евграф, – в городе-то ведь тоже люди живут. И на поездах православные. Ежели бы к нему попроситься? Может, и довез бы…»
Тревога в душе все нарастала, но сейчас она смягчилась стыдливой, в то же время и решительной говорливостью.
– Здрастуйтё! – остановился и громко произнес Евграф, но кочегар ничего не ответил. – Я, значит, это… Таварищ кочегар, нельзя ли с тобой, это… Дело, значит, мое совсем безвыходное… Гражданин кочегар…
– Да я не кочегар! – отозвался наконец человек в паровозном окне. – Я помощник…
– Таварищ помощник, я, значит…
В шипении паровозного пара, в запахе горячей смазки и гари паровозный помощник не расслышал последние слова. Но Евграф рад был уже и тому, что «кочегар» вступил в разговор, что его, Евграфа, не гонят прочь. Из какой-то невидимой трубки то и дело со свистом вылетал пар, и, боясь обжечься, Евграф отступал подальше от горячей машины, не останавливая свою просьбу.
Наконец паровозник понял, чего хочет от него мужик в шоптаниках, и завертел головой в фуражке:
– Нет, нет! Нельзя!
– Да я бы тебе отплатил, не сразу, а отплатил бы! – кричал снизу Евграф.
Помощник машиниста исчез из окна, но вскоре появился в паровозной дверце, пальцем подозвал Евграфа поближе. Здесь было потише, и Евграф услышал:
– Нельзя! Строго запрещено! Откуда сам-то?
– Из турмы! – громко ответил Евграф и начал опять объяснять свое «безвыходное».
– Ступай в самый конец, поезд пойдет, ты встань на подножку. Доедешь… Только держись крепче…
«Кочегар» поглядел в обе стороны, не слышит ли кто его совет мужику. И пропал в жарком вонючем паровозном нутре.
Евграф опять остался один как перст. И хотя немного воспрянул духом, тревожное состояние не покидало его. Как доехать? Без билета ездить никому не положено, даже начальство обязано покупать билет.
Проводники как раз начали впускать народ. Мешки, чемоданы, узлы мелькали вдоль поезда, народ толокся у всех подножек. Евграф, не помня себя, побежал к последнему вагону. Когда двери вагона перед отходом поезда захлопнулись, он хотел взгромоздиться на подножку. Его опередил какой-то подросток в кепке.
– Куда лезешь? – громко прошептал парень. – Иди в другое место, там и езжай!
Евграф ничего не хотел слышать. Вцепился в поручень. Поезд пошел, и оказалось, что места на подножке вполне хватило двоим. Парень миролюбиво попросил закурить, но Евграф не расслышал, он стоял на подножке ни жив ни мертв. Стучали колеса, вагон вздрагивал и качался, мелькали дома, приторно пахло паровозным дымом. «Еду, еду ведь вроде бы!» – ликовало внутри Евграфа. Он рано радовался. На второй Вологде поезд сделал остановку, дверь вагона раскрылась, и раздался грозный окрик проводника: «Этто што такое! Ну-ко марш вниз! Чтобы не было духу!»
Оба «зайца» послушно освободили подножку, но когда проводник закрыл дверь и вагоны пошли, парень заскочил обратно. Евграф не посмел… Стоял он на песке полотна, стоял и глядел, как последний вагон исчезал вдалеке. Пусто было и на душе, и на перроне второй Вологды. Пусто было и в мужицком желудке, и в тюремном мешке. Но Евграф не замечал пока своего волчьего голода. Он не знал, что делать и как быть. Мысль о внуке Витальке и даже образ мальчика, который в одной рубашке топает вдоль лавки, опять взбодрили, вернули его к самому себе. Он крякнул и огляделся. Старушка в синей кофтенке окапывала картофель в ближайшем огороде. Она разогнулась, когда услышала Евграфово «Бог в помочь», заслоняясь от солнца ладонью, поглядела на Миронова:
– Спасибо, батюшко, спасибо. Дак ты сам-то чей? Откудова?
Евграф доложил ей все про свое «безвыходное» и про внука Витальку. «Попал, можно сказать, в непромокаемую! – закончил он. – И денег нет, и хлеба нет, чего хошь, то и делай…»
Старушка слушала и плескала руками.
– Не знаю, батюшко, чем тебе и пособить. А ты бы сходил к преподобному-то, к Галактиону-то, спросил бы ево да помолился. Вот лучку пока пощипли, у меня больше ничево не посажено… До святого-то Митрея больно далеко, а к Галактиону ближе… Иди, иди, люди тебе покажут, куды ступать.
Евграф отказался щипать лук и побрел в сторону переезда. Про святого Дмитрия он слыхал, а где, какой это Галактион? Только сейчас, после того как старушка предложила пощипать свежего луку, мужик почувствовал голод.
Вечер уже склонялся над всей Вологдой. Прохожих стало меньше, запахло зеленой сухоросной травой. Евграф шел, сам не зная куда и зачем. Вот кабы знать, где наставницы-то живут! Это у них чай-то пили с Ванюхой Нечаевым. Занавески были кисейные и часы с боем… Да как их найдешь, сестрениц-то? Вон сколько всяких домов. Целый город, и все дома… Евграф не заметил, как Вологда совсем стихла. Белая июньская ночь опускалась на крыши, и вскоре все везде замерло, как замирает в такую пору и в родимой Шибанихе. Евграф пошел было снова искать вокзал да заблудился, и беспросветное чувство одиночества охватило его. Хоть обратно в тюрьму дорогу спрашивай, да кому он там нужен? Отсидел свое и ступай куда хочешь. И домзак показался ему сейчас чуть ли не родным домом…
Заря погасла за крышами и зеленью палисадов. Собаки взлаивали у закрытых калиток. Редкие прохожие даже не обращали внимания на какого-то бородача, присевшего на древесную чурку. Дрова были сырые, осиновые, и запах дерева подействовал, как запах только что испеченного хлеба. Евграф встал и опять куда-то побрел.
Под утро усталость и голод совсем сморили его, он приглядел местечко в каком-то закутке около невысокой кирпичной ограды. Деревянный дом, стоявший неподалеку, показался ему надежнее. Миронов перебрался туда и приткнулся к беленному известкой рундучку. Рундучок был с аршин высотой. Евграф уснул у этого рундучка. «Где его искать, преподобного-то? – думал Евграф во сне. – Адрес тоже ведь нужен…»
Белая ночь коротка. Можно сказать, и не было никакой ночи. Шел третий час. Евграф думал во сне про гостинец для внука Витальки. Этот отрадный сон сливался с туманной мыслью о преподобном Галактионе, о котором никогда не слыхал шибановский пилигрим.
* * *
По летописным преданиям православный литовский князь Федор Бельский был правнуком славного Гедимина, от ружейного выстрела погибшего в схватке с надменными крестоносцами. Тут и там в сражениях и поединках уже пахло пороховым дымом, от малых обид, как порох, вспыхивали и княжеские сердца. Литовская прямота и беспечность не уступали тем же свойствам русских князей. В ту далекую пору не было ни рубежей, ни застав. Литвин, татарин и русский без толмача понимали друг дружку. С быстротою необыкновенной гром харалужных мечей сменялся звоном серебряных свадебных кубков.
Король Казимир не отличался ни политической дальнозоркостью, ни христианским терпением, когда ссорил себя с такими мужами, как Федор Бельский. Спасаясь от смерти, литовский князь ускакал в Москву на второй день после собственной свадьбы. Дед Грозного Иван Ш одарил беглеца державной честью и городом. В ту ли пору Федор Бельский стал супругом рязанской княжны и царской племянницы? Об этом летописцы толкуют смутно, зато имена его сыновей – Ивана, Семена, Димитрия – навечно оставлены на скрижалях русской истории. Иван и Димитрий верно служили московскому трону в сражениях. Они же берегли юность Грозного, стирали следы страшных пожаров и бунтов в русской земле. Они были всегдашними участниками царских пиров, свадеб и охотничьих выездов. Один Семен предал отцовскую память. Он переметнулся к русским недругам, то и дело приводил на Русь хищные стаи крымских татар, вселяя мужество в худосочных потомков Мамая.
Неисповедимы пути! Родные братья Семен и Димитрий не однажды встречались в поле, возглавляя противостоящие рати. Третий брат стал жертвою зависти и коварства. Вероятно, существует прямая связь имени и свойств человеческих. Иначе не скопилось бы столько неправедной злобы в сердцах Шуйских. Пользуясь юностью Ивана IV и женской слабостью его матери, правительницы Елены, Шуйские схватили Ивана Бельского и без ведома юного государя отправили в Кирилловский монастырь. Им показалось мало для князя Бельского монастырской темницы. Они подослали к нему подлых убийц, имена которых явственно запечатлены в летописях. Сын убиенного князя малолетний Гавриил был увезен из Москвы и спрятан родней в Старице. Едва повзрослев, юноша Гавриил ушел в сторону Вологды. Тянуло ли его к могиле отца, гнал ли его страх перед злобой Шуйских? Может быть, и то и другое. Но с тех пор он навсегда отринул и княжеский титул и одежды боярского отрока. Он растворился в море народном, посвятив себя тяжким трудам и молитвам. Безвестный вологодский сапожник приютил его и научил своему мастерству. Со временем Гавриил стал супругом приглянувшейся ему вологжанки. Но судьба припасла для него новые испытания. Внезапно любимая и заботливая жена умерла. И дочь-малютка осталась на руках, привыкших уже к дратве и сапожному вару.
Отдавая все силы свои воспитанию младенца, Гавриил знал, что коварство и злоба Шуйских давно обратилась на их же головы, что родной дядя Димитрий Бельский вновь предводительствует в боярской думе. Хватило бы и одного слова, чтобы подросшая дочь тотчас превратилась в княжну! Но, живя в одинокой келье за городом, Гавриил Бельский продолжал обувать богатых и бедных. Он делил заработок сапожника между православным приходом и увечными нищими, оставляя себе с дочерью лишь на утлое пропитание. Когда юная дочь перешла жить на посад к материнской родне, он уже под именем Галактиона принял тайный постриг и приковал себя железной цепью к келейному потолку. Смиряя плоть молитвой, постом и железными веригами, отец Галактион терпеливо и милосердно отучал вологжан от языческих буйств чередою духовных подвигов. К нему текли за советами уже со всех посадов и деревень. Однако вологжане все еще не верили дару предвиденья, поселившемуся в убогой келье сапожника.
Однажды отец Галактион отковал себя и в одной власянице предстал в Земской палате. Он призвал вологжан по примеру древних новгородцев построить обыденный храм Знамения Богородицы, чтобы предотвратить гнев Бога, нависший над Вологдой.
Никто не поверил ему. Надменный и знатный Нечай Щелкунов даже укорил монаха в своекорыстии. Оскорбленный Галактион предрек Нечаю скорый бесславный конец и в горести покинул земских начальников…
И вот в ночь на 22 сентября 1612 года, когда Вологда спокойно спала, большие ворота в город оказались не замкнуты. Стрелецкая стража была пьяна, она подалась ночевать к женкам.
Летучий отряд оголодавших польских и черкасских головорезов, а также русских воров бесшумно проник в город. Убийства, грабеж, насилия мигом, еще до рассвета, прокатились вдоль всех посадов. Чтобы сподручней было грешить, нечестивцы поджигали хоромы, конюшни и коровьи хлева. Город вспыхнул сразу во всех концах. Души погибших возносились к рассветному небу вместе с языками багрового пламени, переходящими в черные клубы дыма. Трещали смоляные клети, детский плач и крики женского ужаса то и дело вплетались в этот сплошной треск и в скотский рев. Коровы, овцы и кони метались вдоль горящих посадов. Насильники за волосы тащили женщин, хватали сундуки и укладки и падали в тех местах, где со звериным рыком, с чем попало в руках кидались на врагов безоружные вологодские мужики. Прятаться и бежать вологжанам было некуда…
Жалкая келья Галактиона ютилась вдали от посада, около речки Содемы. Убегающая от безумных насильников Галактионова дочь бросилась к отцовской лачуге…
Откуда берутся в русской земле каины и предатели? Из страха ли за свою участь, из надежды ли на жалкую корысть один местный мерзавец показал разъяренным ляхам, где спряталась убегающая девица. И хотя она успела все же выскочить из-под отцовского крова и в ужасе скрыться в ближайший от Содемы лес, аники-воины по-зверски ворвались в избушку. Они до полусмерти избили молящегося монаха. Избиение завершилось страшным ударом по голове кровельной курицей.
Через три дня завершилась и земная жизнь преподобного. Он скончался 24 сентября 1612 года, а 25-го неприятельский отряд вышел из Вологды. Уцелевшие вологжане похоронили монаха прямо в келье, которая стала свидетельницей многих чудесных исцелений. Над могилой отца Галактиона построили часовню. Со временем встала и деревянная церковь во имя Знамения пресвятой Богородицы. Так образовалась Галактионова пустынь. Вериги и мощи своего небесного заступника монахи перенесли в каменную церковь, построенную в середине ХУII века. Тогда же был воздвигнут соборный храм, и монастырь по соборному храму стали называть Духовым…
Чекисты свили свое гнездо именно здесь, за кирпичной оградой Духова, построенной еще до наполеоновского нашествия. Место было для них весьма удобным, почти в центре Вологды, но обывательские дома обступали ограду со всех четырех сторон. Расстреливать так называемых контриков приходилось по глубоким ночам, под глухой шум автомобильных моторов. И хотя почти вся Вологда знала, для чего гудит под утро автомобиль полуторки за оградой Духова, никто не смел говорить вслух про этот предутренний гул. Город давно молчал, как молчит в глуби подо льдом рыбная стая, завороженная зимним холодом.
Сквозь тяжесть тревожного сна Евграф услышал автомобильный шум. Но проснуться не смог и тогда, когда чей-то короткий вскрик, похожий на вскрик крупной лесной птицы, был прерван двумя глухими хлопками. Словно широкая сырая тесина дважды хлопнула по другой, такой же сырой и тяжелой. (Так подростки забавляются у тесового штабеля, дразня чужедальних пильщиков: верхнему пильщику долго слезать, а у нижнего древесной крупой осыпано все лицо.)
Проснулся Евграф от жуткой вони отхожего места. Машина уже не шумела за оградой Духова, но мерзкий дух, исходящий от нужника, заставил Евграфа сесть на траве. Вологда спала. Кисея бестрепетной ночной мглы висела над миром, а нестерпимая вонь не давала дышать… Евграф закрылся полой армяка и вскочил на ноги. Люк отхожего места, около которого спал Евграф, был раскрыт, железный черпак с долгим еловым чернем лежал на траве. Черпак был облеплен вонючей жижей. Евграф увидел сивую лошадь, запряженную в двуколую телегу и мирно стоящую неподалеку. Кобыла лениво отмахивалась от ночных комаров длинным хвостом. На телеге была водружена большая пивная бочка с отверстием, кое закрывалось заслонкой. Мужик-золотарь в балахоне неопределенного цвета сидел на двуколке около бочки и неспешно нюхал табак из берестяной табакерки.
Евграф кашлянул. Но золотарь либо глухой был, либо вконец одурел от этой нестерпимой вонючей своей работы.
– Доброго здоровьица, – опять покашлял и погромче молвил Евграф.
Только после этого мужик оглянулся. Ничуть не удивился он Евграфовым «сапогам» и всему виду незнакомого бородатого дядьки:
– Чего рано встал-то? А, да ты вроде не тутошний… – Золотарь заметил котомку. – Дак ты чего, и ночевал тутотка? Можно сказать, около нужника?
– Тут! – облегченно выдохнул Евграф и без всякой подготовки начал докладывать про свое «безвыходное».
– И-и, парень! – сказал золотарь, когда выслушал. – Не один ты такой нонече. Я вот тоже, вишь, какой груз вожу? Раньше-то у меня коляска была с коленкоровым верхом… Бывало, везешь дамочку в шляпке, дак от ее дух-то… можно сказать, одно загляденье! И кобыла была не то, что эта старбень… Все отняли таваришшы… Сперва в колхоз затенили, а о прошлом годе и оттудова вычистили. Присобачили первую категорию…
Золотарь кивнул в сторону кирпичной ограды Духова и добавил почти шепотком:
– Сами-то на антамабиле ездят… Слышь, антамабиль-то опеть тарахтел? То-то и оно, можно сказать.
– Дак оне чево, вроде тебя, тож по ночам ездят? – спросил Евграф.
– То и по ночам, что днем-то жарко и оводно. Оне и днем выспятся, им што…
Евграфу было трудно дышать, а золотарь давно привык и говорил, говорил про какого-то товарища Кедровского, который бумагу не принял. Говорил про деревню и про Тошненский сельисполком, затем начал рассказывать про свое разбежавшееся кто куда семейство.
– Сынишко-то… Совсем ведь он малолеток, не знаю, чем там и кормится. Мы, бывало, на Троицу-то мочили по три пуда ржи… Такие пива-то варивали, можно сказать, княжецкие… Тебя как зовут-то?
Евграф сказал свое имя и отчество.
– Меня-то Иваном, – произнес золотарь. – Николаевич по отцу-то… Из своей избы выгонили, не знаю, где и ночует… сынишко-то… А ты не голодной ли? В домзаке-то и я сиживал, знаю эту кантору. Товарищ Кедровский много нашего брата туды спровадил. Из Рунова, из Ерофейки. Ты, Евграф Анфимович, Окуратова-то не видел ли? Мельник, наш лавкинский.
– Нет, не видал! – Евграфу давно хотелось уйти подальше и от бочки, и от этого раскрытого нужника. Но что-то его останавливало. – Много там народу-то всякого. А я, Иван да Николаевич, вчера вчистую отпущен…
– В Духов день, – вставил золотарь.
– Хотел я домой уехать, на свою-то станцию, да вишь, денег-то на билет нету…
– Не знаю, парень, чем тебе подсобить, – сказал золотарь, слезая с телеги. Колом стоял его ссохшийся балахон. Вонь стала еще сильнее, когда он начал черпать и выливать в бочку содержимое нужника.
– Ты бы вот взял да свез бы разок говно-то, а я бы той порой к сынишку бы сбегал, – сказал как бы шутя Иван Николаевич. – В деревню. Сидит парнишко-то один, наверно, весь голодной…
И золотарь, уверенный в том, что собеседник не согласится на это предложение, начал черпать быстрее и сердитее. От вони Евграфа начало уже мутить, с другой стороны, и уходить не хотелось. Много было сходного в судьбе Евграфа с золотарской судьбой, если не считать этой вонючей бочки! Родилась и смутная надежда на помощь. А тут и тошненский золотарь начал настойчивей твердить о «парнишонке», ставшем беспризорником по воле какого-то товарища Кедровского…
Евграф остановился, крякнул и спросил:
– Дак куды, Иван да Николаевич, ты золото возишь?
– Да куды, куды… Знамо, в поле… под городскую капусту. Хотели было под нонешнюю, да рассаду-то только недавно высадили… По три рейса за ночь делаем… Днем-то не разрешают возить. Дак не подсобишь?
– Я, Иван да Николаевич, не знаю дороги-то.
– Да я доеду с тобой до поля! Ты кобылу там покараулишь, а я бы к парнишонку-то сбегал! Там не больно далёко.
Евграф согласился… За крышами вологодских домов наметилась яркая, но какая-то бесцветная полоса летней зари. Евграфу было невыносимо стыдно, что ободья всех четырех колымажных колес так сильно и так громко стукали по камням мостовой. Казалось, что обыватели из всех окон глядят на проезжающих золотарей.
Выехали за город. Солнце, словно ленясь, начало выползать из-за горизонта. А все дома, деревянные и каменные, равнодушные к судьбе двух мужиков, спокойно спали. Отнюдь не спешила Вологда пробуждаться от колесного и копытного стука.