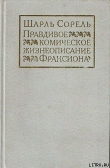Текст книги "Час шестый"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Палашка прямо на полу раскинула соломенные постели… Одеяла в сенцах вытрясла. И опять подхватила на руки свою фату.
Кремово-желтоватый шелк со сквозными светлыми полосами от угла до угла… Фата обрамлялась печатным узором. Без кистей, кои имелись у роговской фаты, зато по всему широкому полю вперемежку с маленькими большие розаны. Зеленые листики около тех розанов вьются, как хмель. Тут и сиреневое провертывается, а по углам возле четкого темного узора опять розовое. По золотисто-желтым краям черный бордюр, словно выборка на холсте. Четкие прямоугольные изломы. По углам четыре креста. Концы крестов преломились по часовой стрелке, преломились еще раз и вышли на линию…
Палашка перекрестила Машутку. Счастливая, улеглась она рядом с ребенком, под свое кумачовое стеганое одеяло. Даже с закрытыми глазами она четко видела и представляла свою фату и решила завтра же просушить на ветру и на солнышке все свое именье, чтобы выветрить залежалый дух. «Нет, лучше пока никому фату не показывать», – подумалось ей. – Как это не показывать? Пускай не пришлось ей ходить под венец в кашемировке, не держал ее Колюшка под руку, ступая на церковную паперть, нет, не держал… И фата, одеванная лишь по престольным пивным праздникам, тятенькой купленная вместе с часами-ходиками на Кумзерской ярмарке, не потребовалась для Палашкиной свадьбы. Дак пусть фата хоть дочке достанется! Марьюшке… Вырастет, девкой станет. Пойдет в Троицу па деревне, народ поглядит на нее и скажет: «Вон, вон Палашкина-то дочерь! Идет, на голову-то хоть ендову с пивом ставь. Не прольет. Вот какая выросла Евграфова внучка…»
Так думала счастливая Палашка и не заметила, как уснула, не заметила, как Марья пристроилась рядом на вторую постель, но под то же кумачовое одеяло. Широкую семейную стегали прежде окутку!
Евграф помолился перед бобыльским Николаем-угодником и улегся на самой широкой лавке. Укрылся старой, но теплой шубой Самоварихи.
– Слава тебе, Господи, слава тебе… – услышал он шепоток жены. Никто не помешал спокойно уснуть троим Евграфовым подопечным, да и сам он, может, впервые за три года, уснул спокойно и крепко.
Тихая теплая ночь на родной стороне промелькнула, словно зарница. Вот прохлопал крыльями зоревой петух на верхнем сарае у Новожиловых. Встрепенулся и такую пустил трель, что ласточки в гнезде, свитом под стропилами, зашевелились спросонья и зачирикали. И пошла по деревне разноголосая птичья и петушиная музыка.
Евграф пробудился еще раньше, с первой утренней пташкой.
IV
Вот и еще одна ночь на родине мигнула Евграфу своим светлым июньским оком.
Поутру оглядел он жилье и бабье свое семейство, спавшее под кумачным покровом… Радостная слеза сама скатилась на бороду. «Слава Богу! – вслух произнес он. – Слава Богу…»
Жена пробудилась от этих слов, за нею Палашка. Одна Машутка спала крепко и сладко. На душе у всех было весело, хотя и умыться не из чего, и позавтракать ничего не нашлось…
Еще веселей чувствовал себя морской старшина, Марьин племянник Васька Пачин. Он прибежал в Шибаниху ни свет ни заря. Отпуск у Пачина заканчивался. Без свадьбы он не хотел возвращаться на службу. Пиво уже бродило в двух насадках Тониных братьев, и сегодня он срядился вести невесту в сельсовет расписываться. От него пахло одеколоном и папиросой.
– Божатушка, выручай! Либо ты, Пелагея Евграфовна! Бегите которая-нибудь к Антонине! Скажите, что я пришел! С Веричевым договоренность есть…
– А пошто сам не бежишь? – засмеялась тетка.
– Боюсь сам-то! Вдруг да она раздумала…
Давно ли шумела веселая свадьба в доме Никиты Рогова? По странному совпадению оба сына Ольховского красногвардейца Данилы Пачина женились в одной деревне и оба выходили в примы.
– Надо бы Зацепку запречь, – невесело сказал Евграф. – В тарантас бы да с колокольцами…
– Ладно, обойдемся без тарантаса. Добежим на своих двоих! А вы чего, наладились печь бить?
Евграф кивнул. Неожиданно Васька достал из кармана бумажник. Он подал Евграфу новенькую тридцатку. Евграф подумал, подумал и взял. Она краснела так ярко, она жгла обе ладони…
– Василей Данилович, возьму, ежели в долг! Пошлю сразу, как разживусь. Да и тебе бывать в деревне…
– Бывать, бывать, – усмехнулся краснофлотец. – Ежели войны не будет, приеду.
– А я скотину заведу, дай срок…
Васька не дал опомниться:
– Бери, божатко! Больше-то у меня пока нет, только на дорогу… И не рассуждай! Чай, не чужие…
Подскочила как раз Палашка, доложила, что «Тонюшка давно не спит, умывается».
Васька стремглав убежал к невесте, а Евграф вертел тридцаткой и так и эдак.
– Марья, что, ежели помочи сделаем? Помочами-то с печью управимся за один день… Спасибо Василью-то.
– Анфимович, гляди сам! Делай, как лучше.
На помочи тридцати рублей, пожалуй, хватило бы. Накормить да и вина сколько-то взять. Но самим на житье тоже ведь надо. Муки бы купить хоть с полпуда. У той же Самоварихи. В долг жить – последнее дело. Вот продала бы дочерь чего-нибудь из своего сундука. Хоть бы и ту же кашемировку. Нет, фату пусть не трогает… Может, еще и замуж выйдет. Вдруг да пошлет Господь какого-нибудь дурака. Бывало ведь и раньше, порченые девки замуж выхаживали. А ежели за вдовца, дак он взял бы и с малым дитем…
Об этом цельное утро думал Евграф. Думал про кашемировку и тогда, когда метали большой, воза на три, стог на пожне у Самоварихи. На обратной дороге наломали с Палашкой по ноше березовых веток на веники, уже для себя! А обедать опять пришлось идти к Самоварихе, то есть в чужой дом. Хлебали рипню с постным гороховым пирогом. Рипня-то ладно, идет петровский пост. Дело тут ясное… Но ведь не свое! Вот в чем дело. Евграф вроде у бабы в работниках. Не лезет в рот, да и только… Ко всему этому каждый день и как раз в обед ходили на агитацию то Митька Куземкин, то сам Игнаха, а сегодня заявились они оба сразу. Бедная Самовариха отбивалась от них, словно от оводов:
– Отстаньте от меня, отстаньте! Не пойду я в ковхоз, хоть золотом меня обсыпай! Чево я забыла в ковхозе-то?
– Все люди давно и дружно влились в коллектив! – громко сказал Игнаха. – Одна ты идешь против народа! И не стыдно тебе?
– Это пошто мне стыдно? – обиделась баба. – Я чужой хлеб не ем и до обеда не сплю.
Палашка с Марьей положили деревянные ложки, да и сам Евграф вышел из-за стола.
Насчет спанья до обеда дело касалось Митьки с Игнахой, а вот «чужой хлеб» Евграф принял на свой счет…
Игнаха туда-сюда ходил по избе. Галифе на сухой заднице передвигались туда-сюда. Прежние галифе, а вот сапоги были у него новые…
Митя набрал воздуху и с новой силой начал доказывать Самоварихе необходимость колхозной жизни:
– Из-за земли да из-за налогов ты сама в колхоз прибежишь!
– Не прибегу, хоть каменьё с неба вались!
– Прибежишь! – убежденно твердил Куземкин. – И твою сивую лошадь отымем!
– Нету такого закона, чтобы лошадей отымать! Нету!
Сопронов одобряюще молчал, и Митька осмелел еще больше:
– Есть закон! Вон уж и паспорт на твою кобылу выписан!
Митя приврал насчет кобыльего паспорта, и тут Самовариха недоуменно затихла. Рот у нее поплыл, как у ребенка, собравшегося реветь. Но ворота на крыльце как раз нечередником хлопнули. Перепутанный Миша Лыткин, неизменный колхозный сторож, он же «ординарец» Сопронова и Мити Куземкина, ступил на порог. Лыткину записывали за такую работу трудодни. (Счетовод Володя Зырин говаривал: «Калинин у нас кто? Всесоюзный староста. Я, к примеру, бухгалтер с дебитом-кредитом. А ты, Миша, у нас всенародный кульер». В ответ «кульер» только смиренно моргал белыми, как у козы, ресницами.)
Запыхавшийся Лыткин не разбирался, что в избе происходит:
– Игнатей Павлович, полномоченные! Послали за тобой, сидят пока в читальне.
– Кто? – обозлился Сопронов.
– А с наганом один! Вроде Скачков… Второй-то предрик Миколай Миколаевич… Здешний бывал…
– Ладно, не учи! – огрызнулся Сопронов. – Знаем и без тебя, кто здешний, кто приезжий.
Митю с Игнахой как ветром сдуло, а Евграф не сообразил с ходу, кто такой этот «предрик». Слово для него было новым.
Еще до «кульера» Палашка с Марьей выбрались из Самоварихиной избы и ушли с Машуткой домой. Евграф подождал, пока не уберется и Миша, после чего спросил Самовариху, согласна ли она накормить народ, ежели он соберет помочи для печного битья. И тем успокоил ее, слегка отвлек от кобыльего паспорта.
– Анфимович, какой экой разговор? Кликай хоть завтре! – Самовариха всплеснула руками. – Неужто не сварим овсяного-то киселя? Постное-то масло тоже у нас есть, а насчет вина ты уж сам смекай…
Миронов, ободренный, побежал в свою клетину. По дороге то и дело, как репей, цеплялось к Евграфу слово «предрик». «Здешний. Миколай Миколаевич… Господи, уж не Микуленок ли? Он и есть, больше и быть некому… И Скачков с ним приехал, тот самый… «Будешь моржам хребтины ломать!»
И Миронов припомнил сиденье перед судом в КПЗ, полузабытую встречу, где впервые гордо молвил такие слова: «Палашка парня родила, зовут Виталькой…»
Евграф ястребом залетел в свою избу. Он застал Палашку в слезах. Сундук был раскрыт, фата лежала на лавке. Посредине чисто промытого пола в куче зеленых березовых веток сидела Марья и молча вязала веники. Виталька… то бишь маленькая Марютка тоже сидела рядом с крохотным веничком в руках, она испуганно глядела то на мать, то на бабушку, то на Евграфа.
Евграфу сразу все стало понятно. Бабы без него решили судьбу дочкина приданого.
– Иди, иди, – заторопила матерь Палашку, – пока народ на обеде, а то уйдут на пожню.
– Куды идти? К кому? – Палашка, хватая фату, едва удержала рев.
Евграф сделал вид, что не слышит.
Марья сказала:
– А сходи-ко сперва к Зойке Сопроновой! Может, возьмет. Вынула из Палашкина сундука два стана белого, как снег, холста.
– Бери и эти два. Может, купит…
Холсты полагалось дарить будущему свекру и деверю. Теперь дочка понесет их вместе с фатой на продажу Зойке Сопроновой. Да и та возьмет ли еще? Неизвестно, что скажет и сам Сопронов, у него тоже денег не лишка. Люди говорят, он всю весну ждал, когда поставят на должность. И теперь ждет… Весь Петров пост ждет. Сказать или не сказать, кто в читальне сидит? Узнают и сами. Вся деревня, наверно, уж судачит и говорит, кто приехал.
Марья вязала веники. Евграф начал примеривать к матице новую жердку. Он вырубил ее накануне в частом ельнике. Палашка медлила уходить, всхлипывала как маленькая. Евграф молча топором корил еловую жердку, чтобы укрепить ее от матицы до задней стены. Но ведь ни долота, ни стамески! Все у Кеши осталось. К кому идти долото просить? Было стыдно ходить к соседям, клянчить то одно, то другое. Иной день и по два раза… Самовариха вон отдала Мироновым даже чугунок, чистый половик да старопрежнюю шубу дубленой овчины. А больше-то, пожалуй, и у самой у нее ничего нет! Одни кросна да мотовила. В Самоварихиной избе пусто. Иконы да ухваты, да тканые половики…
В сенях Евграф отыскал глазами железный заступ, взятый взаймы у Петруши Клюшина. Была бы печь с трубой, да если бы стекла в рамах, можно бы и осень прожить, и зиму перебороть в бобыльской избенке! Не простудить бы Марютку – вот что самое главное. И харчей пока никаких, кроме корзины прошлогодней репы из погреба Самоварихи.
Евграф не глядел больше в бабскую сторону. Вышел искать место, где копать глину. Палашка напрасно ждала отцовского слова, с плачем свернула фату, завязала ее в бумажный старый платок, схватила холсты под мышку и вон из избы. Побежала в деревню.
И тут не вытерпел Евграф Миронов, окликнул дочку:
– Стой, Палагия! Стой, кому сказано. Оставь кашемировку-то… А холсты неси…
– Ой, тятенька!
– Авось, с голоду не умрем… Вон попрошусь в пастухи заместо Гури. Гурю народ не станет держать. Говорят, на коров-то медвидь опеть выходил… Положь кашемировку в сундук, а уж с холстами-то и беги с Богом…
Много ли девке надо? Палашка отнесла фату обратно в избу и полетела с холстами как на крыльях. Кованый клюшинский заступ с хрустом разрезал дерн.
* * *
Палашка прилетела сначала в лавку к Зойке Сопроновой. На дверях лавки висячий замок. На хлебный мякиш приклеена бумажка. «Принимаетца сухое корье ива обращатца в Ольховское сельпо», – по складам прочитала Палашка и побежала в Поповку.
В доме по-блажному ревел Игнахин отрок. Он и не дал толком поговорить насчет холстов. Зойка вроде и купила бы, но она вновь была вся в синяках. На сенокос от стыда не хаживала. Видать, дорого обходилось ей то утро с деверем Селькой. Да и сам Селька еле остался жив. Спасло его то, что убежал он от Игнахи и ночевал у Лыткина. Чем питался, пока не уехал в Вологду учиться на ветеринара? Никто не знает. На курсы пристраивал Сельку тогдашний завсельхозотделом Микулин, и брат Игнаха не стал этому возражать.
На всю эту сопроновскую историю Палашке было наплевать да и только. Ей требовалось продать два стана холста, и она сбивчиво объясняла Зое свою просьбу. Рев уже подросшего сопроновского мальчишки глушил слова и все остальные звуки тоже глушил. Поняла Палашка только то, что спрашивать надо самого хозяина, что искать Игнатья лучше всего в читальне. Либо в церкви, куда переводят нынче эту читальню.
Палашка с холстами под мышкой побежала искать Игнаху…
В ядреной лошкаревской домине, где размещалась изба-читальня, которую топили, по словам Судейкина, «крашеными дровами», одной лестничной ступеньки по-прежнему не хватало. Придется Палашке поднимать сарафан и задирать ногу, перешагивая прогалызину. От Сельки Сопронова научились подростки подглядывать из-под лестницы, как девки и бабы перешагивают выбитую ступень. Палашка знала об этом и проверила, нет ли кого под лестницей. Подростков не было. Она поднялась вверх, но за дверями стоял такой мужской крик, пожалуй, что и с матюгами. Открывать двери она струсила…
Не одна она отступила сегодня назад от этих дверей! Никто не осмеливался зайти в читальню, по которой из угла в угол при всех ремнях грозно ходил Скачков. Председатель районного исполкома Николай Николаевич Микулин молча сидел на венском стуле. Одет Микулин был точь-в-точь как Скачков, то есть в суконную гимнастерку и галифе, но без нагана. Он изредка вставлял реплики в скачковскую говорю, вернее, в ругню.
– Подписку на заем вы тут провалили в Шибанихе, это бесспорно, товарищи!
– А шесть сталинских условий? – вставил Микулин.
Скачков, пахнущий кожаными ремнями и папиросами, метнул на Микулина злобный, хотя и мимолетный взгляд, не любил он, когда его перебивали. Игнаха в открытую усмехнулся. Скрипя хромовыми сапогами, Скачков ходил из угла в угол и отчитывал Митьку:
– Товарищ Куземкин, ваша «Первая пятилетка» позорно отстала по плану силосования! Вы палец о палец не стукнули, чтобы засилосовать план! Вы саботируете постановления партии!
– И правительства, – не к месту добавил Микулин.
– Никто мне не давал такого распоряжения, товарищ Скочков, – робко оправдывался Куземкин, ерзая на сосновой скамье. Он говорил Скочков, а не Скачков. Митькино ерзанье и такое произношение больше всего и злило уполномоченного Скачкова.
– Как это никто не давал? Как это распоряжения не было? Силосует вся Вологодская область!
– Телеграмма была послана всем сельсоветам, – теперь уже резонно добавил Микулин и вдруг вспомнил, как давно когда-то Петька Гирин, нарядившись покойником, уснул на этой самой скамье и напугал отца Николая. Микулин не мог спрятать улыбку при этом воспоминании, что в свою очередь не ускользнуло от бдительного Скачкова. Но следовательский гнев обрушился не на Микулина, а на Куземкина и Сопронова. Микуленок почувствовал неправоту и тоже заерзал.
– Будете отвечать на бюро! – крикнул следователь, но включился Игнаха:
– Телеграмм нам сюда не было! – Злой на Скачкова и на председателя сельсовета Веричева, Сопронов поддержал сейчас Митьку Куземкина.
– А вас, товарищ Сопронов, я в данный момент не спрашивал! С вами у меня разговор по отдельности! – У Скачкова дернулись то ли ворошиловские, то ли папанинские усы.
Сопронов презрительно ухмыльнулся, но смолчал, и Скачков продолжал «распеканцию». (Так в местном кругу счетовод Зырин окрестил ругань уполномоченных. Володе, кстати, с самого начала велено было выйти в коридор, он сперва разобиделся, но позже, пусть и не сразу, остался доволен. Ушел домой.)
Силосом и займом скачковская распеканция не закончилась, перешла на «повсеместное разведение кроликов», затем на взимание страховки, потом на мельницу и на гарнцевый сбор, а завершилась шестью сталинскими условиями и опять же Самоварихой:
– Под вашу личную ответственность, товарищ Куземкин и особо, товарищ Сопронов! Имейте в виду…
Игнаха, конечно, знал, что надо «иметь в виду». Веричев, бывший лесник и теперешний предсельсовета, отнюдь не спешил ставить Игнаху в председатели сельпо. Ольховицу надо было завоевывать хитростью и терпением. Игнаха, сжав челюсти, промолчал, а Митька облегченно вздохнул. Все-таки не ему одному придется теперь отбрехиваться за упрямую бабу.
– Предлагаю в бесспорном порядке завтра же собрать общее собрание по всем этим вопросам! – Скачков перестал ходить. – А тебе, товарищ Сопронов, есть еще задание отдельно. Срочно выявить, что известно про кулацкое хозяйство Ивана Рогова. Пришла телеграмма из области, Павел Рогов сбежал с высылки… Не исключено, что вооружен и опасен. В каком состоянии твое оружие?
– Наган у меня давно сдан! – не выдержал наконец Игнаха. – И вам, товарищ Скачков, это давно известно. В тюрьму с наганом не садят…
Скачков как ни в чем не бывало проглотил сопроновскую пилюлю. Он уже и забыл, что сам оформлял дело на Сопронова за троцкистский уклон. Скачков подзабыл, а вот Сопронов-то помнил. Нет, не мог он забыть такой скачковской несправедливости и сейчас. Испытывая нарастающую боль в темени, почуял приближение припадка.
– Хорошо, хорошо! – как бы примиряюще сказал Скачков и уселся за стол. – Ружья охотничьи есть в Шибанихе? Нет? Есть в Ольховице! Если потребуется, обойдемся и ружьями. А пока… Вызвать сюда этого вашего поэта… Как его? Шумейкин, Бадейкин…
– Судейкин! – подсказал Митя. – Акиндин Ливодорович.
– Вот, вот, Судейкин. Одна нога здесь, другая там.
– Счас!
– А ты, товарищ Сопронов, тоже можешь идти! Готовь доклад к завтрашнему собранью.
Скачков с Микуленком остались на какое-то время одни. Когда Киндя Судейкин в сенокосных портках, сопровождаемый перепуганным Митькой, явился в читальню, поздоровался и встал посреди пола по стойке «смирно», следователь по-собачьи почуял издевку. Он подошел к Судейкину лоб в лоб, достал из кармана какой-то листок и сунул мужику в руки:
– Ну-к, прочитай, чего там написано! А ты, Куземкин, слушай!
– Я без очков-то не вижу, таварищ Скочков! – засуетился Киндя.
– Тогда я сам тебе прочитаю! – Следователь выхватил у Кинди листок. – Слушай!
Мы по берегу, по берегу,
Милиция за нам,
Оторвали… яйца,
Положили в карман.
– Ну? – гаркнул Скачков. – Показывай, где эти милицейские яйца? Выворачивай все карманы!
Киндя хихикнул:
– Так, таварищ Скочков, они у меня это… карманы-то с дырами. Ежели и были, дак давно выкатились…
Это совсем взбесило начальника.
– Ты сочинил?
– Что ты, таварищ Скочков! – перепугался Киндя. – Я такой частушки не слыхивал.
– А кто пел, когда в дороге плясали? Играл счетовод Зырин, а ты выпевал!
– Не знаю, таварищ Скочков, ничего не помню. – Киндя от страха начал заикаться. – Откуды мне чево знать? Частушки-ти поют у нас все поголовно, и робята, и девки. Большие и маленькие…
Плясал ты в день Петра и Павла? Когда Рогова на суд вызвали? – Скачков назвал деревню. – Гляди у меня, допляшешься! Вон, петух пел, пел да попал в суп!
– Не помню, таварищ Скочков, ничего не помню…
– Вишь, как у тебя память отшибло! Зато у нас память хорошая. Иди, иди, да впредь думай, чего поешь…
Киндя по-заячьи ускочил за лошкаревскую дверь.
В Шибанихе стояла светлая комариная ночь. Коростели неустанно соревновались, кричали у бань в раннем тумане. Читальню Куземкин закрыл на замок, как хлебный амбар. Скачков пошел ночевать к Мите, Микулин отправился к родной матери.
Назавтра в колхозе «Первая пятилетка» намечалось общее собрание. Лыткин бегал среди ночи по всей деревне. Ему было велено под расписку в каждом доме сообщить о собрании. Но все люди, вплоть до Евграфа и единоличницы Самоварихи, давно спали. Лыткин стучал по воротам довольно робко.
* * *
– Прохвосты, – про себя ворчала Митысина матерь. – Экую-то баскую наволоцьку испохабили…
Она стелила Скачкову в сеннике, где стоял сундук, из которого Куземкины братаны стибрили наволочку и использовали вместо первомайского флага. Прицепленная на крест, она и сейчас болталась над храмом, хотя и выцвела добела.
Старуха втащила в сенник соломенную постель, приставила к сундуку избяную скамью и две табуретки. Принесла и единственную пуховую подушку, насквозь пропахшую Митькиным потом.
Как бы сейчас пригодилась та новая наволочка! «А лешой с ним, до утра проспит!» – подумала она про уполномоченного, курившего вместе с Митькой на крыльце.
После самовара председатель отвел начальство в этот сенник. Скачков называл такие полутемные мужицкие помещения чуланами. Он не однажды использовал их заместо КПЗ. Никаких простыней, конечно, и духу в чулане не было. Но Скачков давно привык ночевать в поездках в любых условиях. Нужда научит калачи есть. Он снял портупею с ремнем и наганом, уложил их в головах. Затем стянул с пропотелых ног сапоги и командирские галифе, размышляя о завтрашнем общедеревенском собрании. Одеяло тоже воняло столетними деревенскими запахами. Правда, в крохотное окошечко с воли тянуло чистым луговым ароматом. Только дадут ли ему поспать шибановские комары? Они вон какие кусачие, не хуже тутошнего кулачья… С такой мыслью Скачков отключился от собственного тела и до полуночи растворился в небытии. К полночи комары вернули его в здешний мир. Он заткнул окошечко своими же портянками, но комаров летало уже порядочно, и они даже в темноте знали, куда лететь и на какие места садиться.
Скачков матерился во сне. Прятал лицо под вонькое стеганое одеяло и на заре снова заснул. Петух разбудил его с третьей или четвертой попытки.
У Куземкиных не было даже глиняного умывальника (разбили, что ли?), и Митька поливал начальству из медного ковшика:
– Таскать, товарищ Скочков, утиральник висит на гвоздке, на шкапу! Самовар вот-вот скипит!
Скачков хотел было отмолчаться, но больно уж хорош начинался денек. Солнце так и плавилось. Комары исчезли. Где-то за деревней пели женщины, видимо, сенокосницы, уходящие в поле. И Скачков бодро спросил:
– Ты, председатель, когда теперь жениться намерен?
Он знал откуда-то про Митькину неудачу с первой женитьбой.
– Пока, таварищ Скочков, таскать, нет необходимости.
– Ну, ты мне не ври! В твоем возрасте эта необходимость всегда есть. Давай из высланных любую тебе сосватаю!
И захохотал Скачков, а Куземкин испугался и подумал: «У этого духу достанет… Вдруг жениться заставит?» Правда, о женитьбе, после того как сестра вышла замуж в Залесную, Митька и сам подумывал. Только все кандидатки, которых предлагала мать, ему не нравились. Вон Тонька-пигалица, пожалуй бы, ничего, да моряк Васька Пачин Митьку опередил. У них вон уже и пиво сварено, увезут пигалицу в Ленинград… Учительница Марья Александровна подошла бы и по характеру, и баская. Да ведь не пойдет, курва! Не стоит и свататься… Не пойдет.
Полдюжины яиц, сваренных в самоваре на полотенце, черный хлеб с солью и сковородка жареных маслят – вот и весь куземкинский завтрак. Скачков облупил яйцо, второе. Деревянной ложкой хлебнул скользких грибов. Они ему так понравились, что он один, без Митьки, управился со всей сковородкой. (Братана Митька заранее, чтобы не смущал начальство, отправил в ольховскую кузню по какому-то делу.) Старуха угодливо потчевала ночлежника еще и молоком. Скачков вместо горячего чаю хлопнул полкринки. Не знал следователь, что будет с ним дальше после молока и свежих грибов…
Но пока он бодро встал из-под святых, согнал назад складки гимнастерки под широким ремнем и кожаной кобурой. Поглядел на свои карманные, щелкая крышкой:
– Так, значит, пока народ не собрался, идем в контору! Поглядим, что у тебя с гарнцем… Какая есть документация…
Митьку бросило в холодный пот: никакой документации по мельнице и по гарнцевому сбору у него не было. Счетовод Зырин никакой платы с помольщиков не взимал. Мололи зерно бесплатно и кто попало.
С этим (будь он трижды неладен!) гарнцем попался бы Митька как кур в ощип, если б, во-первых, не Игнаха, не заем да силосная кампания (эта тоже будь трижды неладна), во-вторых, если б не Самовариха с ее сивой кобылой, в-третьих, и это был, пожалуй, «решающий фактор», если б не жареные обабки. Грибы-то и спасли Митьку на первых порах и от распеканции и от полного краха.
Впрочем, полного краха так и не избежал председатель колхоза Дмитрий Куземкин, но это случилось уже под вечер.
Утром же, когда еще и оводы не летали, а над Шибанихой в бездонном голубом небе не обозначилось еще ни одного облачка, в конторе, то бишь в доме Евграфа Миронова, собралось всего три человека: «кульер» Миша Лыткин, колхозник Кеша Фотиев и единоличница Самовариха. Трое сидели на лавке у самой двери. Начальство, тоже трое, не считая Скачкова, разместилось спереди в красном углу. Сопронов, Куземкин и Зырин. Скачков запретил курить на собрании, и курильщики поочереди шмыгали на улицу. Кеша Фотиев обратился к Игнахе:
– А помнишь, Павлович, как в ковхоз-то поступали? Ведь мы товды все вопросы решили на свежем воздухе!
Сопронов отмолчался, а председатель Куземкин вопросительно поглядел на Скачкова. Тот хмуро кивнул. Начали выставлять столы, скамейки, лавки и табуретки прямо на улицу. Сделали несколько лавок из досок и чурбаков, и все семеро разместились в прежнем порядке. Ни одного человека на собрании не прибавилось.
– В такой ведреный день никто и не придет, – заговорил было Володя Зырин и тут же осекся под ястребиным взглядом Скачкова.
– То есть как это не придут?
– Да так… Сено, вишь, хорошо сохнет.
Самовариха ерзала на скамье:
– Игнатей да Павлович, и у меня сено-то со вчерашнего на валах. Отпустил бы меня-то…
– Вызывал не я, не мне тебя и отпускать! – вызывающе молвил Сопронов.
Скачков понял намек и громогласно заявил:
– Вызывал я! Хочу тебя, гражданка, спросить. Почему в артель не вступаешь?
Самовариха поправила холщовый передник:
– Так ведь, батюшко, говорили, што ежели желанье есть, дак вступай, а не хошь, дак как хошь. Али новое постановленье вышло?
– Вышло, вышло! – включился Митька. – Не будешь вступать, полосы у тебя обрежем! Поскольку посередке общественного.
– Ну, дак ведь уж чево и сделаешь…
– А чем будешь корову с кобылой потчевать? – вскипел Митька, но затих под тяжелым скачковским взором.
– Правильно говорит товарищ председатель! Обрежем… И сено нынешнее конфискуем. И тебя как единоличницу государство жалеть не станет! Учтите это на первый случай. Можете идти! На собрании вам сидеть не положено. Нельзя!
– Это как, батюшко, нельзя? Льзя. Сроду такого не было, чтобы на общем сходе да нельзя…
– А ты иди и не обсуждай! – сказал Кеша Фотиев. – Людям виднее.
– Да где люди-ти? – заругалась Самовариха. – Ты, што ли, Осикретушко? Никово и народу нет…
Она и рада была, что единоличнице на собрании сидеть не положено, но еще долго не уходила из мироновского заулка.
Народу и впрямь никого. Стремительные стрижи со свистом летали над пустыми скамейками. К полудню даже сморенные жарой петухи перестали петь по Шибанихе. Скачков начал терять терпение:
– Под твою ответственность! – приказал он Куземкину. – Чтобы через два часа народ был!
Скачков быстро исчез в открытых конторских, то есть мироновских, воротах. Митька уже знал, куда побежал следователь. Переглянулся с Володей Зыриным и послал Мишу Лыткина к лошкаревскому дому:
– Миша, иди погляди, не у читальни ли собираются? Ежели нет, дак беги на пожни, вели все бросать.
– Да счас все на обед придут.
– Хоть обед, хоть паужна, а чтобы все шли суда!
Игнаха Сопронов молчал, только барабанил пальцами по широкой мироновской столешнице.
– Что думаешь, Павлович, как быть нам на данный момент? – спросил Митька. – Ведь не придут, пока сено не скопнят да стога не сметают… Вечером только.
Игнаха хмуро молчал. Он думал сейчас, как бы еще больше насолить следователю, по вине которого ему пришлось побывать в тюрьме как троцкисту и левому перегибщику. Хорошо, что быстро разобрались. Есть кто и поумнее Скачкова…
Следователь долго не появлялся из нужника. Наконец, бледный и слегка осунувшийся, вышел и сел за мироновский стол, стоявший перед крыльцом.
– Ну, Куземкин, живо давай бумаги по гарнцу! Пока я тебя не арестовал за эти грибы…
Предрик, еле сдерживая смех, тихо спросил о чем-то Сопронова. Митька окончательно растерялся, но Володя Зырин подмигнул своему председателю и твердо сказал:
– Товарищ Скачков, документы по нашей ветрянке вытребовал Веричев к себе в сельсовет. Все бумаги по гарнцу свезены вышестоящим.
– Хорошо, я ознакомлюсь с ними у Веричева на обратном пути. Товарищ Сопронов, как у вас дело с докладом?
– Никаких докладов я не готовил и готовить не буду! – огрызнулся Игнаха, хотя знал, что так разговаривать с начальством – все равно что плевать против ветра.
Скачков недоуменно поглядел на Сопронова. В глазах его мимолетной искрой мелькнула ярость, но он неожиданно миролюбиво сказал:
– Ну, дело хозяйское. Будешь докладывать на бюро райкома.
– И доложу. Все доложу, товарищ Скачков, и о левом уклоне, что мне приписали, и про сегодняшнее собранье!
Митька и Зырин глядели на перепалку с открытыми ртами. И откуда у Игнашки такой гонор? Худые шутки со следователем, хоть левый уклон возьми, хоть правый. Но Скачков неожиданно для всех предложил примирение:
– Ладно, ладно, товарищ Сопронов! Кто прежнее помянет, тому глаз вон.
Игнаха отвернулся. Он не собирался забывать прежнее. Давно не видал он Якова Меерсона, переведенного из района прямо в Архангельск. Теперь тот, может, уж в самой Москве. Но и без Якова Наумыча Сопронов знал, что ему делать, куда и о чем писать. Давным-давно с большим трудом он выпросил у Веричева листок фиолетовой копирки и послал свою объяснительную сразу в два московских адреса: секретарю ЦК Кагановичу и товарищу Сольцу в Контрольную комиссию.
Он послал бумаги еще до сенокоса. И нынче терпеливо ждал столичных ответов. Он знал, был уверен, что рано или поздно ответ придет… Сначала на обком, после на райком. И еще неизвестно, как это все отзовется на следователе Скачкове…
– Не соберутся, пока стогов не смечут! – сказал Игнаха и без разрешения ушел домой.
Предрик Микулин переглянулся со следователем, и оба подались в избу.