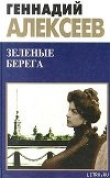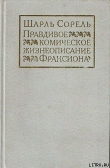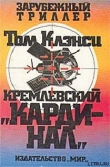Текст книги "Час шестый"
Автор книги: Василий Белов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– А я этого парня Васькой назвал. В честь твоего братана… Как он тогда с Дымовым-то разделался, любо-дорого! Больше в деревню Акимко не показывался.
– А может, бывал? – усомнился Павел.
– Нет, Павло Данилович, не бывал… Вчерась, правда, в церкви плясал, дак пришел в Шибаниху по другой причине…
– А по какой, скажи-ко мне, Иван Федорович?
Но Ванюха Нечаев так разгорячился, что разбудил младенца.
– Не та у тебя Верка! Зря и думаешь! Давно бы вся деревня знала, если бы скурвилась баба… Да вот сестра Людмила тебе скажет лучше меня!
Людмила Нечаева как раз открыла двери в избу. При виде Павла она чуть не уронила ведро с водой, охнула, а Нечаев проговорил:
– Сбегай-ко за Верой Ивановной! Да поскоряя! Скажи… так и так…
Людмила мигом исчезла.
Павел едва успел добрить правую щеку, жена прибежала в слезах. Павел Рогов спешил. Он сказал Нечаевым: «Прощайте!» и побежал из избы. Сдерживая рыданья, Вера Ивановна вышла за ним на улицу.
Иван Нечаев выскочил на крыльцо:
– Бери, Данилович, мою бритву-то! Лишний раз вспомнишь на чужой стороне.
И сунул в карман Павла футлярчик с бритвой. Мужики обнялись и поцеловались еще раз. Павел послал плачущую жену к Судейкину:
– Пусть даст хоть один листок! Он знает, какой… Я буду около мельницы!
И бегом устремился из деревни в поле. Вера побежала к Судейкину.
Дождь прекратился. Сплошные тучи шли далеко где-то, лесной стороной. Но ветер все так же безжалостно рвал черемухи и березы, бесчинствуя в шибановских палисадниках.
Карько, привязанный Жучком на отаву, высоко вскинул голову. Мерин зорко глядел на Павла, прядая ушами.
Павел бежал к своей мельнице.
Крылья, подпертые всего одной подпоркой, вздрагивали, словно бы порывались в небо. Павел чувствовал, что ветряная сила вот-вот вышибет эту ненадежную подпорку, хотя ветер дул на мельницу сзади, не спереди… Вдруг сильный порыв с тыла слегка сдвинул крылья, подпорка упала. Крылья неожиданно пошли… в обратную сторону. Внутри мельницы что-то сломалось и хряснуло. Что же там так сильно треснуло? Вал на секунду застопорился, и вдруг он снова пришел в движение, крылья пошли в обратную сторону, а внутри мельницы затрещало еще сильнее. Павел бросился сворачивать мельницу с жестокого тыльного ветра. Скорей, скорей! Он переставил дуплю с одного столбика на другой, накинул на нее веревку, которая воротом поворачивала всю мельницу вокруг стояка. Где ворот? Вот он, брошен в траву. Павел начал накручивать на дуплю веревку. Мельница тихо, но все же начала сдвигаться, только было уже поздно. Когда веревка вся намоталась, Павел перенес дуплю на очередной столбик. Он продолжал ставить свое детище боком к ветру. Странно, крылья все крутились в обратную сторону, хотя внутри что-то трещало, стопорило, мешало. И сколько Павел ни ставил мельницу боком к ветру, крылья продолжали крутить вал против часовой стрелки. Но вот внутри перестало трещать. Там, видимо, было уже все переломано, а дьявольский ветер тоже менял свое направление по мере того, как Павел сворачивал мельницу. Он в отчаянии бросил веревку и ворот… Вера Ивановна не стала даже утешать мужа. Павел обнял жену:
– Прощай…
Она совала тетрадку Судейкина в карманы мужа. Павел не заметил, как отцепила она от мочек свои серебряные сережки и опустила их в какой-то его карман. Рыдания душили Веру Ивановну. Кто-то бежал от деревни к мельнице.
– Не плачь! Жди письма… Буду жив, напишу.
Павел заплакал и сам. Уже не один, а двое бежали по полю. Кто?
Павел Рогов бросился к лужайке, где был привязан мерин. Выдрал тычу, смотал веревку и подвел мерина к чурбаку, оставшемуся после строительства.
И прыгнул на спину мерина вместе с веревкой и тычей. – Ну, милой, теперь выручай! Карько почти с места пошел в галоп. Они помчались в сторону Ольховицы.
Беглец рассчитывал за одну ночь добраться до железной дороги, уехать куда-нибудь в Сибирь или на Урал.
А крылья мельницы все шли, шли в обратную сторону, окончательно ломая шестерни и пальцы пестов.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
За одну, хотя и длинную осеннюю ночь, Павел Рогов не смог прискакать к железной дороге. Только к вечеру следующего дня они с Карьком лесными проселками добрались до железнодорожного разъезда, где останавливался лишь пригородный поезд. Павел боялся показываться в райцентре. Нет худа без добра! На разъезде ему встретился знакомый цыган, продавший когда-то Рогову тесные сапоги. Цыган попросил продать веревку, на коей Жучок привязывал мерина на отаву. Павел вручил цыгану не только веревку, но и всего мерина. Взамен попросил лишь купить билет на дачник до Вологды. Конечно, цыган торговаться не стал. Сделка свершилась за две минуты. Как дальше повел себя Карько? Никто не знает. Скорей всего цыган променял его в каком-либо колхозе, а мерин сбежал обратно в «Первую пятилетку». Из Вологды Павел безбилетником подался в сторону Буя.
Бежавший из-под надзора, он сумел уехать на уральскую стройку, сумел раствориться среди тысяч таких же как он. На первых порах выручили серебряные сережки Веры Ивановны да еще тетрадка Акиндина Судейкина.
Вера Ивановна с двумя маленькими сыновьями по вызову приехала к нему в Челябинск.
Ее мать Аксинья доживала свой век в роговской бане, брат Сережка вместе с братом Павла Алешкой там же умерли от скарлатины в 1936 году. Матрос, приехавший за женой из Мурманска, не захватил ребятишек живыми. Он увез Тоню на север. После неудачного поступления в Ленинградское военно-морское училище Васька служил сверхсрочником на подводной лодке под командованием В. И. Платонова, выпускника Фрунзенского училища, будущего адмирала. Мечта Пачина стать офицером осуществилась лишь во время Великой Отечественной, хотя он и погиб в одном из десантов. Впрочем, брат его Павел тоже погиб. Он воевал вместе с Нечаевым. И оба сложили свои буйные головы под Ленинградом.
Легче назвать тех шибановских и ольховских жителей, кто не погиб.
В августе 1933 года подводную лодку по Беломорканалу перегоняли в Мурманск. Быть может, у Васьки Пачина екнуло сердце, когда корабль проходил мимо могилы отца Данилы Семеновича. После «прямых и наклонных ряжей» Беломорской «канавы» Данило Пачин проштрафился в связи с бегством лошади, отчего и угодил в БУР. Данила Семеновича как раз из-за этого перевели из ударников в штрафники и лишили льготных зачетов. Он упал духом, простудился около Шаваньской плотины и заболел, не дождавшись свободы. Его похоронили недалеко от канала в 1933 году.
Около того же времени постановлением правительства были награждены орденами все начальники. Впрочем, это постановление стоит привести дословно:
Постановление
Центрального исполнительного комитета Союза ССР
о награждении орденами Союза ССР
работников, инженеров и руководителей
строительства Беломоро-Балтийского канала
имени тов. Сталина
Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет: Наградить орденом ЛЕНИНА:
1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича – зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича – начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давидовича – начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
4. ФИРИНА Семена Григорьевича – начальника Беломорско-балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
5. РАППОПОРТА Якова Давидовича – зам. начальника Беломорстроя и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
6. ЖУКА Сергея Яковлевича – зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.
7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича – пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.
8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича – зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 587 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.
Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М. КалининСекретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР А. ЕнукидзеМосква, Кремль, 4 августа 1933 г.
Акиндин Судейкин был судим и сидел шесть лет за веселые «контрреволюционные» байки. После тюрьмы он жил совсем недолго.
Палашка так и не смогла выйти замуж. Она родила второго. Но и за «Витальку» алименты Микулину не были присуждены. Благодаря райкому дело до суда не дошло. Сам же Евграф, хотя и ненадолго, побывал в заключении еще раз. Его судили в 1935 за крупный падеж колхозных телят. Тесть Павла Иван Никитич Рогов без зубов вернулся-таки с Беломорканала, и его тоже ставили сперва в бригадиры, затем в председатели. Во время войны он умер.
Счетовод Зырин был ранен под Сталинградом, вернулся домой и вскоре вместе с гармошкой уехал в Архангельск, где и женился. Он перетянул туда многих шибановцев.
Судьба Григория и Антона Малодубов автору неизвестна.
Груня Ратько выдала дочерей за местных женихов. Высланные украинцы жили обычно около Северной железной дороги. После войны многие уехали.
Сопронов-младший стал ветеринаром, благополучно отслужил действительную и уехал в Северодвинск (в те времена Молотовск). Веричев почти до самой своей смерти был на разных должностях в Ольховице. Микулина перевели в область, в какую-то торговую или финансовую организацию. Из Вологды он уехал куда-то в другую область, и следы его затерялись.
Петька Гирин, по прозвищу Штырь (он же Гиринштейн) был расстрелян чекистами еще в 1934 году. Шустов после войны приезжал с дочерью в Ольховицу. Он походил вокруг большого своего дома, навестил родню в деревнях и быстро уехал.
Во время войны почти вся Шибаниха была выбита на фронтах. Только Игнатий Сопронов числился на брони. Он служил в районе уполнминзагом и позднее окончательно заболел, то есть сошел с ума. Врачи называли его психастеником. Ему, как он объяснял, обычный кол казался иногда трехрогими деревянными вилами. Такими вилами мечут обычно стога или соломенные зароды. Жучок, наоборот, избавился от Кувшинова[13]13
Поселок под Вологдой, где находится психиатрическая больница.
[Закрыть] уже к тридцать четвертому.
Что стало с ярыми русскими и еврейскими якобинцами? Революция, подобно римскому богу Сатурну, долго пожирала кровных своих деток. Лузин, Шумилов, Ерохин были расстреляны в 1937 году. Фигура Сталина, пытавшегося освободить Москву от интернациональных сетей, еще не однажды возникнет на страницах хроникальных, научных и художественных произведений. Конечно, при условии, что России суждено выстоять в нынешней, не менее безжалостной схватке с Западом и Востоком.
Каллистрат Фокич Смирнов разделил участь Лузина и Ерохина. В его следственном деле решающим доказательством вины оказалась девичья частушка, в фискальных целях записанная им в Шибанихе. Скачков бесследно из района исчез. Стареющие московские палачи типа Шиловского еще и в 60-х годах служили швейцарами в ресторанах.
По официальной статистике десятки (по другим подсчетам, сотни) тысяч русских селений исчезли с лица земли. Куда? Пусть решит сам читатель…
Шибаниха исчезла из нашего мира. Исчезли и все сорок два председателя, за шестьдесят лет побывавшие на этом отнюдь не сладком посту. Колхоз трижды менял свое название. Однажды, кажется при Хрущеве, «Первую пятилетку» так укрупнили, что ее размеры превысили площадь такого государства, как княжество Лихтенштейн. При Брежневе стараниями демократических академиков деревня стала неперспективной. У последних колхозников обрезали электропровода. А ведь совсем незадолго до этого шибановцев понуждали всем миром строить коммунизм. На реке вместо «рендовой» мельницы колхозники действительно героическими усилиями выстроили собственную электростанцию. И вдруг Шибаниха становится неперспективной. Не стало ни электростанции, ни Шибанихи. Десяток оставшихся в живых старушонок демократы усиленно потчуют землею и фермерством.
История деревни смахивает на дурной сон. Трагична, безжалостна судьба буквально каждого крестьянского двора, каждой семьи. Из этого правила исключений не существует.
На этом автор завершает хронику русских судеб.
К сожалению, ему неизвестен жизненный путь Ипполита, смелого послушника Валаамского монастыря. Пусть создадут хронику Валаама сами монахи. Быть может, она уже написана.
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ И ЕГО ТРИЛОГИЯ
О СУДЬБАХ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Василий Иванович родился 23 октября 1932 г. в деревне Тимониха Вологодской области в крестьянской семье. Работал в колхозе, учился в ФЗО, был столяром, плотником и электриком в г. Ярославле. Проходил военную службу в частях ОСНАЗ под Ленинградом. Работал на заводах Урала и в Вологде. В 1964 г. окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве.
Печататься начал с 1956 г., сначала как поэт, затем перешел в основном на прозу. Часто выступает как публицист. В 1961 г. вышел в свет поэтический сборник В. И. Белова «Деревенька моя лесная». Затем появляются сборники его рассказов «Знойное лето» (1963 г.), «Речные излуки» (1964 г.).
Широкую известность приобрели последующие произведения В. И. Белова—повесть «Привычное дело» (1966 г.) и «Плотницкие рассказы» (1968 г.).
Почти всякий большой прозаик в душе поэт, о Белове это можно сказать особенно уверенно. Проза его лирична и потому притягательна. В рассказах и в повести «Привычное дело» раскрывается характер крестьян Русского Севера, которые, несмотря на пережитые невзгоды, сохраняют «теплоту добра».
Особо следует отметить книгу В. И. Белова «Лад. Очерки о народной эстетике», в которой он с глубоким знанием дела описывает особенности жизни и быта крестьян Русского Севера, пронизанные подлинной красотой. Эта книга переиздавалась неоднократно, в том числе в красочных подарочных изданиях.
В 80-е годы в журнале «Наш современник» печатается роман В. И. Белова «Всё впереди» о жизни российской интеллигенции (ученых, врачей) конца XX века.
В 1970—1990-е годы в СССР и России выходит в свет около 50 книг и изданий собрания сочинений В. И. Белова. Среди них сборники повестей и рассказов, в том числе юмористических и отдельно – детских. Его произведения охотно печатают и центральные издательства в Москве, а также издательства Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Кишинева, Кургана. Они нередко появляются на страницах ведущего русского журнала «Наш современник», издаются в «Роман-газете».
В 1983 г. издательство «Современник» выпускает его «Избранные произведения» в 3-х томах, а в 1991 году увидело свет 5-томное издание классика русской литературы.
В 1993 г. выходит сборник В. И. Белова «Внемли себе. Записки смутного времени», в котором он выступает как эссеист. В сборнике – размышления о причинах распада СССР, о русской деревне и судьбах крестьянства, описание встреч автора с государственными деятелями.
В 1997 г. издана книга В. И. Белова «Пропавшие без вести» (рассказы и повесть). Тонким лиризмом проникнут рассказ «Душа бессмертна», опубликованный предварительно в журнале «Наш современник». В повести «Медовый месяц» рассказывается о жителях одной из деревень Русского Севера в период начала Великой Отечественной войны. Три девушки – Фаинка, Маруся, Киюшка – были бестолково посланы «рыть окопы». Трогательно описание их злоключений, музыкально передан их северный говор, в эпизодах повести, как всегда у Белова, раскрываются прекрасные черты русских крестьян – трудолюбие, доброта, скромность, щепетильная честность.
В. И. Белов – лауреат Государственной премии СССР, премий им. Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова, его произведения переведены на иностранные языки и изданы во многих странах мира.
Верность идеалам добра и справедливости, любовь к своему народу, восприятие с детства лучших сторон русского национального характера, все предшествующее творчество естественно привели Василия Белова к созданию трилогии, состоящей из романов «Кануны» (1978 г.), «Год великого перелома» (1994 г.), «Час шестый» (1998 г.).
Одной из великих загадок и феноменом человечества является русское крестьянство. Собственно, на протяжении столетий понятия «крестьяне» и «русский народ» почти совпадали, поскольку крестьяне составляли 80–90 % народа. Опять же, русские крестьяне выделили из своего состава основную часть казачьего сословия, составляли на протяжении веков основную часть русской армии. Веками русские крестьяне жили в гармонии с суровой природой, обеспечивая своим трудом создание всего необходимого для жизни и своей, и всей страны. В основном их усилиями было создано крупнейшее в мировой истории государство – Российская империя, ставшая родным домом для 180 народов Европы и Азии. Русские крестьяне создали великую культуру – народную музыку, живопись, поэзию, прикладное искусство.
В начале ХVII в. в России установилось крепостное право, случилось это много лет спустя после господства крепостного права в Западной Европе (X–XV вв.). Правда, на Русском Севере, в Сибири, в ряде других районов крепостного права никогда не было. Крепостное право, где оно имелось, сделало русских крестьян обездоленными, затруднило им доступ к высшему образованию, высшим постам в государстве. Но вот в 1861 г. крепостное право отменяется, и крестьяне постепенно приобщаются к высотам образования, привносят в элитные классы здоровые гены русского народа. Насколько талантливы русские крестьяне, говорит тот факт, что они дали самых ярких представителей русской культуры во всех ее областях. Ломоносов в науке, Шаляпин в музыке, Есенин и Шолохов в литературе, Коненков в скульптуре, Георгий Жуков в военном искусстве, Юрий Гагарин – в числе первооткрывателей, многие другие виднейшие деятели культуры России родились и выросли в русском крестьянстве.
Особенной статью отличались потомки новгородцев – крестьяне Русского Севера, от Вологодчины до края полярных морей. Здесь был климат суровее, чем в центре или на юге России, а потому жизнь требовала особого мужества и благородства. И крестьяне здесь ставили деревянные храмы божественной красоты, сделанные одним топором без единого гвоздя, плели тончайшие в мире кружева и сбивали лучшее в мире сливочное масло. Еще в XI веке русские поморы освоили берега Ледовитого океана до бассейна Печоры и проникли на Восток за Уральские горы, в ХIII в. через Карское море они проникли на Ямал, а в ХVII веке вместе с казачьим сословием освоили все северные и восточные побережья Сибири.
Но вот наступил железный XX век. В России произошли бурные социально-национальные катаклизмы: Февральская и Октябрьская революции, гражданская война, коллективизация, горбачевская «перестройка». В XX веке на Россию пали крупнейшие тяготы двух мировых войн. Большие страдания выпали в этом железном веке на долю русских крестьян.
На Русский Север и в другие края России явились представители «пролетарской» власти в кожаных тужурках и с маузерами на боку, с крикливыми лозунгами и трудно произносимыми фамилиями. Явились для того, чтобы сбрасывать колокола и кресты с храмов, грабить и заточать в лагеря за непонятные провинности, разорять земли с волшебной красотой природы и гармоничной с нею неповторимой рукотворной красотой, созданной проживавшими здесь веками крестьянами с чистыми душами.
Трагической судьбе крестьянства в XX веке и посвящена трилогия Белова. Итог его выводов неутешителен: «История деревни смахивает на дурной сон. Трагична, безжалостна судьба буквально каждого жилого двора, каждой семьи: из этого правила исключений нет».
Сверхзадачу – понять, почему и как это случилось, – и взял на себя писатель.
Трилогия Белова – это не обычные романы в понимании XIX века. Здесь нет классического понятия о сюжете с жизнеописанием нескольких главных героев, включая завязку, кульминацию и развязку действия. Сам русский народ, его важнейшая часть – крестьянство – является главным героем произведения, называемого самим автором «хроникой русских судеб». Какими же средствами достигает этого автор? Во-первых, число действующих лиц в романах, которые могут быть названы главными, необычайно велико – их десятки. Во-вторых, сюжет повествования строится из реальных исторических эпизодов, следовавших друг за другом, год за годом. В-третьих, в романы-хроники органически вписываются многие подлинные документы эпохи – директивы ЦК ВКП(б) и других высших органов власти, постановления обкомов и крайкома Русского Севера, цитаты из газет того времени, выписки из решений органов ГПУ. Таким образом, наблюдения и опыт собственной жизни автор дополняет историческим исследованием. Поэтому все произведение пронизано неуничтожимым духом правды.
Действие трилогии протекает в основном в двух деревнях Вологодской области – Шибанихе и Ольховице. За Шибанихой прозрачно видится родная автору Тимониха. Периодически действие переносится в другие деревни, а также в Москву, Ленинград, Архангельск, Вологду, на берега суровой Печоры.
Главными действующими лицами трилогии являются крестьяне названных деревень. Все они изображены превосходно, в динамике жизни раскрываются их неповторимые индивидуальности. Следует полагать, что прототипы этих героев взяты из самой жизни. Все остальные действующие лица трилогии – это подлинные исторические деятели эпохи: Сталин, Бухарин, Калинин, Киров и Ворошилов в Москве, нарком ВМФ Кузнецов, секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, а также десятки деятелей обкомов, райкомов и ГПУ Русского Севера, почти все они с нерусскими фамилиями.
В документальной повести В. Белова «Раздумья на родине» мы находим прототипов «хроники русских судеб». В сочинителе стихов Анкиндине Суденкове, крестьянине из Тимонихи, без труда узнается прототип героя трилогии Анкиндина Судейкина, в строителе мельницы крестьянине Барове – прототип героя трилогии Павла Рогова.
Хронологически основные действия трилогии начинаются в конце 20-х годов и заканчиваются в 30-е годы. Однако через воспоминания стариков автор углубляет рамки повествования о русской деревне до 900-х годов, а в заключение подводит итоги последними годами XX века.
Как из стихов Есенина, как из песен Шаляпина, исконная, кондовая, потаенная Русь встает со страниц книг Василия Белова, со своими крестьянами и священниками, лесами и болотами, избами и храмами, поверьями и обрядами, песнями и бухтинами, предметами труда и быта. Эту Русь нельзя, как сказал Тютчев, понять умом, ее нужно впитать с молоком матери, хранить в подсознании, носить под сердцем. Эту Русь писатель воспринял в родной деревне в доме прадеда Михаилы. Об этом доме Василий Белов пишет: «Спускаюсь в темный подвал с ларями и сусеками, долго разглядываю немых свидетелей крестьянского прошлого. Однажды, когда мама жила еще в деревне, я написал ей, чтоб она не топила в печке старинную утварь. Она спускала все в подвал, получилось вроде музея. Чего только тут нет! Косы, кадушки, грабли, решета, малёнки, ступа долбления с пестом, корзины берестяные и драночные, кросна, воробы, берда, тюрики, прялка и самопрялка, колода для рубки табаку, жернова ручные, столярный верстак, берестяные буртасы, квашня, клещи банные, заячьи капканы, старая шуба, корчаги глиняные, берестяные поплавки и глиняные кибасы для сетей, труба самоварная, ткацкие нитченки, челноки, коромысло, подойник, пивоваренные ковши, решетки, насадки, колотушки для обработки льна, серпы, резное трепало, сундуки пустые, гнутые осиновые короба, пчеловодные рамки, уда, икона, деревянный протез ноги, совки для зерна, скалка, ендова медная кованая, точеные балясины, светец, посуда деревянная и берестяная, лосиные рога, лопата пирожная, сверленое ружейное дуло и десятки других мелких вещей трудового и бытового происхождения» (Белов, «Раздумья на родине»).
И это только часть предметов быта, позволявших крестьянам благополучно жить в суровых условиях северных лесов. Что же сказать о слаженности и неповторимости сформировавшихся здесь людских натур, стойких и благородных, житейски мудрых, глубоко поэтичных?
За судьбой крестьянства Русского Севера, описанной в трилогии, видится судьба крестьянства всей России в XX столетии.
В «Канунах» описывается жизнь названных выше деревень накануне коллективизации. В этих и окрестных деревнях не было ни кулаков, ни батраков. Бедно жили Носопырь и старушка-нищенка Таня, но и они были полноправными членами крестьянского общества, занимали в нем свое общеполезное место.
Трудолюбивые и здоровые крестьянские семьи Гаврилы Рогова и Данилы Пачина, где мужики и бабы трудились от зари до зари, жили крепкими домами. Дед Павло Сопронов занемог ногами, его семья жила беднее, а сын Игнашка Сопронов уродился и вырос злым и завистливым. И вот из центра поступают указания об обложении налогами зажиточных крестьян и о коллективизации. Игнашка Сопронов из карьеристских побуждений берет дело в свои руки и, опираясь на директиву Л. Кагановича, на поддержку партийного работника областного масштаба Меерсона, возглавляет соответствующую комиссию и облагает ряд крестьян налогами, в 3 раза превышающими их годовой доход и потому заведомо непосильными. Затем объявляется коллективизация. И что же? Все крестьяне, даже несправедливо названные кулаками, идут в колхоз! Однако И. Сопронов принимает не всех… На горизонте маячит террор, однако в «Канунах» террору подвергаются только священнослужители и бывший дворянин – однодворец Прозоров.
Настоящая трагедия крестьян начинается во второй книге трилогии – «Год великого перелома». Ни один русский человек не сможет прочитать эту книгу без содрогания и потрясения. У не сумевших оплатить непосильный налог крестьян описывают и отнимают дома и имущество, самих их отправляют на лесозаготовки, семьи выселяют в пустующие бани и сараи. Работники лесозаготовок (лес нужен новым хозяевам страны для продажи за валюту) живут в неотапливаемых храмах и монастырях под охраной. Здесь же живут «кулаки» – переселенцы с Украины, с женщинами и детьми. Трогательно и с большой любовью описывает их автор. Страдания живущих под вооруженной охраной семей лесозаготовителей представляют сплошные муки. Каждое утро из этих храмов, превращенных в ночлежки, выносят трупы.
Характерна судьба крестьян мужского пола. Большинство из них отказывается служить новой власти, за что подвергается все новым и новым карам… Особенно обаятельны образы Евграфа Миронова, Павла Рогова, Ивана Никитича – мужественных, трудолюбивых, честных русских крестьян, обладающих чувством собственного достоинства. Им подобны многие другие крестьяне. Меньшинство крестьян (Микулин, Куземкин, Петька Гирин) идут на компромиссы с новой властью, чтобы уцелеть. Но уцелеть им, как правило, не удается. Для выявления настроений органы ГПУ организуют систему сексотов и доносов. И даже за сексотами, подпавшими под подозрения, организуется наблюдение других сексотов. Кулаками объявляются и подвергаются репрессиям воевавшие в гражданской войне за красных, террору подвергаются семьи, в которых есть находящиеся на службе в Красной Армии.
Трагично, но и комично выглядят постановления, присылаемые из Москвы, с требованием разыскать и репрессировать местных деятелей то с правым, то с левым уклоном. И становится прозрачно очевидным – конечной целью этих постановлений является прямой геноцид русских.
В заключение «Года великого перелома» многие главные герои оказываются в трюмах грузового транспорта, несущего их через океан в Печорскую тундру. Везут их много суток в неотапливаемых помещениях, без пищи, без туалетов, под вооруженной охраной, находящейся на палубе. Трупы, выталкиваемые из трюмов, сбрасывают в океан. Первыми умирают младенцы. Вот это уже напоминает настоящие муки ада. Высаживают всех в тундре на голый берег Печоры. Примечательно, что в одной компании оказываются и ложно объявленные кулаками, и те, кто пытался найти компромисс с новой властью, и русские, и украинцы, и даже ненец-оленевод.
В романе «Час шестый» автор как бы подводит итог судьбам русского крестьянства. Здесь среди действующих лиц на одно из главных мест выдвигается родной брат Павла Рогова Василий Пачин, служивший матросом, но продолжается повествование о драматических судьбах многих других героев трилогии. Бывший милиционер Скачков превратился в жуткого следователя. Праведник дед Никита скрылся в лесу от нетерпимой им действительности.
Следование за судьбами героев трилогии приводит нас в спецлагеря, на Беломорканал. Павел Рогов сумел уцелеть, пройдя дантовы круги ада, проявив способность русского крестьянина выжить в труднейших условиях. Он бежит с Печоры и появляется нелегально в окрестностях родной деревни, но его присутствие обнаруживают.
Великолепно, с жуткими подробностями описаны сцены охоты на Павла Рогова, закончившиеся убийством праведника деды Никиты.
Как и в предыдущие романы, в «Час шестый» автор органично вплетает цитаты из постановления верховных властей. Чрезвычайно выразительно «Постановление ВЦИК и СНК РСФСР о мероприятиях по усилению работ на лесозаготовках и сплаве». До чего же изощрялись власти, чтобы посильнее давить на русское крестьянство! Последнее цитируемое постановление – о награждении руководителей строительства Беломорканала – особенно красноречиво. Оно точно показывает, кто же уничтожал русское крестьянство.
Со страниц трилогии встает обобщенный обаятельный образ русского крестьянина, трудолюбивого и талантливого, доброго и честного, мужественного и стойкого, физически и духовно здорового.
Автор во многих сценах изображает великое трудолюбие и умение трудиться русского крестьянина, на чем и держалась веками Россия. Это изображено и в строительстве мельницы Евграфом и Павлом Роговым («Кануны»), и в сценах сенокоса, и в умении Евграфа работать топором, и в умении деда Никиты выжить в глухом лесу («Час шестый»).
Прекрасны образы русских женщин, таких, как Вера Ивановна, Тонька-пигалица, Аксинья, Палашка и др. По обаянию не уступают им образы украинских женщин-переселенок: Авдошки и других. Только одна женщина – Зойка Сопронова, жена Игнахи, – обладает в трилогии зловредным характером.
С глубоким проникновением в психологию своих героинь автор показывает их естественное стремление к личному счастью, к любви, их преданность своему избранному. Но злые силы власти разрушают или не дают возможности создать семью, выселяя на уничтожение мужей и возлюбленных.