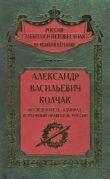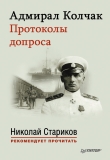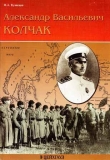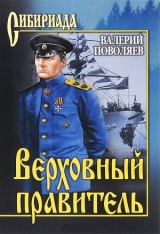
Текст книги "Верховный правитель"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
– «Самый малый» уже был, – спокойно отозвался Базилевский.
– Значит, медленнее идти не можете? – Голос у поручика сделался раздраженным.
– Нет, – с прежним спокойствием ответил капитан, в душе у него сейчас ничего, кроме странной мертвой тиши и равнодушия не было – все угасло.
Из трюма на палубу начали выводить арестованных – бледных, с запавшими щеками и погасшими, будто у мертвецов, глазами. Многие были хорошо одеты, на пальцах светлыми пятнышками поблескивали золотые перстни.
Базилевский не выдержал, сделал шаг к боковой двери рубки.
– Куда? – закричал поручик, наставляя на капитана револьвер.
– На кудыкину гору. Не могу же я вести ледокол вслепую. Мне обязательно надо смотреть по сторонам, иначе мы напоремся на камни.
– А рулевой на что?
– Обязанность рулевого – смотреть по носу и сверять курс с компасом. Этого ему во время движения – во! – Базилевский приложил ладонь ребром к горлу. – Более чем...
Поручик, подумав, разрешающе махнул револьвером: ладно, раз нужно – значит, нужно. На лице его дернулась мышца, скривила рот, сбила ровную линейку усов. Базилевский выглянул за дверь рубки, посмотрел за борт, в черную ледяную кашу, от которой поднимался пар, потом скосил глаза на корму.
Он рассчитывал увидеть много людей – особенно арестованных, но увидел лишь одного, выдернутого из трюма господина с широкими плечами и отвислым старческим животом, который стоял на корме совершенно голый и прикрывал обеими руками срамное место, над ним навис огромный бородатый казак с деревянной колотушкой в руках. Этой колотушкой команда «Ангары» обкалывала с палубы лед. Поодаль стояли два офицера – тот, что дежурил с ним в рубке, пока не пришла смена, и грузный неповоротливый полковник с разъевшимся хохлацким лицом.
– Наза-ад! – запоздало закричал поручик, и Базилевский поспешно захлопнул дверь рубки. – Вам же приказано было – не смотреть! – Поручик потряс перед лицом Базилевского револьвером.
– Ну, застрелите меня, застрелите. – Базилевский нашел в себе силы усмехнуться в лицо поручика. – Так вы без меня даже до порта не дотелепаете. Пойдете на дно вместе с вашей солдатней.
Поручик, поразмышляв немного, спрятал револьвер в кобуру.
– Ладно!
– Кого хоть решили уничтожить-то? – спросил Базилевский.
– Большевиков.
В том, что в сети контрразведки попали большевики. Базилевский не был уверен: большевики золотых перстней на пальцах не носят, это он знал точно.
– Уничтожать большевиков – самое нужное и милое дело, – сказал Базилевский. Большевиков он не любил. – Куда команду заперли? – спросил он. – В кубрик?
– В машинное отделение.
– В машинное отделение – это лучше, чем в кубрик, – одобрил Базилевский, – проветрить хоть и нельзя будет, но запах машинного масла сожрет запах дерьма.
Он подумал, что голый пузатый старикан настолько находится не в себе, что даже ногами не приплясывает по палубе, холода не чувствует, а ведь ноги у него точно горят, если только не прилипли к железу палубы – а они не могли не прилипнуть, не могли не прожечь болью, но старикан не чувствовал этого... Отдирать ноги он в таком разе будет от палубы с кровью.
Казак Лукин тем временем размахнулся колотушкой и ударил старика в затылок, тот легкой птичкой взвился над палубой, хотя и был грузным человеком, ступни его с треском оторвались от прокаленного железа палубы, оставив там два кровавых следа, перевалился через ограждение и упал в черную пузырящуюся воду. В следующую секунду на него наехал «Круглобайкалец» и разрубил винтом на несколько частей. Спастись у несчастного не было ни одного шанса.
На палубу вывели следующего – также раздетого – мрачного жилистого человека с худым всосом щек и жгучими черными глазами, явно кавказца, непримиримого боевика, которому и белые были противны, и красные, и зеленые с «жовто-блокитными» – все, словом.
Он уже понял., что сейчас с ним будет, сиротливо поднял глаза к небу, прося прощения за грехи свои, и метнулся к ограждению. Казак Лукин, не ожидавший от арестованного такой прыти, обиженно взревел и метнулся следом, уже на ходу тюкнул его колотушкой в затылок, и буйный кавказец улетел в воду вслед за своим предшественником. Удар у Лукина получился скользящий, несильный, кавказец вынырнул из черной дымящейся воды, взметнул над собою руки, словно грозя кому-то, и в ту же секунду на него всей тяжестью наполз «Круглобайкалец».
– Следующий! – скомандовал Черепнин. Сразу двое офицеров – Бабосов и Грант – кинулись выводить следующего арестованного.
Им оказался моряк с оторванным лохмотом форменной рубахи на груди, там, где у него висели Георгиевские кресты, с седыми висками и седыми усами. Фамилия моряка была Сыроедов. Он был списан с флота подчистую – получил в Румынии ранение – осколок располосовал ему живот, едва не вывалив в грязь кишки, он, придерживая их обеими руками, чтобы не растерять, сам лег в грязь, и тут Сыроедову не повезло вторично: немцы метнули на русскую сторону несколько химических снарядов. Так в Румынии Сыроедов похоронил свои легкие.
Но остался жив. Хотя списан был подчистую – такие люди, которым жить оставалось всего ничего, на флоте не были нужны.
– А ты, дур-рак, чего не выполняешь приказание? Чего не раздеваешься? – спросил у него Бабосов, поиграл тяжелым стеком. – Хочешь, чтобы я тебе яйца расплющил? Или кости в фарш превратил? – Бабосов поднял стек.
– Зачем же, ваше благородие, – глухо проговорил Сыроедов и стянул через голову форменку. – Мне немцы кости ломали, теперь вы будете...
– Поговори, поговори у меня!
Сыроедов сдернул с худого крестца брюки, дальше они сами сползли с ног на пол. Обут он был в разношенные американские ботинки, которые в Екатеринбурге, где делал остановку, выменял на кусок сала.
– Раздеваться-то зачем? – подал голос из угла господин в шубе с котиковым воротником, по виду эсер. – Там же холодно.
– Мы вам дадим другую одежду, казенную. – Бабосов не удержался от усмешки. – Тепло будет.
Не думал, не гадал Сыроедов, что попадет в такую молотилку – пришел в земельный отдел к своей родственнице Вере Ермолаевой и угодил в облаву. Сыроедов остался один-одинешенек, кроме Веры у него из родственников никого не сохранилось, все полегли, ему надо было как-то устраивать свою жизнь, и он решил поселиться на Байкале. На Амур с Зеей возвращаться не хотелось – слишком больно было, а здешний воздух, да вода, да козье молоко ставили на ноги людей, изуродованных еще более жестоко, чем он.
Сбросил с себя ботинки, нагнулся, вытащил из кармана бушлата серебряный «брегет», положил сверху:
– Не раздавите, ваше благородие!
Вера сидела в углу и плакала. Сыроедов ничего не сказал ей, лишь вздохнул и шагнул к выходу.
Под лопатки ему ткнулся холодным жестким концом стек Бабосова:
– Быстрее!
Сыроедов шагнул на палубу. Первое, что бросилось ему в глаза, – растекшееся пятно крови, уже застывшее на морозе, и огромный казак с блестящими кошачьими глазами, державший в руке колотушку.
– Вашего адмирала, Колчака Александра Васильевича, я знал, когда он еще лейтенантом был, – неожиданно звонко выкрикнул Сыроедов, в следующий миг сорвался, скрючился в кашле, Лукин навис над ним, загудел обеспокоенно, не зная, как подступиться к этому человеку со своей огромной колотушкой.
Сыроедов – и без того маленький, мускулистый, колченогий – стал совсем маленьким. Выбухав на ладонь несколько кровяных лепешек, он стряхнул их на палубу и выпрямился.
– Так что передайте Александру Васильевичу низкий поклон и благодарность от кавалера трех Георгиевских крестов, унтер-офицера первой статьи Сыроедова. Пусть вспомнит, как я его выхаживал, когда он заболел...
Договорить Сыроедов не успел – Лукин изо всех сил, с размахом огрел его колотушкой, от удара у Сыроедова раскололся череп, изо рта выбрызнула кровь, и он полетел за борт ледокола.
Последней на палубу «Ангары» вывели Веру Ермолаеву. Ее трясло. Вера обхватила себя руками за плечи, произнесла промерзлым, едва слышным голосом:
– Что же вы делаете, господа? Что вы делаете?
Ни к каким партиям, как и ее двоюродный брат Сыроедов, она не принадлежала, ни в какие бомбистские либо партизанские игры не играла – попала в расстрельный список за компанию, как это часто бывает у нас на Руси.
Через минуту не стало и бывшей служащей земельного отдела Веры Ермолаевой.
А в кают-компании ледокола трое ординарцев проворно накрывали стол. Было шампанское, для любителей «остренького» – американский спирт и китайская женьшеневая водка, был омуль-слабосол, пельмени, сваренные в кедровом масле, рассыпчатая картошка и свежая стерлядь.
Тяжелый рабочий день подходил к концу. Были уничтожены все, кого взяли на борт, – тридцать один человек. Все, как пометил у себя в бумагах Черепанов, – заговорщики. Шестеро из них – большевики.
На деле же среди убитых не было ни одного большевика. Полковник Сипайло, который в казнь не вмешивался, стоял в стороне и не произносил не слова, ожил. Поблагодарил офицеров за службу. Прошел в отсек, где раздевались казненные, сделал небрежный жест рукой:
– Вещи можете забрать себе. Это ваши трофеи, господа.
Бабосов издали указал стеком на «брегет», лежавший поверху одежды Сыроедова:
– Эти часики – мои. В память об их владельце – кавалере трех Георгиевских крестов.
– Что за кресты? – нахмурился Сипайло.
– А-а, не обращайте внимания, – Бабосов небрежно махнул стеком, – прошел тут у нас чистилище один морячок... Знакомством с главкомом войск хвастался.
Полковнику Сипайло сделалось смешно:
– Вот мы его по распоряжению знакомого главкома и ликвидировали. Чтоб больше не хвастался знакомством.
Ценностей набралось много, все разделили поровну, «по-братски».
Ординарцы расстарались – стол накрыли на двадцать пять человек. Пили уже в поту – «Ангара» пришвартовалась к отдаленному причалу и потушила ходовые огни, оставив лишь один тусклый огонек на макушке короткой железной мачты – сигнальный. Наконец-то под днищем и бортами «Ангары» перестал раздаваться противный хруст льда.
Капитана ледокола Базилевского также пригласили за стол, матросов выпустили из машинного отделения и угостили водкой – каждому по шкалику. Тем, кто плохо себя чувствовал, дали по второму.
Ждали командующего Иркутским военным округом генерала Скипетрова. Тот приехал без пятнадцати минут двенадцать ночи, продрогший, озабоченный. С ходу выпил полстакана водки, закусил ломтиком нежного омуля, пожаловался:
– Чехи красных обормотов удержать никак не могут, сдают им станции. А Каппеля к железной дороге почему-то не пускают. Владимир Оскарович точно бы накостылял красным по шее.
Штабс-капитан Черепанов подсунулся к нему с бутылкой холодной водки:
– Ваше высокопревосходительство, отведайте теперь китайской. От нее мужское достоинство стоит, как маршальский жезл, вытащенный из сержантского ранца.
Генерал захохотал:
– Ну вы и даете, Черепанов! Не ожидал-с! За наши маршальские жезлы, – произнес он громко и залпом осушил еще полстакана. Глянул в посудину, будто проверял, не осталось ли чего на дне, вновь протянул штабс-капитану: – Наполните-ка!
Тот послушно выполнил приказ. Генерал поднял стакан, лицо его сделалось торжественным.
– Пью за победу нашего оружия, господа, за то, чтобы мелкие неудачи не портили общую картину... Россия должна быть свободной. За свободную Россию!
Офицеры дружно рявкнули «Ура!», полезли друг к другу целоваться, а штабс-капитан шваркнул хрустальную стопку – из стаканов пили только те, кто хотел, это считалось фронтовым шиком – о железный пол кают-компании:
– Чтобы сказанное сбылось!
В Омске продолжали бушевать метели. Колчак принял документы, пришедшие в Омск из Иркутска, от генерала Скипетрова, усталым взглядом пробежался по приговору, по списку, составленному Черепановым, где шесть фамилий были помечены красным карандашом – большевики! На фамилии Сыроедова глаза его не задержались, проскользили мимо, и адмирал отложил бумагу в сторону.
Посмотрел на часы – через пятнадцать минут к нему должен был прийти Бегичев, что-то радостное, светлое возникло у Колчака внутри, он невольно улыбнулся. Все мы связаны с нашим прошлым, которое отзывается в душе невольным щемлением, рождает теплый свет, и у всех иногда возникает желание вернуться туда.
Бегичев постарел, погрузнел, поседел – он смело подошел к адмиралу, обнял его, прижался щекой к щеке.
– Здравствуйте, Александр Васильевич! – Потом откинулся назад и жадно глянул на адмирала: – Ну разве кто-нибудь в те годы мог помыслить себе, что вы станете главным человеком в России?
Колчак махнул рукой:
– Пустое все это, Никифор Алексеевич. Ничего путного в моей должности нет. Я бы сейчас отдал все, что имею, адмиральские орлы вместе с орденами и прочей чепухой поменял бы на лейтенантские погоны, чтобы очутиться в прошлом – том самом прошлом, в котором мы с вами когда-то были. Ох, какое прекрасное это было время! – Колчак восхищенно покачал головой. – Никаких забот. Кроме одной – цели, к которой мы с вами шли.
– Александр Васильевич, не расстраивайтесь, у нас с вами еще будет возможность сходить вместе на Север.
Взгляд Колчака угас.
– Будем реалистами, Никифор Алексеевич. Я плаваю в таком дерьме, из которого мне никто никогда не даст выбраться. А на Север надо ходить с чистыми руками. Здесь же вы видите, – он подошел к столу, поднял стопку бумаг, пришедших из Иркутска, – сплошные казни, расстрелы, порки. И все это, я чувствую, повесят на меня. – Он зажато и тяжело вздохнул.
– Бог даст, не повесят.
– Повесят, еще как повесят. И несколько порций чужого дерьма добавят. У нас это любят делать. – Колчак сцепил руки, хрустнул суставами, нервно заходил по кабинету.
Бегичев наблюдал за ним: это был уже совсем не тот Колчак, которого он знал. Впрочем, и сам Бегичев изменился: с него облетела вся романтическая пыльца, как пух облетел с подросшего птенца, остались только перья.
– Слышал, Никифор Алексеевич, ледокол «Вайгач», который я строил в Англии, а потом им командовал, затонул?
– Нет, – Бегичев огорченно качнул головой, – не слышал. – «Вайгач» и «Таймыр» были лучшими ледоколами России. Пробормотал: – Досада какая, а!
– Затонул. – Колчак снова нервно хрустнул пальцами. – Полтора года назад. В Енисейском заливе. Наскочил на подводную скалу.
– А «Таймыр»?
– «Таймыр», насколько мне известно благополучно плавает.
Было слышно, как за окном голодно взвыл ветер, в окна шибанул жесткий снег, проскреб по поверхности, стек вниз, на завалинку, утепляющую фундамент: на улице послышались крики: патруль задержал нескольких подозрительных людей, подбиравшихся к дому Верховного правителя. У Колчака мелко и противно задергалось подглазие, он пробормотал горько, обращаясь больше к самому себе, чем к гостю:
– Нет, из этого дерьма мне уже никогда не выбраться. Не дадут.
– «Таймыр» я видел в работе, – сказал Бегичев. – Прекрасная посудина. Черт, а не ледокол.
Колчак прошел к столу, откинулся на спинку кресла.
– Никифор Алексеевич, изучение Заполярья надо продолжать, – сказал он. – В конце концов Россия отделается от всей этой дури, именуемой гражданской войной, и ей снова понадобится Север. Без надежного морского пути, проложенного по Северу, России не обойтись. В Карском море работает Вилькицкий...
– Тот самый? Генерал?
– Генерал Вилькицкий умер. Работает его сын. Замечу – работает очень успешно. Пора и вам, Никифор Алексеевич, пристрять к одной из экспедиций. Мы сейчас готовим группу на Новосибирские острова. Готовы поехать?
Бегичев встал со стула, одернул на себе морской китель:
– Всегда готов!
– Да вы сидите, сидите. – Колчак сделал мягкий взмах, усаживая гостя, напряженное расстроенное лицо его изменилось, в нем появились новые краски, оно потеплело. – Я до сих пор вспоминаю, как вы были у меня свидетелем на венчании в Иркутске...
– Это была другая жизнь, – со странной незнакомой улыбкой проговорил Бегичев, – и государство наше было другое. Вернуться бы нам туда, Александр Васильевич. Да не дано, к сожалению...
– Не дано, – огорченно подтвердил Колчак, взялся за колокольчик, стоявший перед ним на столе. – Сейчас мы с вами поужинаем вдвоем, Никифор Алексеевич. Вы не возражаете?
– Помилуйте! Конечно же нет.
Адмирал позвонил – звук у колокольчика был резким, как крик ночной птицы, Бегичев даже вздрогнул: изделие явно нерусское по происхождению, русские колокольцы обладают голосами другими – нежными и серебристыми.
Вошел адъютант.
– Через пять минут мы будем в столовой, – сказал ему Колчак.
Адъютант молча наклонил голову и вышел.
Бегичев хотел спросить насчет Софьи Федоровны – жива ли она? – но не стал. Слышал он, что адмирал в Омске пребывает не один, в спутницах у него ходит не Софья Федоровна, а другая женщина – переводчица из отдела печати канцелярии. Работает с иностранцами – военными наблюдателями, прикомандированными к правительству Колчака.
Дамочка, говорят, фигуристая, форсистая, с хорошо поставленным голосом и манерами недотроги. Бегичев, правда, сам не видел, но слышать слышал. Молва о ней идет широкая.
– А насчет барона, которого мы тогда искали с вами, Александр Васильевич, так ничего не выяснилось?
– Увы. Барон Толль погиб вместе со своими людьми. Как вы помните, он ушел с Земли Беннета и ни одного следа не оставил. Так потом ни одного следа не обнаружилось. Что можно было найти – мы тогда нашли.
Ужин у Колчака был скромным – не в пример тому, что устроили себе офицеры иркутской контрразведки на ледоколе «Ангара». Даже водки, и той было совсем немного ~ выпили по две стопки, и Колчак отставил графин в сторону. Бегичев сощурился – небогато живет Верховный правитель России.
– Помните, как я величал вас на Севере, Александр Васильевич? – Бегичев достал из кармана портсигар, раскрыл его и замялся – не знал, удобно ему закурить или нет?
Колчак улыбнулся: это он помнил.
– Ваше благородие Александр Васильевич.
Лицо Бегичева счастливо расплылось. Колчак сделал ему разрешающий жест: курите, мол...
– Да, это было так, – подтвердил Бегичев. – А вот скажите, Александр Васильевич, «Верховный правитель» пишется с маленькой буквы или с большой?
Улыбка на лице Колчака погасла.
– Как напишете, так и будет, Никифор Алексеевич.
Разговор расклеился окончательно – собственно, если честно, его и не было, – Бегичев почувствовал, что Колчаку не до него, адмирал озабочен совсем иными делами, чем экспедиция на Север, качнул головой сожалеюще: эх, Александр Васильевич, Александр Васильевич! Конечно же, он был сейчас лишним, Колчак бы прекрасно поужинал и без него. Оглядел столовую. Довольно просто обставлена, совсем не по-царски.
А ведь Верховный правитель – это почти царь! Главное лицо в нынешней России. Есть еще, правда, Ленин, но Ленин – это по ту сторону фронта, а Колчак – по эту. Бегичев вздохнул – вздох был неловким – и произнес вслух:
– Эх, Александр Васильевич!
Колчак вздох понял правильно, ничего не ответил, лишь заработал быстрее вилкой и ножом – принесли мясо, и мясо это было жестким. «Ободрали какого-то перестарку и подали адмиралу под видом парной телятины, – недовольно отметил Бегичев. – И тут... даже тут, у самых высоких верхов – воровство».
Вскоре Бегичев поднялся:
– Александр Васильевич, мне пора. Поздно уже, темно, патрули, метель, замерзнуть недолго.
Адмирал не стал задерживать Бегичева.
– Вас отвезет моя машина. Вы ведь в гостинице остановились?
– Гостиница мне – того... – Бегичев поморщился, ему неприятно было об этом говорить, – кусается. Я у одной бабули снял угол.
Колчак хотел сказать, что Анна Васильевна тоже снимает угол, но промолчал – в конце концов это, во-первых, личное дело каждого, где жить, а во-вторых, Бегичев совершенно не знает, кто такая Анна Васильевна, и знать ему это совершенно необязательно.
Вместо доверительного разговора, добрых, до слез воспоминаний двух старых северных волков получился обыкновенный невкусный ужин. Колчак тоже поднялся из-за стола. Легкая печальная улыбка возникла у него на лице, он подумал: «Надо бы Бегичеву присвоить какое-нибудь офицерское звание, сейчас это в моих силах, подмахнуть бумажку – плевое дело», но в следующий миг возникшая мысль угасла.
Существует хорошее правило: если не хочешь неприятностей, не хочешь, чтобы прошлое ударило кулаком в поддых, никогда в него не возвращайся, не ищи с ним свидания. А он нарушил это правило – стал искать встречи. И ошибся: теплых сердечных объятий с восторженными возгласами «А помнишь?» не получилось.
– Ну, ваше благородие Александр Васильевич, – Бегичев вновь назвал Колчака по старинке, и адмирал против этого не возражал, – подошел к Колчаку: – Ну...
Они обнялись, постояли несколько секунд молча. Бегичев услышал, как гулко дернулся и застыл на шее адмирала кадык, ему сделалось жаль Колчака, он откинулся от него:
– Что ж, на Север так на Север, только плохо, что без вас, ваше высокопревосходительство. Очень хотелось бы еще разок сплавать вместе.
– Мне тоже очень хотелось бы. – На шее у Колчака вновь гулко, будто гирька от часов, подброшенная рывком металлической цепи, подскочил и опустился кадык.
«Все-таки ты, Александр Васильевич, такой же земной, такой же мясной и костяной, как и все мы, человек», – невольно отметил Бегичев.
Через минуту он ушел. Больше они с Колчаком никогда не встречались.
Колчак часто бывал на фронте, пожалуй, даже чаще, чем следовало бывать Верховному правителю. Война на суше сильно отличается от войны на море – это на море командующий флотом должен обязательно находиться на мостике и заниматься оперативным руководством – баталии там зачастую разыгрываются на небольших водных пространствах, которые с точки зрения военных действий на суше вообще не имеют никакого значения, крупные боевые операции на земле порою захватывают тысячи километров, и тут командующему вовсе необязательно непосредственно находиться в войсках, сидеть в окопах, ему гораздо важнее видеть все происходящее на карте и предусматривать всякое, даже малое движение противника. Тут – совсем другие мерки, совсем иное мышление.
Вскоре злые языки стали поговаривать: как только Колчак побывает на фронте, так фронт в этом месте незамедлительно прогибается.
Так это произошло с Челябинском.
Адмирал побывал там, был ласково принят населением, восторженно – в войсках, утвердил план разгрома красных частей – фронт, кстати, был длинным, без малого полторы тысячи километров – и отбыл с фронта, уверенный в победе. Надо заметить, что армия Колчака к этой поре была огромной – четыреста тысяч человек. Кроме того, под его крылом (но под командованием французского генерала Жанена, человека с ущемленным самолюбием) находилось около сорока тысяч белочехов, восемьдесят тысяч японцев, оседлавших дальневосточные сопки, будто свои собственные, шесть с лишним тысяч англичан и канадцев, восемь тысяч американцев, полторы тысячи французов и еще кое-что по мелочи – соединения сербов, поляков, румынов, итальянцев и прочих любителей отведать сладкого пирога с чужого стола. С такой армией перекусить горло можно было кому угодно, не только оборванным, голодным и холодным, иногда совершенно безоружным красноармейцам.
И все-таки Колчак не перекусил. Не смог.
По плану штабистов Челябинск надлежало сдать, заманить в город, как в котел, красных и накрыть их там крышкой. И сварить в собственном соусе.
Не получилось.
Город благополучно сдали – произвели это неряшливо, отходя от плана и расстреливая по ошибке своих, – а взять обратно не взяли. И крышкой его не накрыли. И суп из красных не сварили. Остались на бобах – «при своих интересах», как говорят игроки в карты.
Следом начали прогибаться и другие фронты, словно злой рок преследовал генералов, командовавших колчаковскими армиями, – Дутова, Савельева, Ханкина.
Стали поговаривать, что Колчака тоже преследует злой рок.
Первого мая 1919 года произошло событие, на первый взгляд рядовое – такие неприятные истории у Колчака случались и ранее, но прежде они не были поворотными: на фронт прибыл украинский полк имени Тараса Шевченко. Хохлы свой полк упорно называли куренем, как во времена славного Тараса Бульбы, но этим сходство их с легендарным героем и заканчивалось: воевать им не хотелось, хотелось сала с вареньем, хотелось пограбить справные уральские «мазанки», и хохлы на станции Сарай-Гир, недалеко от Златоуста, подняли мятеж.
Восстание решили подавить, но опоздали: к куреню примкнули «сочувствующие» – солдаты четырех полков и егерского батальона.
В результате несколько тысяч солдат вместе с артиллерией и обозом перешли к красным. Еще несколько тысяч просто разбежались. На фронте образовалась дыра – большая дыра, в целую сотню километров. В эту гигантскую брешь немедленно ринулась конница красных.
Колчак о бреши узнал с опозданием – ему просто побоялись об этом вовремя сообщить. В дыру бросили формирующийся, еще не слепленный, сырой, почти без командиров, без штаба корпус. Корпус ничего сделать не смог. Только людей зря погубили.
В результате, чтобы выровнять фронт, пришлось отводить несколько колчаковских частей.
Нагло вели себя чехи, руководимые генерал-лейтенантом Гайдой. Бывший фельдшер продолжал быстро двигаться по лестнице и стал уже генерал-лейтенантом. Воевать чехи не умели, зато умели хорошо грабить.
Грабили они знатно. Достаточно сказать, что, когда они со своим барахлом оттягивались на восток, каждому чеху было выделено по половине вагона под трофеи.
По половине пульмана – это не шутка: там английский танк можно спрятать, а уж награбленного вместить – без счета. Начальство, соответственно, больше.
Когда началось отступление, они захватили более двадцати тысяч вагонов, около семисот паровозов – драпали так, что на железной дороге только рельсы прогибались. Своим беспримерным драпаньем они умудрились полностью парализовать жизнь великой транссибирской магистрали. Главное для чехов было – поскорее удрать. Не пустыми, естественно.
Они везли с собою несколько десятков тонн золота – точная цифра никому не известна, поскольку это золото, бывшее российским, стало личным золотом этих людей, растеклось по карманам, ранцам и мешкам чехословацкого корпуса, серебра было украдено много больше – в несколько раз больше.
Везли деньги – валюту самых разных государств, что попадалось на глаза, то и брали, особенно охотно белочехи гребли фунты, франки, доллары и рубли – штампованные николаевские червонцы и пятерки. Не брезговали даже польскими злотыми. Везли машины, ценное сырье, включая медь, олово, свинец, оборудование предприятий, граммофоны, швейные машины, женское белье, украшения, штуки первосортного сукна и ткани «бостон», породистых лошадей, коляски, тарантасы, автомобили, посуду, они волокли с собой даже библиотеку Пермского университета, бесстыдно украденную, очень ценную, приглянувшуюся какому-то уланскому полковнику.
Если кто-то пытался помешать им в пути, чехи немедленно выставляли в окна вагонов тупые рыла пулеметов и без предупреждения открывали огонь. Крови эти вояки пролили много. Людей, которые называли их грабителями, без суда и следствия ставили к стенке. Слово «грабители» чехам не нравилось.
Но это было потом, а пока они во главе с Гайдой лишь начали свое беспримерное драпанье с фронта. Покидали фронт они так лихо, что конники Тухачевского [178]
[Закрыть]не поспевали за ними на своих быстроногих скакунах – в беге чехи отрывались от лошадей.
Французский генерал Жанен, командовавший союзными войсками, пробовал образумить их, но чехи над ним только посмеялись и обозвали трехцветным петухом, а затем, поскольку за годы войны довольно хорошо поднаторели в русском языке, послали генерала на три буквы. На фронт они так и не вернулись, а осели на железнодорожных станциях, занялись тем, что выбраковывали из товарных составов вагоны похуже, отправляли их на «дистанцию», себе же забирали вагоны получше.
Бездарная челябинская операция, к которой они имели самое прямое отношение, не получила никакого продолжения. Собственно, отдавая дань справедливости, замечу, что к провалу этой операции имели отношение не только чехи, но и начальник колчаковского штаба полковник Д. А. Лебедев, незамедлительно произведенный в генералы, и командующий Западной армией генерал К.В. Сахаров. Все оказались хороши.
Кроме того, сказывались на ситуации постоянные распри между Гайдой и новоиспеченным генералом Лебедевым. Гайда считал Лебедева дураком, Лебедев Гайду – авантюристом.
Гайда отказывался выполнять приказы Лебедева, Лебедев жаловался на него Колчаку:
– Ваше высокопревосходительство, у нас ведь война, а не показательные уроки вышивания крестиком. Уберите с фронта этого специалиста по куриным прививкам! Он не то что командовать армией не может, он даже роту сводить в атаку не сумеет. Провинциальный парикмахер, а не командующий армией. При первом же пуке красных бледнеет, как барышня.
Не было мира и единства в стане Колчака.
А красные ужесточали свои удары, не давали колчаковцам передышки. У красных появились очень толковые командиры – М. В. Фрунзе, [179]
[Закрыть]М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, [180]
[Закрыть]Г. Д. Гай. [181]
[Закрыть]
– Откуда они взялись? Кто такие эти Гаи и Блюхеры? – спрашивал у подчиненных Колчак и не находил ответа. Призывал на помощь разведку...
Разведка каждый раз выдавала ему скупые сведения: ни полковничьих, ни генеральских званий у красных командиров не было – в лучшем случае одна маленькая прапорщицкая звездочка... Но воюют-то эти люди лучше признанных полководцев, окончивших Академию Генерального штаба! Вот загадка, на которую никто не находил ответа.
Иногда Анна Васильевна приезжала к адмиралу, и они проводили время вдвоем. В камине гулко пощелкивало пламя, на смолистых поленьях лопались пузыри, тени метались по стенам, за окнами подвывала ветром черная страшная ночь. Они старались никого не приглашать к себе, коротали время вдвоем.
Друзей в Омске у них не было. Михаил Иванович Смирнов, единственный близкий человек, находился сейчас в Перми, командовал там флотилией. На одном из кораблей флотилии, кстати, служил лейтенант Вадим Макаров, сын адмирала Макарова. Сережа Погуляев находился в Париже, он вряд ли уже захочет когда-либо вернуться в Россию. Уезжал Погуляев из одной страны, а приезжать в другую, ставшую чужой, враждебной, ему совсем не резон. Последнее время Анна Васильевна сблизилась с Ольгой Алмазовой – вдовой генерала Гришина-Алмазова, однажды они вместе с Колчаком побывали даже в ресторане, но причислить Ольгу к друзьям, без которых невозможно жить, было нельзя. Она просто относилась к близким знакомым.
На белой накрахмаленной скатерти стояла бутылка красного вина, рядом – бутылка коньяка и жбан самодельного морса, который очень умело готовил личный повар Колчака, на тарелках были разложены закуски – рыба, мясо, куропатки, которых в эту зиму расплодилось под Омском видимо-невидимо, в кюветке повар подавал осетровую икру собственного посола, здешнюю, сибирскую – была она нисколько не хуже астраханской, подавал он и икру грибную, приготовленную по старым французским рецептам... Но ни есть, ни пить не хотелось.