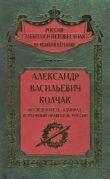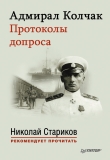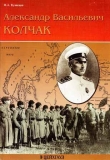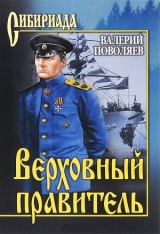
Текст книги "Верховный правитель"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Так оно и получилось.
Но итоги эти были подведены вечером. А пока Колчак в сырой, узкой в проймах – ткань оказалась некачественной, села от влаги – шинели шел по замусоренным, заваленным бумагой, битой мебелью, пустыми коробками и патронными ящиками улицам города и с печалью, с некой иссасывающей внутренней оторопью смотрел на Порт-Артур и не узнавал его.
Словно он никогда в этом городе и не был.
Неожиданно кто-то окликнул Колчака:
– Господин лейтенант!
Колчак остановился, повернулся всем корпусом на оклик – к нему снова подступила «волчья болезнь», ревматизм брал свое. К Колчаку неспешно подходил блестящий японский офицер с красным штабным аксельбантом, перекинутым через плечо. Взгляд Колчака потемнел – в глазах невозможно было различить даже зрачки, – стиснул зубы и поиграл желваками:
– Вы?
– Так точно! – Японец, щелкнув каблуками, наклонил голову в новенькой, с высоким жестким околышем и плоской тульей фуражке: – Капитан-лейтенант Роан Такэсида.
– Вас разве не расстреляли? – грубо, стараясь не замечать лоска и щелканья каблуков бравого капитан-лейтенанта, чувствуя, как кашель начинает рассаживать ему грудь, спросил Колчак. – Как лазутчика вражеской армии...
В ответ капитан-лейтенант рассмеялся.
– Генерал Стессель – мой личный друг. Естественно, он отпустил меня. А его величество микадо наградил орденом. – Он приоткрыл борт незастегнутой шинели, тронул пальцами ткань кителя.
На кителе, под клапаном кармана, поблескивал свеженькой эмалью крупный золотистый орден.
– Жалко, я не пристрелил вас, когда изловил в расположении батареи, – зло произнес Колчак, в следующий миг пожалел о своих словах – надо было сказать что-то другое, не это, но было поздно – слова уже сорвались с языка, не вернуть.
Настроение капитан-лейтенанта от этой резкой фразы нисколько не изменилось – как было легким, беспечно-веселым, так беспечным и осталось.
– Я хорошо понимаю вас, господин лейтенант Колчак.
– Вы даже знаете мою фамилию? – произнес Колчак устало: он совсем не удивился обстоятельству, что Такэсида знает его фамилию, как, наверное, и фамилии других русских офицеров: раз уж Стессель ходит у него в приятелях, раз он дважды отпустил этого каторжника на волю, то, значит, и молоком снабдил его в дорогу, не только списками порт-артурских командиров.
Такэсида похвастался:
– Я знаю и помню наизусть фамилии, имена и отчества офицеров всех артиллерийских батарей, фамилии, имена и отчества командиров всех русских кораблей, даже тех, которые раньше возили навоз, а сейчас стали называться минными тральщиками. Это моя работа, Александр Васильевич.
– Да-а, напрасно все-таки я вас не прихлопнул, господин Такэсида. – Колчака унижало положение, в котором он сейчас находился, зависимость от этого нарядного самодовольного человека, само осознание того, что судьба всякого русского теперь будет в руках людей, одетых в японскую форму.
– Вы – достойный противник, господин лейтенант, – сказал Такэсида, – я читал ваши труды по исследованию Севера.
– Разве? – с иронией воскликнул Колчак.
– И ваши труды по исследованию температуры воды и течений около берегов Кореи, – добавил капитан-лейтенант. – Вы очень умный и... и обязательный противник. – Такэсида так и произнес «обязательный противник», словно одно слово в этом определении сочеталось с другим. Видимо, в японском языке, в японской жизни эти слова, эти понятия действительно могут сочетаться, но в русском же быту – никогда. Колчак не выдержал, усмехнулся. – Да, да, да! – подтвердил Такэсида. – Вы даже не представляете, что значат для мира ваши исследования по Северу...
– Хорошо представляю, – вновь усмехнулся Колчак. Иронии его как не бывало. Остались только усталость да пасмурность. И недобрая маета в душе, против которой нет никаких лекарств. – Очень даже хорошо представляю.
– Нет и еще раз нет. Ваши труды будут изучать и завтра, и послезавтра, и через пятьдесят лет, и через сто пятьдесят.
– Скажите на милость, какая долгая жизнь. – Колчак вновь обрел иронию.
– Что же касается Японии, то мореплаватели нашего славного императора, когда пойдут на Север, обязательно воспользуются вашими картами.
Тут Колчаку стало совсем худо, он хотел плюнуть под ноги капитан-лейтенанту и уйти, но его остановил взгляд Такэсиды. Во взгляде капитан-лейтенанта не было ничего насмешливого, издевающегося, подначивающего, была лишь сокрыта далекая печаль, смешанная с сочувствием и еще с чем-то живым, теплым. Такэсида хорошо понимал, что происходит в душе Колчака, сделал успокаивающий жест.
– Поверьте мне, Александр Васильевич, поражение не стоит того, чтобы из-за него стреляться. В Японии вас примут как героя.
– Вы считаете, что я уже нахожусь в плену? – На губах Колчака появилась привычная усмешка.
– Пока еще не в плену, но через два дня будете там. – Такэсида говорил таким тоном, что у Колчака не оставалось сомнений – так оно и будет. Он кивнул капитан-лейтенанту на прощание и повернул назад, в казармы.
В промозглом сером воздухе летала сажа, хрустела на зубах, во рту в комок сбилась горечь, начала вновь ныть где-то в далекой дали, у самого горизонта. Понимал: если продерется – то выживет. Если не продерется... Об этом думать не хотелось. Ни в яви, ни в бреду.
Через несколько дней Колчак очнулся – у его изголовья сидел врач-японец в круглых очках, делающих его похожим на собаку, а рядом стоял Сыроедов и жестами, мычаньем пытался что-то объяснить. Японец внимательно смотрел на него, скалил зубы и, кивая утвердительно головой, произносил совершенно по-русски, как какой-нибудь мужичок с огородной грядки:
– Ага! Ага!
А Сыроедов все объяснял и объяснял. Колчак не выдержал, раздвинул горячие, плохо слушающиеся губы в улыбке: ай да Сыроедов! Японский врач оживился, спросил, разговаривает ли господин лейтенант на английском.
Колчак ответил утвердительно.
Начал поправляться он не скоро, это произошло уже весной, в апреле 1905 года, город, как и год назад, плыл в медовом духе цветущих садов, и запах этот вызывал в душе невольное щемленье: а ведь на улице все та же весна... Неужели уже нет в живых адмирала Макарова, мичмана Миши Приходько, многих других, кто долгое время находился рядом – прежде всего артиллеристов его батареи, погибших в Скалистых Горах? Вскоре Колчака как военнопленного вывезли в Японию, в город Нагасаки.
Война еще не была закончена, хотя русские войска месяц назад были разбиты под Мукденом [106]
[Закрыть]... Но на подходе находилась мощная балтийская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского, [107]
[Закрыть]и русские рассчитывали на нее – вот она-то уж задаст трепку хвастливому и бойкому японскому адмиралишке, Тоге этому...
К пленным офицерам в Японии отнеслись с уважением. Такэсида не врал, не преувеличивал, говоря, что их встретят как героев. Русских офицеров действительно встретили как героев. В частности, больному, измученному частыми приступами ревматизма Колчаку предложили полечиться на своих минеральных водах.
Колчак отказался, он был военнопленным и желал разделить судьбу свою с другими пленными солдатами и офицерами.
После Цусимы, после «странных» переговоров о мире, когда всем стало ясно, что Россия бездарно проиграла войну (хотя японцев, как многие думали, надо было только дожать чуть-чуть, Япония здорово обнищала в этой войне, в казне микадо совершенно не было денег, а в стране – людей, способных держать винтовку, каждый пятый человек был убит, Япония по уши сидела в долгах, она просто не могла продолжать боевые действия, в это время наша бесконечно родная, наша глиняная Россия решила позорно капитулировать), всем русским офицерам предложили отдохнуть в курортных местах Японии – если у кого-то было такое желание – либо вернуться на Родину.
Все предпочли возвратиться в родные края.
Дорога домой была долгой – через половину всех существующих на земле морей и океанов, через Америку. В Санкт-Петербург Колчак вернулся инвалидом – он почти не мог двигаться.
Комиссия из полутора десятков врачей долго обследовала лейтенанта и выдала ему бумагу об инвалидности, а также наказ – срочно лечиться. Если Колчак не будет лечиться, то его, во-первых, спишут с флота, а во-вторых, до конца дней своих он будет прикован к постели – так в постели и пройдут лучшие его годы – остаток молодости, зрелая пора, а затем и старость, которую к лучшим годам отнести, увы, никак нельзя.
Морское ведомство приказом от 24 июня 1905 года отправило Колчака в длительный, как принято сейчас говорить, отпуск – на полгода, и лейтенант поехал на воды – надо было изгонять из себя холод Севера, мозготу, боли, надо было прогревать, массировать, разрабатывать окаменевшие, наполненные отчаянной ломотой кости, и делать это нужно было незамедлительно.
Если честно, Колчак подумывал о том, что ему придется снять военную форму и по другой причине: Морское ведомство дышало на ладан, оно почти перестало существовать – Россия лишилась большей части своих кораблей... А что такое чиновничья надстройка без кораблей, без базиса? Тьфу! Андреевский флажок на деревянной палке. Флаг должен быть прикреплен к флагштоку, флагшток же – часть эсминца или броненосца.
А броненосцев-то у России как раз и не было.
Воды поставили Колчака на ноги. Когда он вернулся в Петербург, его ожидали награды за Порт-Артур: георгиевское оружие – золотая сабля с надписью «За храбрость», орден Святой Анны [108]
[Закрыть]четвертой степени – также с надписью «За храбрость» – этот орден ему вручили за службу на эсминце, точнее – за потопленный японский крейсер, орден Святого Станислава [109]
[Закрыть]второй степени с мечами. Мечи, как известно, давались только воинам, тем, кто отличился в боях с противником – это была очень почетная деталь в ордене (в отличие от орденов без мечей, которые носили обычные «штатские шпаки», получавшие награды за то, что они протирали штаны в государевых конторах), это была даже не деталь, а некое очень желанное дополнение к ордену.
К ордену Святого Владимира [110]
[Закрыть]четвертой степени, полученному еще за первую полярную экспедицию вместе с Толлем, лейтенанту Колчаку также были пожалованы мечи. (Впрочем, произошло это чуть позже, уже в 1906 году.)
Часть третья
Минная война
Многие в России похоронили мысль о том, что «глиняное государство» после поражения в войне с японцами сможет вновь обзавестись флотом и стать крупной морской державой. Колчак не относился к числу этих людей. Более того, он считал: флот русскому мужику нужен так же, как хлеб, воздух и вода, как «окно», прорубленное в Европу, и серп для уборки хлеба, без мощного флота Россия всегда будет считаться державой, стоящей на коленях.
Едва Колчак появился в Санкт-Петербурге, едва успел обнять жену и отца, вдохнуть немного воздуха Невского проспекта, снившегося ему в горячем Порт-Артуре сплошь в синих хвостатых метелях, как президент Академии наук великий князь Константин Константинович написал письмо морскому министру с просьбой откомандировать лейтенанта Колчака в распоряжение Академии до первого мая 1906 года – надо было до конца обработать результаты Русской полярной экспедиции.
Просьба была незамедлительно удовлетворена, – и не только потому, что это была просьба великого князя; в Морском ведомстве царило полное уныние – в подчинении у бравых офицеров остались лишь деревянные барки времен севастопольской обороны, [111]
[Закрыть]из которых при скорости более двух узлов – это, переведя на сухопутный язык, примерно три с половиной километра в час – вылетали крепежные гвозди, да в воду шлепались заклепки, да еще остались музейные ботики, на которых царь-батюшка Петр Алексеевич учинял потешные морские баталии. Многие блестящие офицеры, удостоенные боевых наград, посчитали это настоящим позором и покинули Морское ведомство.
У лейтенанта Колчака имелось хорошее правило – всякое дело доводить до конца; он ощущал некую вину перед великим князем Константином Константиновичем за то, что не только общий отчет не успел написать – но даже не все бумаги, связанные с последней экспедицией на Север, сумел оформить должным образом – помешала война, сейчас надо было спешно залатывать дыры. И Колчак безропотно впрягся в работу.
Однако после того, что он видел в Порт-Артуре, после того, как у него на глазах погиб любимый адмирал, а от флота российского остались одни щепки, наука для Колчака отступила на второй план: вскоре он откровенно стал тяготиться писаниной. Не это было ныне главное.
В Санкт-Петербурге по его инициативе был создан военно-морской кружок – основа будущего Морского генштаба. Кружок получил помещение в Николаевской морской академии, получил также небольшие деньги – на чай, бумагу и проезд на конном травмае. Вскоре Колчак выступил на кружке с докладом «Какой нужен Русский флот», где высказал суждение, что флот надо выстраивать, из большого количества разномастных единиц отбирать все необходимое и «выстраивать линию», – тогда каждый корабль будет знать свое место в этой линии и свою боевую задачу – даже объяснять никому ничего не придется. Вскоре вышла статья, написанная Колчаком, – «Современные линейные корабли».
В 1906 году, закончив обработку материалов Русской полярной экспедиции, он вернулся на военную службу – в недавно созданный Морской генштаб, где стал вначале начальником статистического отдела, позже, уже в звании капитана второго ранга, – начальником отдела по разработке стратегических идей защиты Балтики.
Еще в 1906 году, в самом конце его, на стыке с 1907 годом, Морской генеральный штаб, в который вошли двенадцать блестящих молодых офицеров, не опустивших руки, не давших себя сожрать коррозии уныния, сделал сногсшибательный вывод, что следующая война у России будет с Германией и к ней надо основательно готовиться.
Причем вывод этот был сделан в пору, когда Николай Второй был в очень хороших отношениях со своим близким родственником Вилли – германским кайзером, [112]
[Закрыть]а российская знать в угоду императрице-немке восторженно ахала при виде всего немецкого.
Вот что написал по поводу будущей войны Колчак: «Мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. – совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой определяли в 1915 году, указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии, знали, что в 1915 году она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать».
Капитан второго ранга Римский-Корсаков, родственник знаменитого композитора, спросил у Колчака:
– А как вы относитесь к предстоящей войне с Германией?
Ответ был быстрый, как молния:
– Положительно.
– Но вы посмотрите, как наш Николай милуется с кайзером. Они же могут мазурку танцевать вдвоем обнявшись... Без дам-с.
– Это их личное дело, – сказал Колчак. – Государь в хмельной мазурке протанцевал Русско-японскую войну. Для него одной войной больше, одной меньше – один хрен. Он войн не считает. Отдуваться приходится простому русскому мужику, это у него кости трещат, это его кровь льется. Война неизбежна. Обстановка в Европе скоро накалится так, что о воздух можно будет зажигать спички.
Колчак не любил Германию, более того – Колчак ненавидел ее. Корни этой нелюбви были мало кому известны: об этом нужно спрашивать только у самого Колчака, но Колчак, увы, давным-давно мертв.
Обновленный Морской генеральный штаб возглавил молодой капитан первого ранга Л. А. Брусилов, [113]
[Закрыть]незамедлительно произведенный в контр-адмиралы... С Брусиловым было интересно работать. Когда он пришел в штаб, его встретили настороженно, но по тому, как он начал закручивать гайки, как взялся за дела, стало понятно: надежда на то, что российский флот будет восстановлен, есть. Вскоре казна отпустила деньги на постройку новых кораблей. Работа закипела.
Но раскрученное с таким трудом колесо неожиданно заскрипело – Брусилов внезапно умер, а новый морской министр, которому мог противостоять только он, Воеводский, [114]
[Закрыть]оказался человеком желчным, страдающим желудочными болями, несварением и поносом, он ни во что не верил и считал, что лучшего специалиста во флотских делах, чем он сам, нет, хотя с трудом отличал линейный корабль от извозчичьей пролетки, а ялик от дебаркадера.
Воеводский начал незамедлительно яростно кромсать программу строительства новых кораблей.
– Это нам не надо, – «чик» – и семь современных быстроходных крейсеров типа «Новик», которых не было ни у Германии, ни у Англии, валяются на полу. – Это нам тоже не надо, – «чик» – и несколько линкоров опрокидываются вверх килями, падают прямо под ноги льстиво улыбающимся чиновникам в ярко начищенных туфлях.
Чик, чик, чик... Воеводский умел разрушать, но совершенно не умел возводить – качество, как показала история, которое живет в крови у многих наших высокопоставленных особ. По Воеводскому, Россия для защиты своих интересов на море вполне могла бы обойтись несколькими рыбацкими байдами.
Колчак, разозлившись и одновременно опечалившись – это надо же было посадить на Морское министерство такого дурака! – решил, что не будет принимать участия в этом театрализованном представлении. Он ушел читать лекции в Морскую академию, но это пресное дело ему очень скоро опротивело, и он решил сделать следующий шаг – возвратиться к научной деятельности. В частности, к разработке и к прокладке Северного морского пути, который был нужен России, как кружка пива перепившему накануне работяге с Обуховского сталелитейного завода. Россия задыхалась, перегоняя грузы из центра на восток по железной дороге либо доставляя их по морю долгим кружным путем.
Была создана специальная комиссия, в которую вошел и Колчак. Работами «северян» заинтересовался Совет министров, который на заседании 7 апреля 1908 года принял специальное постановление, где особо подчеркнул необходимость «в возможно скором времени связать устья Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда свои шхуны для меновой торговли с прибрежным населением».
У Колчака появился сильный единомышленник – генерал-майор Вилькицкий, [115]
[Закрыть]начальник Главного гидрографического управления. По поручению правительства Вилькицкий занялся организацией новой северной экспедиции. Колчак, не оставляя службы в Морском генеральном штабе (его оттуда все-таки не отпустили) – которая была пресна и неинтересна, – включился в эту работу: он верил Вилькицкому.
Был разработан план экспедиции. Таких экспедиций в России еще не было. По Северу решено было пройти на двух ледоколах.
У России имелись такие ледоколы, как, например, «Ермак», который был хорош на Балтике, на Неве, на Ладоге, где он исправно колол лед, но для Севера он был слабоват – мощные паковые льды Севера, эти смерзшиеся стальные горы, от которых артиллерийский снаряд отскакивал, как детский мячик, «Ермаку» были не по зубам.
Паковые льды нужно было брать другой техникой, и вообще их надо было не колоть, а давить, ломать. Ломать тяжелым весом ледокола. Колчак и занялся этой новой техникой: вместе с Федором Матисеном, [116]
[Закрыть]принимавшим участие в нескольких экспедициях Толля, разработал тип судна, ни на что не похожего, и назвал его ледодавом. Поначалу будущие суда так и величали – ледодавы, – но название не прижилось.
Ледодавы – сразу два, «Таймыр» и «Хатанга», – были заложены на Невском судостроительном заводе. Впрочем, «Хатанга», еще не успев оформиться в металл, была переименована в «Вайгач».
Летом 1909 года ледодавы были спущены на воду. Колчак попросил, чтобы его все-таки перевели из Морского штаба под начало Вилькицкого, в Гидрографическое управление. На этот раз перевод с трудом, но все-таки удалось получить. Колчак был очень нужен в Морском генштабе, это понимали даже те, кто слышать не хотел его фамилию, – для того, чтобы добиться перевода, пришлось нажать на кое-какие «потайные пружины». Это было противно Колчаку, но иного выхода он не видел.
В результате Колчак получил под свое начало один из новых ледоколов – «Вайгач». Водоизмещение «Вайгача» было 1200 тонн, как, собственно, и «Таймыра»; ледодавы были одинаковы, как близнецы-братья, длина – 54 метра, ширина – 11 метров, скорость – 11,5 узла, то есть около 20 километров в час.
Ледодавы имели на борту даже вооружение – пушки и пулеметы, – мало ли что могло случиться с ними на море! Да и проходили они все-таки по Военному ведомству.
Для той поры это были лучшие северные суда, с высокой живучестью, практически непотопляемые. Колчак, поднявшись на командный мостик «Вайгача», почувствовал, как у него увлажняются, делаются туманными глаза. Он перекрестился, поднялся на второй командный мостик, верхний, открытый. Когда «Вайгач» станет одолевать стальные ледовые поля Арктики, командиру надлежит перенести с нижнего мостика управление, он должен находиться здесь и только здесь, сверху ведь видно на многие километры, сверху сподручнее наблюдать за ледовыми полями, за горизонтом, даже за айсбергами, которые иногда мало чем отличаются от обычных льдин, так же плоско лежат на поверхности океана, но если «Вайгач» нечаянно вскарабкается на такую гору, то вряд ли что сделает с ней – гора не расколется, и ледодав навсегда останется в Арктике.
Люди, которым надлежало работать вместе с командиром на верхнем мостике, должны были одеваться, как Деды Морозы на рождественских картинках: в очень теплые шубы и специальные катанки – толстые, твердые, будто вырубленные из дерева, очень теплые валенки. Полярникам к одежде своей надлежало относиться очень серьезно, все заранее продумать. Эту одежду надо было так же, как и ледодавы, специально разрабатывать, не оставляя решение этих задач на потом.
Обычно сдержанный, с каменным лицом и плотно сжатыми губами, Колчак, на сей раз расчувствовался, вытащил из кармана белый, тщательно отутюженный платок, протер им глаза, потом скомкал в комок и сунул в ткань свой нос:
– Наконец-то! – проговорил он смято. – Так с Божьей помощью мы, глядишь, и покорим Север. – Ощутил внутри далекую, загнанную куда-то за сердце, в закоулки души, боль, высморкался. Он старался эту боль не замечать и произнес вновь, со значением: – Наконец-то!
Хорошо, что он подлечил свой ревматизм – полгода, проведенные на целебных водах, позволяли ему дышать без особой натуги и не бояться, что тело в любую минуту может скрутить отчаянная ломящая боль, и со страхом ждать ее, – этой боли Колчак больше не боялся. Наверное, в будущем боли появятся вновь, но сейчас он их уже не опасался – знал, как избавляться от этой напасти.
27 октября 1909 года ледоколы отправились из Петербурга в далекое плавание – им надлежало обойти половину земного шара и пришвартоваться к причалу во Владивостоке: портом приписки новеньких ледодавов был обозначен именно этот далекий город. Колчак Владивосток не любил – не ощущал он в душе того благоговейного трепета, какой возникал, когда назывались имена Москвы, Санкт-Петербурга или Кронштадта.
Софья Федоровна провожала Колчака, Поцеловала его в одну щеку, потом в другую, затем в губы, прижалась на мгновение, втянула ноздрями дух, исходивший от стоявшего неподалеку диковинного корабля с высокими трубами и двумя зачехленными пушками на корме, украшенного густыми рядами заклепок, будто генеральский мундир пуговицами:
– Саша, береги себя!
Колчак ответно поцеловал жену в прохладный лоб:
– Не тревожься, Сонечка!
– Саша, – произнесла она тихо, едва слышно – это был шепот и в ту же пору не шепот, некий слабый шелест ветра в пространстве, – у нас будет ребенок.
Колчак неверяще вытянул голову, делаясь не похожим на себя.
– Ну?!
– Да, Саша.
Он благодарно прижал ее к себе, огладил рукой волосы, вгляделся в туманную морось, накрывшую море. Погода была собачья, даже чайки, и те попрятались невесть куда, скорее всего, забрались в щели между камнями, в старые прелые ящики, выброшенные на берег водой, в пустые угольные бункеры – флот переходил на мазут, угольная эпоха, тысячу раз проклятая кочегарами, завершалась, «черного золота» завозили на флот все меньше и меньше. Колчак прошептал, едва приметно шевельнув губами:
– Хорошая ты моя!
– Саша...
– Что же ты молчала об этом раньше?
– Проверяла себя.
– Сонечка, – прошептал он с удвоенной нежностью, – хорошая моя... Жди меня. При первой же возможности, как только... как только меня отпустит Север, я вернусь.
Но Север отпустил Колчака не скоро.
Ледоколы прибыли во Владивосток лишь летом следующего года, в жару, необычную даже для теплолюбивого Владивостока – воздух был схож с кипятком, слитым из перегретого парового котла, на улицах нечем было дышать, он ошпаривал легкие, за десять минут пребывания на открытом месте, на солнце, кожа человека облезала, как шкурка с банана. Даже грузчики в порту – огромные, знающие приемы китайской борьбы, способные ухватить жеребца за задние ноги и опрокинуть его на землю, – и те задирали лытки, хлопаясь в обморок.
В пути случилась задержка – пришлось чиниться в Гавре: подкачал «Таймыр», настолько подкачал, что старого товарища Колчака, Федора Матисена, командовавшего ледоколом, завернули назад, в Петербург, на его место был прислан А. А. Макалинский. Обстоятельство это огорчило Колчака, но помочь Матисену он был не в силах.
Едва с ледоколов на владивостокский пирс шлепнулись причальные канаты, как на набережную бухты Золотой Рог стали стекаться зеваки – таких кораблей, как эти два ледокола, здесь еще не видели.
– Скажи, парень а эта штука плавать умеет? – спрашивали они у вахтенного матроса, охранявшего трап. – Или ею, как толкушкой, можно только орехи дробить?
– И плавать умеет, господа, и орехи ею дробить сподручно, и кое-что еще делать можно, – вежливо отвечал матрос. – Это ледокол-вездеход. Посуху может забраться вон на ту гору, – он кивал на кудрявую зеленую макушку недалекого мыса, украшенного белым каменным зданием – то ли маяком, то ли таможенной конторой.
– Ну-у! – ахали зеваки на берегу.
– Да, – отвечал матрос.
– Ну так заберись!
– Приказа нету.
Колчаку было понятно, что лето пропало, до Арктики в нынешнем сезоне им не добраться. В лучшем случае ледоколы дойдут до Берингова пролива, попробуют себя в деле, помнут малость лед, а потом скатятся назад, в веселый город Владивосток, при вечернем освещении похожий на бесшабашную Одессу. Да и руководитель экспедиции пока еще не прибыл – говорят, это никому не ведомый полковник – родственник какого-то человека с мохнатой лапой, готового всегда порадеть в ущерб государственным интересам. Во всяком случае, молва прошла такая. А потом стала известна и фамилия руководителя – Сергеев.
Колчаку вспомнился другой Сергеев, который обсыпал всех пеплом на веранде у Эссена и ладонью гонял фарфоровую тарелку по бумажному кругу, вызывая духи великих людей. Каким же будет этот Сергеев?
Ледоколы продолжали стоять у причальной стенки бухты Золотой Рог, зевак заметно поубавилось, а Сергеева все не было и не было.
Полковник И. С. Сергеев появился во Владивостоке, когда уже прошли все сроки – в августе, девятого числа, – прибыл на роскошном трансконтинентальном экспрессе с яркой красной надписью на тендере паровоза «Из Парижа через половину планеты – на берег Тихого океана», локомотив привела черноликая усталая команда, ни слова не понимавшая по-русски, – это была французская бригада. И паровоз был французский.
– Незабываемое путешествие, – объявил Сергеев встречавшим его офицерам, шаркнул по перрону лакированным сапогом. – Каждому человеку надо хотя бы один раз совершить такое путешествие через всю Россию. Это было незабываемо, – вновь объявил он и сладко почмокал губами. – А в скором времени можно будет ехать не через КАВЕЖЕДЕ, не через Китай, а исключительно по российской территории, через Благовещенск и Хабаровск. «Колесуха» скоро будет сдана в эксплуатацию.
Колчак знал, что спешно достраивается участок дороги от Благовещенска до Хабаровска – самая трудная часть «Колесухи», делают это каторжники, – говорят, голов и костей своих они оставили там немерено.
Прибывший полковник как две капли воды был похож на порт-артурского эскулапа – такой же шумный, пропахший табаком, обильно обрызганный «о'де колоном», с перхотью на плечах – полковник Сергеев разительно отличался от прежнего руководителя северной экспедиции покойного Эдуарда Толля, это был человек совсем иного внутреннего склада.
У Макалинского, заменившего Матисена на «Таймыре», Сергеев спросил:
– А шампанское здесь в ресторациях подают?
– Не только шампанское, но и изящные женские туфельки, из которых его можно пить, господин полковник, – ответил Макалинский.
– Какая прелесть, – рассеянно восхитился Сергеев.
Колчаку сделалось тоскливо. Он почувствовал себя в этой компании чужим.
Через несколько дней экспедиция покинула гостеприимную голубую бухту, пахнущую розами и подсолнечным маслом – из Одессы пришел транспорт со жмыхом – и отправилась на Север, в Берингов пролив, как и предполагал Колчак; дальше же ледоколы просто не смогут пройти. Поздно уже, очень поздно...
Ледоколы дошли до мыса Дежнева, обследовали Берингов пролив, провели гидрографические съемки и астрономические наблюдения и, выдавливаемые с Севера зимой, уползли вниз, в теплый Владивосток, где холода наступали лишь в декабре.
Первым делом Колчак поспешил на почту за письмами и свежими телеграфными сообщениями. Среди сообщений одно было приятное: морской министр Воеводский, считавший, что Россия обойдется тем флотом, что у нее есть, – двух старых дырявых галош и одной деревянной рыбацкой байды вполне достаточно, чтобы защитить ее интересы в мире, – пошатнулся в своем кресле. В Морской генеральный штаб пришел новый начальник – князь А. А. Ливен, разделяющий взгляды покойного Брусилова. Известие было приятным. Колчак почувствовал, что в судьбе его вновь может наметиться очередной поворот.
Зимой 1911 года Воеводский загремел со своего кресла. Как, собственно, и ожидалось. Только ноги в роскошных французских штиблетах на спиртовой подошве взвились к потолку, да из сюртука полетела нафталиновая пыль. Колчак, узнав об этом, не сдержался, захлопал в ладони.
Новым морским министром был назначен капитан первого ранга И. К. Григорович [117]
[Закрыть]– впервые в российской жизни на этот высокий стул сел капитан первого ранга, раньше его занимали только адмиралы с несколькими черными орлами на погонах. Впрочем, капитаном первого ранга новый министр оставался недолго – ему, как и Брусилову когда-то, чуть ли не на второй день присвоили звание адмирала.