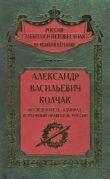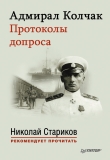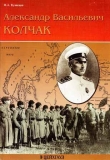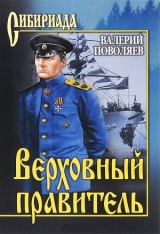
Текст книги "Верховный правитель"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
– Это сугубо внутреннее дело русских, – вполне резонно заявил один из командиров генерал-майор Я. Сыровны.
Против Колчака выступило и беглое Учредительное собрание, переместившееся из Петрограда вначале в Екатеринбург, а потом, после арестов, произведенных по распоряжению Колчака, в Уфу. Несколько членов Учредительного собрания погибло: И. Н. Муксунов был застрелен в гостинице, арестованный депутат Н. В. Фомин убит во время бунта в тюрьме, К. Т. Почекуев, бежав из тюрьмы, замерз на окраине города.
Следом было расстреляно несколько членов Учредительного собрания, эсеров и меньшевиков – Кириенко, Марковецкий, Девятов и другие. Сделала это группа колчаковских офицеров. Поговаривали – по распоряжению самого адмирала. Сам же Колчак это категорически отрицал, хотя и чувствовал: власть в руках без крови не удержать.
Все эти смерти были записаны на личный счет Колчака – кровавый счет, ибо за все, что сейчас ни делалось в России, отвечал уже он. Лично.
Дни у Колчака перемежались с ночами, ночи с днями. Он потерял ощущение времени – жил, действовал вне его. Как на фронте, в Первую мировую войну. Но там был враг, была цель, все было ясно, здесь ясности не было никакой.
Колчак чувствовал, что он плывет по течению, будто упавший с дерева в реку лист, и куда его вынесет поток, не знает никто.
Кем только ни была набита Сибирь той поры! Тут оттачивали свое боевое мастерство японские и американские дивизии. В грабежах и поборах соревновались друг с другом английские, французские, чехословацкие, сербские, польские, румынские солдаты – каждая часть со своим национальным флагом, со своими героями и своими генералами во главе. Особо стояли казаки Семенова и Калмыкова – Колчака они ни видеть, ни слышать не хотели.
– И чего эта морская вошь вздумала затесаться в нашу степную полынь? – недоумевали они. – Непонятно. Морей у нас на тысячи километров – ни одного. Окромя, конечно, Байкала... Очень даже непонятен интерес этой соленой жужелицы к степным просторам.
Французы с англичанами – несмотря на то что Колчак формально был «их», находился на английской службе – считали, что власть в России можно удержать только с их помощью. Они уже не были связаны войной с кайзером, поэтому самое время перебросить части с германского фронта в Сибирь и дать тамошним «краснюкам» по зубам. Колчак – это, конечно, хорошо, но пусть адмирал занимается своими делами, играет в Омске в свои мелкие игры, а они будут заниматься делами своими...
В общем, заварилась обычная для России каша, когда совершенно невозможно было разобрать, кто свой, а кто чужой, кого надо немедленно бить наотмашь, а кого – еще подождать...
Клемансо [172]
[Закрыть]и Ллойд-Джорж, [173]
[Закрыть]встретившись, пришли к выводу, что война против большевиков в России, и в частности в Сибири, должна вестись только под руководством их человека, и выдали такой мандат – между прочим, мандат верховного главнокомандующего, хотя этот пост уже занимал Колчак, – французскому генералу М. Жанену. Заместителем Жанена назначили А. Нокса. И соответственно предписали им немедленно вступить в командование всеми зарубежными и русскими войсками в Сибири.
Колчаку сделали подножку. В большей степени – французы, в меньшей – англичане.
Жанен, едва прибыв во Владивосток, сидя на чемодане из крокодиловой кожи и обмахиваясь шелковым платком – ему было душно, – дал интервью:
– В течение ближайших пятнадцати дней Советская Россия будет окружена со всех сторон, и ей придется капитулировать.
Жанену вторил чехословацкий военный министр М. Р. Штефаник, который также прибыл во Владивосток:
– Да, так оно и будет. Что же касается меня лично, то я приложу все усилия, чтобы чехословацкий корпус в ближайшее время вернулся на фронт.
Вояками чехи оказались плохими – они больше умели грабить да приставать к смирным деревенским бабам, – участки фронта, порученные им, быстро опустели, чехи отказались сидеть в окопах.
– Раз отказались, то и махнули бы к себе домой на печки! – не выдержал Колчак. – К бабам под юбки!
Колчак не уступил Жанену своего места главнокомандующего.
– Это же бред сивой кобылы – командовать русскими войсками с Запада. Они бы сюда еще эфиопа с эполетами прислали!
Под словом «они» Колчак имел в виду Клемансо и Ллойд-Джорджа.
Жанен обиделся, но плетью перешибить обух не сумел. Договорились так: Колчак будет главнокомандующим в российских войсках, Жанен – во всех остальных, то есть в «заморских». В боевых операциях «заморские» войска участия практически не принимали – охраняли железную дорогу да иногда поливали свинцом настырных партизан, однако обмундирования, оружия и патронов забирали себе непомерно много – львиную долю. Колчаку иногда вообще ничего не доставалось.
Со своими соотечественниками Колчаку тоже пришлось немало хлебнуть. Ни Семенов, ни Калмыков его так и не признали. Очень долго колебался Деникин. Уже и Юденич [174]
[Закрыть]подчинился, и Миллер, [175]
[Закрыть]и Дутов [176]
[Закрыть]со своим Оренбургским казачьим войском, а Деникин все еще колебался: очень не хотелось ему на старости лет заглядывать кому-то в рот и вообще получать приказы от «мокропутного». Но тем не менее и он, едва ли не последним – это произошло тридцатого мая 1919 года, – признал власть Колчака. В своем приказе Деникин написал:
«Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею Верховном командовании.
Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как Верховному правителю Русского Государства и Верховному главнокомандующему Русских армий.
Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России».
В ответ на это признание Колчак назначил Деникина своим заместителем.
Происходила чехарда и в Совете министров. Видимо, в этом заключена еще одна беда России – тасовать министров как колоду карт, перебрасывать их с места на место, словно никчемные бумажки: едва министр привыкнет к своему креслу, обживет малость кабинет, как его, глядишь, уже р-раз! – и на другой стул пересадили. А там – все сначала. Генерал Жанен записал в своем дневнике: «Любопытная вещь – перманентность министров: они работали с Директорией, работают с адмиралом, который опрокинул Директорию». Министры у Колчака были «разноцветные», но больше всего среди них насчитывалось эсеров и меньшевиков.
Хотя, принимая из рук адмирала портфели, они дружно заявили, что выходят из своих партий... Но симпатии-то все равно остались.
Партий существовало в ту пору много, очень много – вплоть до партии любителей канареечного пения, которая тоже претендовала на свой портфель в правительстве, все партии действовали, запрещена была лишь одна – партия большевиков.
Колчак назначил своими указами ряд генерал-губернаторов, восстановил суды и сенат, городские думы и земства, утвердил государственный герб России: им стал хорошо знакомый всем двуглавый орел, только без корон – Романовы пали! – вместо корон был изображен крест Константина и начертан девиз «Сим победивши», вместо державы и скипетра в лапах орда были зажаты два меча. Национальный флаг был оставлен старый – тот, что раньше развевался на торговых судах, – бело-сине-красный...
Колчак утвердил «звездную палату» – Совет Верховного правителя, куда входили и гражданские министры, и люди с погонами, генералы, – но все равно машина управления действовала медленно, вызывала у адмирала раздражение. Понимая, что в условиях войны он один равен целому Совету министров, – приходилось спешно, ни с кем не советуясь, подписывать различные бумаги, поскольку время не ждало.
Было широко распространено обращение «К населению России», где Колчак заявил следующее:
«Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру».
Правильные, в общем-то, слова, хотя терпимость к меньшевикам и нетерпимость к большевикам многих откровенно настораживала – партия-то одна, что у меньшевиков, что у большевиков, – но Колчак почему-то ненавидел большевиков люто.
Он издал несколько распоряжений, касающихся предпринимательства, поощряя деловых людей, объявил свободную торговлю по «вольным ценам», начал совершенствовать налоговую систему, боролся со спекулянтами, в чем, кстати, был полностью солидарен с большевиками, считая, что нельзя позволить мужику с кошелкой под мышкой и сальными губами сесть рядовому гражданину на шею и выуживать из него последние копейки... Такому мужику – свинцовую плошку в лоб из маузера. Что заслужил, то заслужил.
Начал Колчак усердно изучать и труды Столыпина [177]
[Закрыть]– их было немного, и тем более они были ценны – и всерьез подумывал о создании в Сибири фермерского хозяйства, по американскому принципу. Стремился ладить с рабочими и крестьянами.
Рабочим он откровенно сочувствовал, зная, как трудно они живут, но тем не менее запретил им бастовать. Как-то к нему явилась делегация рабочих – Колчак принял ее незамедлительно, отложив все дела. Гости вольно расположились в кабинете. Старший из рабочих потянулся к хрустальному графину с водой:
– Это почему же, господин Колчак, мы не имеем права бастовать?
Колчак улыбнулся: на него этот ершистый мужик произвел хорошее впечатление. Не требует сию же минуту повысить зарплату, не пристает с ножом к горлу, чтобы ему незамедлительно выдали пару пудов хлеба и по селедке на нос, а печется о воле...
– Потому что идет война, – пояснил Колчак. – Кончатся бои – бастуйте на здоровье! Сколько угодно бастуйте. А сейчас нельзя.
Рабочие ушли от Колчака довольные: выслушал, объяснил, что к чему. Поговорили, в общем, по душам.
Сидя в Омске, Колчак вспомнил свои походы по Северу и решил направить в Арктику экспедицию.
– Арктика – будущее России, – громко заявил он.
Создал дирекцию маяков и лоций. Следом образовал Комитет Северного морского пути и Институт исследований Сибири.
Ему казалось, что жизнь становится лучше, но она становилась все хуже и хуже. Хотя в сравнение с западной частью России, конечно же, не шла – там люди голодали. В Сибири до этого дело не докатилось, но даже зажиточный здешний люд проделал в своих ремнях немало новых дырок.
Помощь, которую Колчаку оказывали страны Антанты, была небезвозмездной: за нее приходилось платить золотом.
Золотой запас России – золото в слитках и монетах, платина, серебро, ювелирные изделия и ценные бумаги – хранился в Казани. В августе 1918 года он был взят чехами и доставлен в Самару. Оттуда – в малость надкушенном виде – в Омск, в распоряжение Верховного правителя России. Произошло это восемнадцатого ноября.
Общая стоимость золотого запаса составляла 651 352 117 рублей 18 копеек. Это было много, очень много. Даже в условиях революционной инфляции. На оплату поставок из-за рубежа было потрачено 242 миллиона золотых рублей – за каждую копейку Колчак обязательно отчитывался, в этом вопросе он был крайне щепетилен. И не его вина в том, что солидную часть из этой суммы положили себе в карман белочехи и бравый атаман Семенов.
Помощь из-за рубежа оплачивать надо было обязательно, чтобы ручеек этот не иссяк. Без него невозможно было поставить на ноги заглохшую, а кое-где и вовсе грохнувшуюся вниз лицом промышленность.
Колчаку до всего было дело, он успевал заниматься вопросами социальной помощи: восстановил пенсионное обеспечение, образовал несколько приютов для престарелых, инвалидов и детей-сирот, старался помочь семьям солдат – особенно георгиевских кавалеров, погибших на фронте, создал несколько протезных предприятий.
Хотя адмирал и был против жестокости, но подчиненные ему люди – прежде всего военные – этой жестокостью отличались особо. И Колчак не спрашивал с них за это.
Увы! Например, генерал-лейтенант С. Н. Розанов, занимавшийся борьбой с партизанами в Енисейской и Иркутской губерниях, ссылаясь на личное распоряжение Колчака, приказал спалить два крупных села. Села спалили только за то, что у Розанова имелись сведения: жители этих сел якшаются с партизанами.
Колчак же такого распоряжения генералу Розанову не давал.
Свирепствовали чехи Радолы Гайды: без суда и следствия расстреливали мужчин якобы за сопротивление при побеге, пороли женщин, в реках топили детей и старух. И ни один из этих хваленых вояк не ответил за свои действия. Россия была для белочехов чужой страной, а на чужое – плевать!
Население страдало от поборов, налогов, изъятий зерна и продуктов, которые производили под видом исполнения указов Колчака.
Все, что ни происходило в Сибири, «вешали» на Колчака: по его-де велению...
Лютовали казаки. Эти – прежде всего семеновцы – отличались жестокостью: всех, кто не был причислен к казачьему сословию, не считали за людей. Обычным явлением стали карательные операции, а что оставляли после себя каратели-казаки – известно всем. Остовы сгоревших изб, разграбленные амбары, растерзанные люди.
И во всем обвиняли Колчака – он, дескать, приказал...
Даже когда Колчак, промерзнув в легкой шинели до костей, свалился с воспалением легких в постель и лежал без сознания, он все равно отвечал за зверства своих подчиненных. Зверства происходили в тылу, не на фронте – на фронте шла обычная война.
Колчаковцы провели блестящую операцию и взяли Пермь. А вот на юге Урала, наоборот, продули кампанию и вынуждены были оставить Уфу и Оренбург.
Зима 1919года была очень успешной для Сибирской армии Колчака. Сам адмирал часто выезжал на фронт, посещал места боев, знал, какой жизнью живут солдаты в окопах, и к Пасхе 1919 года был награжден Георгиевским крестом третьей степени.
Кроме орденов царских, которые были в ходу, в Сибири существовали ордена и колчаковские. В частности, ордена «За великий сибирский поход» двух степеней, а также «За освобождение Сибири» четырех степеней, учрежденные еще Директорией.
Хоть и равнодушен был Колчак к орденам, а от очередного офицерского Георгия не отказался.
Жизнь закрутила его, выбила из привычной колеи, в толчее дней он совершенно забыл о жене, о сыне, стал забывать даже Анну Васильевну Тимиреву, хотя та находилась совсем рядом – жила всего в пяти или шести кварталах от штаба Колчака. Несколько раз он оставался ночевать в штабе – в темноте, в охлестах вьюги, в мороз, до дома добраться было невозможно, бывали случаи, когда обессилевшие люди находились уже в пяти метрах от собственного жилья, но одолеть эти пять метров не могли, так и замерзали на пороге.
Сибирский холод – штука немилосердная, коварная, таинственная, мороз будто бы имеет злую душу, и цель также имеет – злую, жестокую: умертвить человека. Чем больше людей умертвить – тем лучше.
В половине четвертого дня в городе делалось темно, как ночью, двигаться против ветра можно было только вслепую либо повернувшись к ветру спиной, иначе он вместе с крошками железного льда, с россыпью скрипучего, острого, будто наждак, снега высечет глаза, а уж о том, что снег забьет рот, ноздри так, что нечем будет дышать, и говорить не приходилось. Это случалось со всеми сотрудниками отдела печати, в котором тогда работала Анна Васильевна.
Казаки – их конные разъезды патрулировали Омск круглосуточно, – похожие на лохматые снежные привидения, часто останавливали коней и, спешившись, пальцами выковыривали у них из ноздрей сосульки. Если этого не делать – кони погибнут.
С наступлением поры зимних ветров люди в Омске начинали болеть – так было всегда, временами казалось, что болеет весь город, – и тогда по Омску ползла тихая паника... Не было ничего хуже заболеть в эту пору.
Некоторые не вставали с постелей уже никогда.
Закашлял, зачихал, захлюпал носом Цицерон, борода у него растрепалась, поредела, сделалась жалкой, будто пук использованной пакли. Вечером шестого февраля он, поникший, облезший, зашел в комнату к Анне Васильевне.
– Сударыня, не найдется ли у вас каких-нибудь противопростудных порошков, а? Либо микстуры? Грудь заложило гноем. Болит.
Анна Васильевна удивилась несказанно: Цицерон заговорил! Всполошилась:
– Голубчик, вам же к врачу надо!
Цицерон помрачнел:
– В жизни не ходил по эскулапам.
– Надо, голубчик, надо!
Цицерон медленно покачал головой:
– Нет. И таньги, чтобы платить эскулапу, у меня нету. – Цицерон сгорбился еще больше, закашлялся и беззвучно, будто привидение, хотя мужиком он был грузным и на привидение никак не походил, ушел к себе.
– Тогда хозяйка пусть вам нагреет воды, попарьте себе обязательно ноги, – крикнула ему вдогонку Анна Васильевна.
Цицерон промолчал. Хозяйку Анна Васильевна видела редко – убогая, всегда улыбающаяся, с мокрым ртом, она передвигалась только боком и жила в совершенно ином мире – в тайге ее укусил энцефалитный клещ, с тех пор она и стала такой.
Четырнадцатого февраля 1919 года Анна Васильевна послала письмо Колчаку, находящемуся на фронте: «Дорогой мой, милый Александр Васильевич, какая грусть! Мой хозяин умер вот уже второй день после долгой тяжелой агонии, хоронить будут в воскресенье. Жаль и старика, и хозяйку, у которой положительно не все дома, хотя она и бодрится. И вот, голубчик мой, представьте себе мою комнату, покойника за стеною, вой ветра и дикий буран за окном. Такая вьюга, что я не дошла бы домой со службы, если бы добрый человек не подвез – ничего не видно, идти против ветра – воздух врывается в легкие, не дает вздохнуть. Домишко почти занесен снегом, окна залеплены, еще нет 5, а точно поздние сумерки. К тому же слышно, как за стеною кухарка по складам читает псалтырь над гробом. Уйти – нечего и думать высунуть нос на улицу...»
Люто было в ту пору в Омске.
В Севастополе по сравнению с Омском – райская погода. Лишь изредка с неба на землю падает водяная пыль, и все, больше из осадков – ничего; хотя, впрочем, пыль иногда оказывается затяжной, тогда она переходит в мелкий серый дождик, который, смочив булыжник на мостовых, все же стихает, следом сквозь раздвинутые облака проглядывает солнце.
Оно здесь, как и облака, также бледное, зимнее, ни тепла от него, ни иного проку, такое солнце даже загара не оставляет, но в душе все же рождает надежду: не все зиме быть. Зима обязательно кончится, и наступит благословенное теплое лето. И тогда на хмурых лицах людей появляются улыбки.
В один из таких дней, когда солнце перемежалось с мелким дождем, англичане вывезли Софью Федоровну вместе с сыном из Севастополя. Вывезли на узком, с крохотными каютами, старом хищном миноносце – англичане оказались людьми не только слова, но и дела, они считали, что Колчак будет чувствовать себя спокойнее, а действовать уверенней, когда узнает, что семья его находится в безопасности.
В этом они были правы.
Конечно, Колчак хорошо знал, что такое контрразведка, но никогда ей не придавал большого значения, особенно на Балтике, где германских шпионов было, как мух в забытой на столе тарелке супа. И уж тем более такого, какое она приобрела под его крылом в Сибири.
Некоторых людей только при одном слове «контрразведка» начинал бить колтун, будто их раздели донага и вывели на мороз.
Особенной жестокостью отличался начальник Иркутской контрразведки полковник Сипайло. Имелся у него и надежный помощник – штабс-капитан Черепанов, из тех, кто умеет сбривать на ходу подметки и к делу своему никогда не относится наплевательски – только с выдумкой, творчески. И что еще ценно – ни от какого задания, даже самого грязного и трудного, не отказывается.
Таких сотрудников, как Сипайло и Черепанов, у Колчака были тысячи.
Контрразведка лютовала – была она пострашнее казаков, белочехов и сибирских морозов, вместе взятых. В армии генерала Каппеля любимым занятием контрразведчиков было пускать человека в расход «изысканным» – сибирским – способом. Человека раздевали догола и в чем мать родила выводили на мороз. Там ставили на снег, обливали несколькими ведрами воды.
«Хар-рошо, когда в доме топится печка!» – радовались контрразведчики, глядя, как несчастный превращается у них на глазах в сосульку. Оказывается, человеку для того, чтобы стать сосулькой, надо очень немного – всего десять минут. На часах даже засекали – ровно десять минут.
Причем, как выяснилось, мужчина «поспевает» быстрее, чем женщина, – нет у мужиков того запаса внутреннего тепла, что имеется у женщин.
Замерзших людей потом не прятали, не хоронили, а выставляли напоказ на улицах – чтобы неповадно было чалдонам выступать против Верховного правителя.
Молодые офицеры контрразведки, глядя на замороженных людей, весело покуривали французские сигаретки и чесались гладко выбритыми щеками о погоны:
– На юг что-то хочется. В Крым.
Когда у них спрашивали: «По чьему приказу казнены эти люди?» – офицеры браво щелкали каблуками и отвечали:
– По приказу главкома войск.
Кто такой «главком войск», не спрашивал никто – и без слов было ясно: Александр Васильевич Колчак.
Колчаком недовольны были все, не только большевики – и эсеры, и монархисты, и горлопаны-анархисты, и меньшевики – контрразведчики всякое недовольство подавляли жестоко.
– Сейчас время такое – всех, кто против нас, – к ногтю. Никакой жалости, – говорили они, – иначе мы продуем Россию окончательно.
И все-таки реже всего в руках контрразведчиков оказывались большевики – они ушли в подполье, на рожон особо не лезли, действовали продуманно, – чаще всего попадали просто случайные люди. Их пытали. На сорокапятиградусном морозе их превращали в ледяные глыбы. Кто, спрашивается, велел это делать?
– Главком войск! – отвечали молодые офицеры, руководившие пытками.
Самым крупным ледоколом на Байкале считалась «Ангара» – с приземистым тяжелым корпусом и высокими трубами, с уютными, обшитыми деревом каютами и сильной паровой машиной. «Ангара» расправлялась с толстым байкальским льдом играючи. На ней однажды побывал даже Никифор Бегичев – поседевший, раздобревший, в офицерской морской форме без погон, но еще не растерявший прежней ловкости, он сходил на «Ангаре» к Шаман-камню и похвалил:
– Толковый карапь эта «Ангара». В нашу пору таких было мало.
Но большей частью «Ангара» простаивала в ледяном затоне неподалеку от дымного, завешенного радужным облаком места, где река Ангара ныряла к Байкалу под лед, как под одеяло, и растворялась там.
Саму Ангару сковать льдом было трудно, она выдерживала морозы под пятьдесят градусов и не поддавалась студи, Байкал же весь, целиком находился под панцирем, отдыхал – ледокол пройдет по нему немного, разомнет стальной голубой покров своей грузной тушей, но едва он возвратится в затон, как байкальскую воду вновь стиснет своими холодными колючими руками мороз, и через полчаса на Байкале уже ничего, кроме спекшегося прочного льда, не будет. Неведомо чем глянулся ледокол штабс-капитану Черепанову, только контрразведчик, что называется, положил на него глаз. Постоял на берегу напротив ледокола, поприкидывал что-то про себя, помял теплыми мягкими бурками снег и отправился к коменданту порта штабс-капитану Годлевскому.
– А что, если мы этот ледокольчик, сударь вы мой любезный, приспособим для наших дел? – проговорил он в кабинете Годлевского невнятно – то ли задавал вопрос, то ли не задавал, сосредоточенно стягивая с рук за пальцы тесные перчатки. – А?
Годлевский поднялся с кресла:
– Ледокол к вашим услугам!
– Вот и чудненько, – дружелюбно молвил Черепанов и стал натягивать на руки перчатки. – Есть тут у нас одна задумка...
– Хотите проучить врагов России? – готовно улыбаясь, спросил Годлевский.
– Хотим.
– Ледокол к вашим услугам! – повторил Годлевский. По лицу его проскользила озадаченная тень: это как же, интересно, контрразведка использует ледокол в борьбе с врагами России?
Черепанов не стал разбираться в психологических тонкостях этого вопроса, возникших в душе Годлевского вместе с некими смутными переживаниями, приложил два пальца к папахе и вышел.
Ночью затон окружили солдаты Особого Маньчжурского отряда – они были приписаны к контрразведке, – через двадцать минут на ледокол доставили арестованных. Всего арестованных насчитывалось тридцать один человек, в основном мужчин. Впрочем, были и женщины... Арестованных немедленно спустили в трюм, у люка поставили часовых.
– Командуйте отход! – приказал Черепанов капитану ледокола Базилевскому.
Тот молча взял в руки жестяной рупор.
Через несколько минут отошли.
Следом за ледоколом, метрах в двадцати от него, двигался «Круглобайкалец» – задрипанный пассажирский пароходишко с плохими каютами, но с мощной машиной.
– Куда идем? – хмуро спросил Базилевский у стоявшего рядом с ним Черепанова.
– В Листвянку.
Капитан щелкнул тумблером – на несколько минут включил прожектор, установленный на носу ледокола, – ему надо было сориентироваться, Черепанов проворно протянул руку к тумблеру и выключил прожектор.
– Не надо, – тихо произнес он.
Базилевский вопросительно покосился на штабс-капитана.
– Не надо, – повторил тот тихим голосом. От такого голоса по коже обычно бегают мурашки. – Не надо привлекать к себе внимание.
– Но я же в темноте могу налететь на камни!
– Налетите на камни – расстреляем, – не меняя тихого голоса, убийственно вежливо произнес Черепанов.
Базилевский невольно сгорбился, подул в трубу, соединяющую капитанский мостик с машиной, скомандовал:
– Держите малый ход!
Под днищем «Ангары» гулко затрещали, захлопали, дробясь, льдины, капитан хотел было сам встать за штурвал, но что-то у него внутри закоротило, воспротивилось: не барское это дело – крутить штурвал, его дело – подавать команды, сухое лицо Базилевского сделалось еще суше, совсем стало походить на лишенный мышц череп, он прислушался – не доносится ли из трюма вой заключенных, но воя не было, и Базилевский тихо произнес, обращаясь к рулевому, крутившему вираж:
– Заложи еще круче, иначе врежемся в целик.
Слева, невидимый в темноте, пополз целик – нагромождения толстого байкальского льда, схожие с горами. В марте сюда придут пильщики, они будут резать голубую твердь на огромные кубы и увозить в Иркутск, в тамошние ледники, чтобы можно было сберечь мясо, масло, запасы байкальского омуля, который, если зимний, имеет совершенно иной вкус, чем летний, июньский или июльский...
Высокий, сутулый, словно на плечи ему опустили мешок с мукой и забыли снять, Черепанов стоял рядом с Базилевским и так же, как и капитан, пристально вглядывался в вязкую черную муть ночи. Тяжелая кобура с револьвером, сшитая из толстого техасского опойка, была передвинута на живот – в любую секунду мог ухватиться пальцами за рукоять... Выглянул из рубки, посмотрел за борт – ничего не увидел, услышал только тяжелый хруст льда, будто кувалдой возили по хрусталю, вгляделся в темноту, за корму ледокола – как там «Круглобайкалец»? «Круглобайкалец», весело посвечивая холодными огнями, шел за «Ангарой», не отставая от нее ни на метр.
Черепанов вернулся в рубку, вновь стал рядом с капитаном.
Ледокол трясло. От такой медленной «езды» зубы крошатся, а уж об обычной боли и говорить не приходится; можно было, конечно, подогнать Базилевского, но Черепанов этого не делал – зачем подгонять? Времени у него было полным-полно. Это у тех, кто заперт в трюме, время на исходе... Он почувствовал, что рот у него сам по себе растягивается в улыбке.
Рассвело поздно – уже в десятом часу, небо посерело, пошло жидкими полосами – признак того, что морозы скоро ослабеют и повалит снег, – ледокол шел по проторенной дорожке в Листвянку, он много раз уже ходил этим путем, таскал за собою баржи и хлипкие, не приспособленные к зимней байкальской жизни пароходики, – привычно давил лед, утюжил черную хрустящую дорожку...
Когда подходили к Листвянке, Базилевский спросил у штабс-капитана:
– Причаливать будем?
– Нет!
– Тогда что делать дальше?
– Разворачиваемся на сто восемьдесят градусов.
Разворот совершили, плотно прижавшись к берегу, – со стороны Байкала наползал тяжелый паковый лед, одолеть его «Ангара» не могла – не по зубам – и по своему следу, местами даже не замерзшему, двинулась обратно.
Когда впереди, среди угрюмой серой равнины стал легким пятнышком мелькать, то возникая из пространства, то пропадая в нем, Шаман-камень, Черепанов скомандовал капитану:
– А теперь – самый малый!
– Зачем? – удавился Базилевский.
– Затем, – внушительно произнес Черепанов и положил руку на кобуру револьвера.
Капитан подчинился приказу. В конце концов его дело – собачье. Маленькое. Губы у него обиженно дрогнули, затряслись, словно от нервного срыва, но это происходило недолго: в следующее мгновение он вновь сделался самим собою.
За дверью рубки показался офицер в добротной бекеше с барашковым воротником, Черепанов кивнул ему, показывая на свое место. Офицер сменил штабс-капитана, встал рядом с Базилевским и извлек из кобуры револьвер.
– Значит, так, – сказал он Базилевскому, – не оглядывайтесь! Ваша задача – только двигаться вперед. На самом малом ходу. Что будет происходить на ледоколе, вас не касается. – Для убедительности офицер постучал рукоятью револьвера по деревянной панели рубки.
Капитан скосил на него глаза. Офицер был еще совсем юный, с черными щегольскими усиками и тремя маленькими звездочками на погонах. Поручик. «Нецелованный еще, жизни не повидавший, – Базилевский вздохнул, – а уж мне, старому хрену, дырявой пукалкой грозит. Сейчас сброшу в байкальскую стынь, будет знать, как грозить...» Но у офицера было оружие, а у Базилевского нет. «Против лома нет приема». – Базилевский вздохнул и сник.
За дверью рубки послышались голоса, топот. Капитан понял – солдаты сгоняют матросов в кубрик.
«Набьют сейчас, как селедок в бочку, потом в кубрик войти нельзя будет, – недовольно подумал он. – Вонь будет висеть в воздухе, хоть лопатой ее расковыривай. Как в коровьем стойле. И чего им матросы помешали?»
– Не оглядываться! – прикрикнул на него поручик, хотя Базилевский и не думал оглядываться.
Но, видимо, на лице у него было написано нечто такое, что невольно заставило поручика обеспокоиться.
– Где Лукин? – послышался в коридоре громкий голос.
– Сидит в каюте, пьет самогон.
– Лукина немедленно к полковнику Сипайло!
Вскоре по узкому железному коридорчику прогрохотали тяжелые сапоги громадного хмельного казака.
Темный, занесенный туманом контур Шаман-камня прорисовался целиком и неспешно покачивался впереди, по носу ледокола.
Загрохотала цепь, которая была накинута на петли трюмного люка.
– Капитан, переведите ход машины на «самый малый», – скомандовал поручик, ногтем поддел один ус, украшенный кокетливым, почти дамским завитком, затем поддел другой, провел пальцем по верхней губе, подравнивая края усов. Он был доволен жизнью, ему все в этом мире нравилось, и вообще он считал, что будет жить вечно.