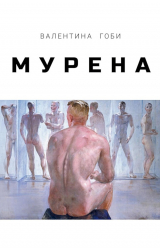
Текст книги "Мурена"
Автор книги: Валентина Гоби
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Она оглядывает комнату: стол, ваза с тюльпанами. Шкаф. Тумбочка. Будильник. Синий абажур. Два фикуса, большой и маленький.
– Я ведь никогда не бывала у тебя… – Она вынимает из сумки сверток: – Это тебе.
– Что это?
– Каштаны в сахаре. Ты их очень любил.
Франсуа приподнимает бровь.
– Как-то я уговорила тебя попробовать, и мы объелись чуть ли не до тошноты.
Они раскусывали сахарную корку, и каштановая мякоть таяла у них на языке.
– Я все-все помню.
Нина думает: надо было надеть те самые заляпанные краской штаны, в которых я была в день нашей первой встречи. Внезапно ее настигает озарение: ни о какой любви здесь речь не идет, просто временное увлечение. Да, оно было – в тот январский день в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году; на перроне станции метро в час пик, в результате случайных совпадений, случайной последовательности поступков и слов; все началось, когда в толчее вагона ему в глаза полыхнули ее огненно-рыжие пряди, потом он разглядел коротко остриженные ногти, и кончики ее пальцев напоминали маски скафандров. Он ни на секунду не выпускал из виду ее руки, его неумолимо влекло к этой девушке сквозь равнодушную толпу пассажиров; она рассердилась, а он страшно развеселился, когда из ее сумки на платформу высыпалось бесчисленное множество серебристых деталей, и им пришлось стать на колени, и они ощущали тела друг друга; он еще посмеялся над девушками, которые занимаются ремеслом, а она что-то едко ответила ему, и он осекся, что еще больше его развеселило; и после этого они подружились; она помнит, как он брал ее под руку, и этот жест был прологом чувственных ласк; но все это запечатлелось в первой картинке – рыжие волосы, давка, резкое торможение поезда… тот самый день, тот самый вагон…
Она любит, все еще любит мертвеца, сокрытого в нем. Да, они видят друг друга в этой комнате в Батиньоле, но уже не могут встретиться. Картинка их первой встречи потерялась, источник любви иссяк, и с этим ничего нельзя поделать.
– А зачем ты согласился увидеться со мной?
Франсуа смотрит в окно на улицу, где двое мальчишек пинают мяч.
– Чтобы убедиться. Я прошу прощения.
Нина чувствует себя полной дурой в шерстяном платье в разгар летней жары. Она встает со стула и, прежде чем уйти, нежно трогает его густую бороду, скорбя по своему счастью. Чужая…
Появился человек, который стал его голосом.
– Дорогая Надин, запятая… – выводит Жан Мишо.
Мужчина смотрит на замершее перо в руке пишущего, задумывается.
– Нет, постойте… Вычеркните «дорогая».
Жан Мишо перечеркивает слово «дорогая», ждет. Он спросил Франсуа, хочет тот написать письмо на машинке или от руки. Франсуа сказал – от руки. Жан Мишо сообразил: значит, письмо будет личным. Машинописный текст придает содержанию деловую серьезность, его невозможно трактовать как почерк. Рукописный же текст – а Жан Мишо уже двадцать лет служит общественным писарем – обладает индивидуальными особенностями. Жан Мишо, как он сам выражается, прожил тысячу жизней. Он побывал и алжирцем, и марокканцем, и испанцем; заезжим туристом; он побывал в шкуре должника, мужем сотен жен, кавалером сотен любовниц, отцом сотен сыновей и сыном сотен отцов. Ему исполнялось то пятьдесят, то двадцать, то семьдесят лет; он бывал брит и бородат, он был рабочим, банковским клерком, парижанином, говорил то с эльзасским, то с провансальским, то с овернским акцентом; то примерял на себя женское платье, то мужской костюм; его и жег юношеский огонь, и холодила глубокая старость; ему приходилось побыть грамотеем и безграмотным, косноязычным балбесом, который не смог получить аттестат зрелости, даже анонимщиком… А теперь Жан Мишо – человек, лишенный обеих рук, что сидит напротив, смотрит на перо в его пальцах и мучительно подбирает нужные слова в тишине, повисшей в кабинете.
В тот день через стеклянную дверь своей крошечной конторы Жан Мишо увидел чье-то лицо. Вернее, темный абрис мужской головы на сутулой шее, в ореоле солнечного света. Голова склонялась то влево, то вправо, всматривалась сквозь стекло. Однако дверь не открывалась. Наконец Жан Мишо не выдержал и крикнул: «Да что вы там? Входите, открыто!» Безрезультатно. Глухой он, что ли? – подумал Мишо, отодвинул стул, направился к выходу и увидел перед собой высокого худощавого блондина с глубоко запавшими глазами. Затем перевел взгляд на его руки, заметил вместо них завязанные узлами пустые рукава и невнятно пробормотал: «Что же это такое? Что вам угодно?»
– Мне нужно написать письмо, – ответил молодой человек.
Они вошли в контору и сели за стол. Уже с четверть часа тишина кабинета прерывается односложными словами, слогами, кусками слов, эканьем и мэканьем. Жан Мишо заставляет себя смотреть на бумагу, на текст, ему очень хочется поподробнее разглядеть странную фигуру клиента. Он замечает выползающего из-под плинтуса таракана, сосредоточивается на насекомом. Но его мучает вопрос: как такое могло случиться? Как этот человек потерял обе руки?
– Надин, – наконец произносит клиент, – я не знаю, о чем вам написать.
Четверть часа прошло, а они только начали…
– Я не зна-ю, о чем вам на-пи-сать.
Жан Мишо привык не задавать лишних вопросов. Он – рука, рот, язык других людей, случайных в его жизни. Разве что его иногда просят добавить эмоций, сделать текст поживее: «вот было бы здорово», «да пошло бы оно все», «со слезами на глазах», «если возможно испросить прощения», «я очень сожалею», «если бы ты могла вернуться», – и он пишет все это не моргнув глазом – и томные откровения, и эротические записки: «я желаю сосать твои груди, кусать твои губы; мы будем трахаться до изнеможения», – и тогда он не Жан Мишо, а кто-то другой, он – чистой воды медиум; он не осуждает, пишет так, как ему говорят, буквально отражает мысли своих заказчиков. Но сейчас, сидя перед этим почти мальчишкой, лишившимся обеих рук, он не может полностью отрешиться. Ему неловко. Его начинает разбирать любопытство. Кто эта Надин? – думает он.
– Но мне хочется написать хоть что-то, – продолжает клиент.
Ну, в добрый час. Парень не испытывает недостатка в словах, думает про себя Жан Мишо, вслух же громко повторяет:
– Но мне хо-чет-ся вам на-пи-сать.
В этом изуродованном теле огромное количество невысказанных слов. Каждый раз, открывая рот, он должен сдерживать себя, выбирать нужные выражения, и это занимает много времени. Проблема в том, что Жан Мишо получает вознаграждение не повременно, а лишь за количество исписанных страниц.
– Вот и настало лето…
– Вот и на-ста-ло ле-то.
– Интересно, как выглядит ваш V. в июле? Вопросительный знак.
– V.? Как правильно произносится название города?
– V.
Жан Мишо не знает, где находится такой город; ему становится интересно.
– Луга, наверное, заколосились. Небо поблекло. Быть может, еще цветут нарциссы. Шумит река. Надеюсь, вы не забросили английский. А я больше уж не лазаю по крышам…
– Секундочку… По кры-шам…
Жан Мишо пытается повторить интонацию, чтобы правильно расставить запятые и точки.
– Я почти не выхожу из своей комнаты, разве вот только сегодня. Я не могу писать сам – за меня пишет другой человек. Другие люди моют меня, кормят, проводят медицинские осмотры…
Юноша замолкает. В тишине слышится лишь тиканье настольных часов. Таракан наконец добрался до правого угла комнаты; солнечный луч отражается от лезвия канцелярского ножа.
– Я курю теперь при помощи штатива, что сделал для меня Виктор. Но если бы вы знали, как мне грустно! Я помню ваши пальцы, когда вы передавали мне сигарету, они были словно апельсиновые дольки.
Жан Мишо в некотором замешательстве. Он наконец осмеливается поднять глаза и посмотреть на своего клиента – тот не сводит взгляда с зависшего над бумагой пера. Надо бы запомнить, думает Мишо. Придет Жильбер со своими лирическими причудами, вот ему и будут апельсиновые дольки… Писарю начинает казаться, что клиент влюблен, и чувствует себя несколько неловко.
– Дома меня никто не ждал, кроме разве что девушка, которую я совсем не помню. Я здесь совершенный чужак.
– …со-вер-шен-ный чу-жак…
– Вы как-то сказали, что называли меня по имени, чтобы я захотел остаться. А по имени меня называют лишь те, кто любит.
Жан Мишо смотрит на фотографию своей жены в серебристой рамке на стене. Он пытается представить, как выглядит Надин.
– Мне очень хотелось бы снова услышать, как вы называете меня по имени.
Голос, что произносит эти слова, становится необычайно проникновенным. Жан Мишо с сожалением отмечает, что он не в состоянии выразить эту нежность на бумаге. За неимением лучшего он выписывает эти слова красивым, изящным почерком.
– Целую вас, Надин. Франсуа.
– Фран-су-а… Так что, я надписываю конверт?
– Да. Пишите: мадемуазель Надин Фай, дом пять, улица де-ля-Гар, город V., Арденны.
Теперь Мишо знает, где находится город V. Значит, Арденны. Само тело этого парня напоминает очертания Арденнского выступа, от него так и веет войной и кровью.
– Итак: мадемуазель Надин Фай, дом пять, улица де-ля-Гар, город V., Арденны. Текст: «Надин, я не знаю, что Вам написать, но мне хочется написать хоть что-то. Вот и настало лето. Интересно, как выглядит Ваш V. в июле? Луга, наверное, заколосились. Небо поблекло. Быть может, еще цветут нарциссы. Шумит река. Надеюсь, Вы не забросили английский. А я больше уж не лазаю по крышам. Я почти не выхожу из своей комнаты, разве вот только сегодня. Я не могу писать сам – за меня пишет другой человек. Другие люди моют меня, кормят, проводят медицинские осмотры. Я курю при помощи штатива, что сделал для меня Виктор. Но если бы Вы только знали, как мне грустно! Я помню Ваши пальцы, когда Вы передавали мне сигарету, они были словно апельсиновые дольки. Дома меня никто не ждал, кроме разве что девушка, которую я совсем не помню. Я здесь совершенный чужак. Вы как-то сказали мне, что называли меня по имени, чтобы я захотел остаться. А по имени меня называют лишь те, кто любит. Мне очень хотелось бы снова услышать, как Вы называете меня по имени. Целую Вас, Надин. Франсуа».
– Вычеркните про девушку.
Жан Мишо зачеркивает фразу. Само собой, думает он, лучше об этом не говорить, и так он страшно одинок, хоть в Сену бросайся. Он представляет себе безрукое тело, проплывающее под Пон-Нёф.
– Вместо этого вставьте: «Я думаю о Вас».
Жан Мишо берет чистый лист и переписывает текст. Тем временем таракан добирается до дырки в стене и исчезает в ней. Мишо запечатывает конверт. Затем по просьбе юноши запускает руку в его карман и вынимает оттуда смятую купюру.
– Вы можете отнести его на почту?
– Разумеется.
Мишо смотрит, как тонкая фигура юноши, вся облитая солнцем, удаляется по бульвару. Да, пора закрывать лавочку, думает он. Пойти, что ли, с женой пивка выпить…
Ему вдруг ужасно захотелось позвонить жене и прогуляться с ней, взявшись за руки, под цветущими каштанами.
Закрывая дверь конторы, Жан Мишо вдруг вспоминает, что забыл взять деньги за почтовую марку.
Ему находят специалиста по протезированию. Во всяком случае, есть шансы…
Это военный хирург. Ему скоро на пенсию. Он снимает обязательный белый халат, на груди блестят медали. Он работает в Центре протезирования в Пари-Берси, проще говоря на набережной Берси. Это отделение Министерства по делам ветеранов и инвалидов войны. Фонд социального страхования поручает центру заказы на изготовление протезов для всех: ветеранов, гражданских лиц, инвалидов войны, лиц, получивших увечья на работе, и лиц с врожденными дефектами. Это единственный хорошо оснащенный центр помощи в департаменте Иль-де-Франс.
При входе в приемную его спрашивают: «Вы Франсуа Сандр?» Здесь принимают пациентов по факту их прибытия, не посылают за ними нарочного: как пришел, так пришел. На вопрос откликается мужчина с усами: «Да, это мы. Мы…» Доктор видит перед собой безрукого юношу, что сидит рядом с усачом; у мальчишки бледное лицо, впалые щеки, а по другую сторону к нему прижимается женщина, судя по всему его мать. Явно гражданский, догадывается доктор. Он подмечает, что родители сидят строго по обе стороны – вот уж ни дать ни взять настоящая семья! Врач подавляет невольную улыбку. Он хочет, чтобы Франсуа зашел к нему в кабинет один, без родственников. Отец приподнимает брови, он явно недоволен требованием врача. Мать недовольно спрашивает: «А как, простите, мой сын будет раздеваться?» – «Это не проблема, – реагирует доктор, – я помогу». Франсуа покорно встает и исчезает за дверью кабинета.
Доктор прекрасно знает, о чем думают его посетители перед первой консультацией. Он знает, как тяжко бьется сердце несчастного, когда тот впервые оказывается в Берси, идет между набережной Сены и винными складами и пересекает необъятный, замощенный булыжником двор, где камни иссечены следами от протезов и костылей. Человек несколько обескуражен видом облупившегося фасада одноэтажного здания, построенного в прошлом веке. Его ожидания были другими. Затем он поднимается на крыльцо, толкает дверь, надеясь увидеть что-то сверхсовременное, что сможет растворить застрявший в горле ком; здесь все как надо, говорили им, тут вам не антикварная лавочка! Но видит он лишь ветхое, как и фасад, помещение приемного покоя, облупившуюся краску на стенах, растрескавшуюся замазку на окнах и непонятного цвета кафель.
Я не знаю, слышны ли были посетителям звуки мастерской – удары по дюралю, шум шлифовальной машины, визг ножовки, шуршание рубанка и прочих инструментов, которые режут, строгают, свинчивают, – звуки мастерской, где высококвалифицированные специалисты военного ведомства могли предложить инвалидам последние достижения металлургии, столярного, сапожного, слесарного ремесла. Мне неизвестно, могли ли они там вообще что-нибудь слышать, ведь даже если кто-то из тех, кто посещал центр на набережной Берси в пятьдесят шестом, еще жив, я не знаю, где искать их, что с ними… Да нет, вряд ли – им должно было бы исполниться уже лет по сто, наверняка все они давно умерли. Придумывать в данном случае означало бы предательство, сочинительство; единственный выход здесь – строить предположения, гипотезы, делать выводы о том, чего мы не знаем из достоверно известных нам фактов. А достоверно известно вот что: согласно правилам статьи L. 213–2 Кодекса национального достояния, архивы Министерства по делам ветеранов и инвалидов войны, а также Управления медицинских служб не могут быть опубликованы до тридцать первого декабря две тысячи восемьдесят шестого года; следовательно, в настоящий момент крайне затруднительно представить себе, что на самом деле происходило в тех помещениях. Так что остается лишь предполагать, слышал ли посетитель шум мастерских. Однако в дополнении к статье указано: «Мастерские по изготовлению протезов ликвидируются в период с тысяча девятьсот шестидесятого по тысяча девятьсот шестьдесят третий год». Значит, в пятьдесят шестом году в тех стенах еще оставались производственные мощности. Так что вполне вероятно, что Франсуа Сандр, после того как пересек мощеный двор, поднялся по ступенькам к облупившемуся фасаду и вошел в приемный покой (который, по свидетельству очевидцев, в семидесятые выглядел так же), мог расслышать шум мастерских. И это действительно важно, поскольку звук различных инструментов, подгоняющих недостающие части тел инвалидов, должен был успокоить его, рассеять смутное беспокойство, вызванное убожеством помещения: все в порядке, мы работаем! По крайней мере, так должны были чувствовать себя родители юноши, особенно отец, который при звуке своей фамилии немедленно вскакивает; недовольная же гримаса на лице Франсуа выражает полное безразличие, но родители очень рассчитывают на консультацию специалиста.
Врач закрыл за собой дверь. За длинным столом расположились страховой агент, инженер Центра протезирования, мастер по изготовлению протезов, секретарь. Доктор поинтересовался обстоятельствами несчастного случая; собравшиеся выслушали ужасную историю, где действующими лицами являлись сам Франсуа, Ма, двоюродный брат, Тото, жандарм, хирург из больницы города V. «Во всяком случае, – добавил Франсуа, – мне так об этом рассказывали…»
Едва дослушав, юношу усадили на кушетку, расстегнули рубашку, ощупали его рубцы и участки трансплантированной кожи на спине и груди. Здорово ему досталось, думает врач. Ужасное несчастье. Да, для этого гражданского тогда началась война, и она будет длиться вечно, без перемирий. Двойная ампутация, без культи. Протезирование в данном случае – почти неразрешимая задача. Конечно, доктор убежден в неоспоримых достоинствах протезирования; с протезом человек может самостоятельно одеваться, есть, чистить зубы, трудиться на заводе или в поле; в сложных случаях предоставляются рабочие места на предприятиях с особыми условиями труда; при помощи протеза можно даже чертить и рисовать. В центре изготавливают отличные держатели для плоскогубцев и молотков, подставки для катков, крючки для мясников, съемные приспособления для малярных и прочих кистей. Здесь можно заказать приспособление для езды на велосипеде, пресс-папье, гарнитуру для телефониста. Но, по крайней мере, нужна хотя бы одна здоровая конечность или культя. Протезирование, как он понимает, это попытка связать воедино внутренний импульс, желание и механическое движение. Врач из экспертной комиссии говорит, что полностью восстановить этот разрыв невозможно, но вполне по силам максимально сократить. Но в случае с Франсуа он практически неустраним.
Я ясно вижу картину: комиссия в полном составе и Франсуа в желтом свете ламп; эксперт по протезированию медленно поворачивается в мою сторону, глядит недоверчиво и упрекает в отрицании возможности реабилитации человека с подобными травмами. «Это вы во всем виноваты! – восклицает он. – Это ваша заслуга, что в данном случае я беспомощен!»
Я прекрасно осознаю всю глубину драмы. Я также понимаю, что и хирург из больницы города V. тоже причастен к этой трагедии. Однако в мои задачи не входит восхваление медицинского прогресса в области протезирования. Но я пишу об азартной игре, что предлагает нам наша жизнь, о том, что реальность в своем стремлении выбить нас из седла не менее жестока, чем вымысел.
Специалист по протезированию, однако, не сдается. Выход есть всегда. Вопрос очень деликатный, но делать нечего. Ведь если этот находящийся на грани отчаяния юноша все еще надеется на чудо, разочарование его будет безграничным. Но решать все равно придется ему, и врач задает этот вопрос:
– Мсье Сандр, как вы считаете, какие функции должен выполнять ваш протез?
Юноша вздрагивает. Врач застегивает на нем рубашку.
– Какие действия представляют для вас первостепенное значение?
Юноша поднимает голову:
– Я… Я не знаю. Любые.
Этого врач и боялся больше всего. Он присаживается на краешек стола.
– Ну, наверное, есть самостоятельно?
– Да, это точно.
– Мсье Сандр, я могу помочь вам обрести способность самостоятельно есть. Носить сумку. У вас будет локоть и зажим. Большего не могу обещать. Однако вам в любом случае придется приложить немало усилий.
Врач понимает, что подобные плечевые протезы малоэффективны, кроме того, они требуют упорства, бесконечного терпения, напряжения, ведь каждое движение будет даваться с преогромным трудом и сопровождаться болью, раздражением, возможно, желанием все бросить; но все же это единственный возможный выход. Врач еще не знает, еще слишком рано, но лет через шестьдесят изобретут различные экзоскелеты, устройства, которые будут требовать больших затрат энергии, но зато позволят парализованным людям жить полноценной жизнью. Да, человеку все равно придется выкладываться по полной, но способность что-то делать самостоятельно поистине бесценна.
– Да, локоть и зажим, мсье Сандр. Это устройство работает на блоках и тросиках. Видите ли, принцип действия состоит в двух движениях – встряхивании и вращении плечом. Встряхивание приводит в действие локоть, а вращательное движение – зажим. Система тросиков полностью повторяет принцип действия кукол-марионеток, а также роботов-големов начала девятнадцатого века. Это было модно, особенно в Германии. Конечности приводились в движение при помощи кошачьих сухожилий. У вас будет функционировать только одна сторона тела. Дело в том, что обеспечить вас двумя протезами довольно затруднительно, получится слишком громоздкая конструкция, да и сил вам придется затратить на порядок больше. Вы правша? Значит, мы восстановим функции правой стороны. А для левой я предлагаю обычный протез, исключительно эстетического назначения. Понимаете, о чем я?
– Да.
Важен не только комфорт, но и внешний вид.
– В принципе, не будет особой проблемы выровнять плечи, так что вы сможете носить и жилет, и куртку не застегивая, и одежда при этом не будет сваливаться.
Врач замолкает. Он не говорит другого: все это больше для того, чтобы нормально выглядеть, не привлекать внимания.
– Что же касается комфорта, мсье Сандр, то двойной протез поможет избежать сутулости и предотвратит неизбежное сжатие грудной клетки.
Он имел в виду хорошую осанку, так как правильно работающие лопатки обеспечивают нормальное положение корпуса.
– И наконец, это поможет вам избавиться от фантомных болей. Неприятная штука, не так ли?
Франсуа сказал, что уже почти не чувствует руки, осталось лишь воспоминание, кажется, будто конечности приделаны к плечевым отросткам, и это какой-то врожденный дефект. Именно в этих местах остается ощущение, что у него еще есть пальцы, что они шевелятся; именно там он еще чувствует боль.
– Ну, с протезом полегчает, – говорит специалист, – а потом вообще все пройдет.
Он думал, что юноша как-то отреагирует на его слова, но тот остается невозмутим. Тогда доктор запускает в кабинет отца и мать, повторяет все, что сказал их сыну. Отцу его слова явно не по душе.
– Так скажите же точнее, какие движения он сможет выполнять?
– Говорю вам, сам пока не знаю. Но в любом случае ему будет нужен посторонний уход.
– Так, значит, от этого протеза вообще никакого толку…
Врач заходит за стол, садится рядом со своим коллегой, который выслушивает его, покачивая головой, а потом говорит чете Сандр едва слышно:
– Мы полагаем, что в данном случае вашему сыну подойдет двусторонний протез из кожи и металла с кожаным же корсетом, который будет крепиться на спине при помощи специального ремня. Слева мы поставим обычный неподвижный протез, а вот справа будет вполне функциональный аппарат с блокирующим локтем, приводимым в движение плечом. Его угол можно изменять, если использовать какую-нибудь опору, например стол… Я понимаю, для вас это все звучит словно китайская грамота, но вы можете пройти в нашу мастерскую и ознакомиться с принципом работы механизма. Зажим, заменяющий кисть, приводится в действие при помощи тросиков за счет вращательных движений плеча. На этапе сборки там будет видно множество крючков, но все это мы затянем перчаткой после окончательной сборки.
Врач диктует секретарю какие-то термины из справочника, буквы и цифры.
– У вас есть вопросы?
– Доктор, – произносит отец, – у вас часто бывают такие пациенты?
– Нет, – отвечает доктор, едва не добавив: «К счастью».
– Тогда мне не понятно: если это такой уникальный случай, как же это вы смогли подобрать ему протез меньше чем за полчаса?
– Я понимаю ваши чувства, мсье Сандр… Да, травмы весьма необычные и непростые. И это существенно сокращает список функциональных возможностей.
– И тем не менее, доктор, я бы хотел…
– Папа, хватит. Хватит.
Сын произносит эти слова тихо, но твердо. Парень как-то реагирует, думает врач, уже хорошо. Он протягивает матери пациента талон на протезирование:
– Мы скоро снова увидимся, мсье Сандр. В следующий раз мы снимем с вас гипсовую форму, чтобы протез сидел на вас как влитой. Сегодня в комиссии только специалист по обуви, так что в следующий раз познакомитесь с профильным мастером. Имейте в виду, будет много примерок. Придется потерпеть месяца три. Я тоже буду на финальной примерке.
Врач провожает семью Сандр до двери. Специалист по протезированию ведет их в производственный цех, где стены уставлены деревянными, кожаными, стальными и пластмассовыми подобиями человеческих частей тела и где можно посмотреть на заявленный образец с тросиками и шарнирами, чем-то похожий на какое-то приспособление для рукопашного боя – так им, несомненно, покажется; а потом они отправятся прочь, в замощенный разбитым булыжником двор, где легко сломать каблук или костыль, повернутся спиной к облупившемуся, залитому солнечными лучами фасаду и выйдут на улицу Берси, одолеваемые смутным беспокойством, так как будущее сужается перед ними, словно воронка.
– Это ваша ошибка, – повторяет доктор, поворачиваясь в мою сторону и качая головой. – Это вы виноваты. Я могу сделать куда лучше…
Я та, кто искалечил Франсуа.
Средневековый Квазимодо, Гуинплен семнадцатого столетия – их искалечил Виктор Гюго; они были сильными и несчастными. То есть уродливыми. Горб, слоновый бивень вместо зуба, огромные ступни, монструозные ручищи – все это сделало Квазимодо детищем реки Флегетон, как сказал Гюго, иными словами – исчадием ада.
Вытянутые уши Гуинплена, вечная улыбка через все лицо, глаза – все это делает его порождением бездны, а вместе с ним и легионы бородатых женщин, сиамских близнецов, гермафродитов, чернокожих, хромоногих, карликов; у них либо чего-то не хватает, либо есть что-то лишнее: избыток волос, недостаток каких-то органов, чрезмерная пигментация кожи, излишек гормонов, отсутствие какой-нибудь кости, деформация мышц, дефект кожи – то или иное несоответствие нормальному человеческому телу. В девятнадцатом веке наука разрушила очарование подобных чудовищ, объявив их ошибкой природы, а не следствием дьявольских козней, так что мы больше не сбрасываем их в Апофеты, как это делали в Спарте, или в речной поток, что практиковалось в Древнем Риме. Теперь для них придумана другая казнь – отвращение. Или насмешка. Или же жалость, которая утешает нас в собственных скорбях. Урод остается носителем вселенского ужаса, пишет Эдуард Мартен в своем труде по истории тератологии[15]15
Тератология – наука, изучающая уродства отдельных органов или целых организмов в растительном и животном царствах.
[Закрыть]. Таким вот образом Сильвия, да и Мари тоже заточили Франсуа в узилище своей жалости. И то же сделали отец с матерью, и врач-протезист с набережной Берси, который обвиняет в трагедии меня, и вся врачебная комиссия, и эксперт по установлению инвалидности, и мадам Дюмон, которая подмывает Франсуа, и Надин, и, несомненно, весь больничный персонал из V., и Жорж со своей женой, и Шарлевиль-Мезьер, и читатели «Пти Арденнэ», которые все еще помнят о Бейльском чуде, и Тома с Виктором, что делили с ним палату, и тот же Жоао (если бы мог навестить его – поэтому Франсуа не хочет его видеть), и пассажиры метро, перед которыми он стыдливо опускает взгляд, как бы извиняясь за свое уродство, и прохожие… Он отказался поехать с семьей на пикник в Венсенский лес, решив вместо этого написать письмо Надин, и отправился в контору общественного писаря. Он свистнул во двор, прибежал маленький Жозеф, Франсуа попросил положить ему в карман деньги и запереть за ним дверь. И зашагал по залитым солнцем улицам, чертя тонкой тенью своего тела по стенам, и все прохожие, завидев его, тоже преисполнялись жалостью. Он шел очень быстро, вспоминая адрес писарской конторы, которую он заметил, когда они ездили на набережную Берси; при его появлении дети бросали свои игры – он казался им персонажем из какого-нибудь романа Жюля Верна; те самые дети, которым ничего не стоит пнуть кошку или бесхвостого пса или опалить крылья мухе (жестокость питается ужасом), даже не смеялись… Когда он проходил мимо скамейки, на которой сидел очень тучный мужчина, до его слуха донеслось бормотание: «Вот бедняга!» Франсуа разозлился, словно Квазимодо, повернулся к толстяку, заглянул ему прямо в глаза и отчетливо произнес: «Ну, во всяком случае я хотя бы в состоянии разглядеть собственные яйца!»
Гюго наградил Квазимодо благосклонными взглядами мраморных изваяний и храминой собора; Гуинплену досталась невеста – слепая Дея. Франсуа, ждущему свои механические руки, я дарую горы…
Отец кладет трубку и кричит Франсуа:
– Звонили Анри и Поль. Тебе привет!
Анри и Поль… Франсуа лежит на диване в полутемной кухне и повторяет про себя: «Анри и Поль, Анри и Поль, Анрииполь…» – пока слова не утрачивают свое значение и не складываются в приятную мелодию, музыкальную фразу: «анрииполь, анрииполь, анриипольанрииполь», которая постепенно стирает бормотание радио, грозовое небо за окном, жужжание мух, вьющихся в дверном проеме, пленку пота на лбу Франсуа… Пока эта мелодия не воскрешает перед его внутренним взором картины: зелень, свежесть, запах листьев и воды – она тоже как будто зеленая; темное дерево стен шале в Мерибель-ан-Вануаз – тысяча пятьсот метров над уровнем моря, – холодный сланец облицовки стен никогда не видел солнца, к нему так хорошо прислоняться разгоряченным лбом, спиной, животом. Ледяной ручей, гладкая круглая галька, которую кладут под язык; ущелья и перевалы, где даже летом не тает снег – когда кладешь его в рот, от холода ломит зубы.
В Центре протезирования Берси с него сняли слепок торса, специалист подогнал кожаные наплечники, отрегулировал длину спинного ремня и тросиков. Франсуа, маясь от июльской жары, ждет даты окончательной примерки, а вернее, просто проводит день за днем до единственного гарантированного в его жизни момента – кроме смерти, разумеется. Франсуа прекрасно это понимает, но вовсе не грустит. Врач уверяет, что отныне он сможет самостоятельно есть, носить сумку, находить удобное положение для тела, для плеч, чтобы их изгиб казался нормальным, чтобы Франсуа стал незаметным, невидимым для посторонних глаз.
Прекрасная мечта в двадцать два года: стать невидимкой.
Зелень, зеленый цвет воскрешают в нем забытые желания. Лесная чаща. Вековое молчание гор нарушают лишь редкие крики птиц: трехпалых дятлов, тетеревов, шелест папоротника и шум ветра в кедровых кронах, что напоминает музыку морского прибоя. Уже лет пять, как он не бывал в Мерибель. Он хочет уехать. Но что ты будешь там делать, спрашивают его, зачем, да и кто поедет с тобой? Я так хочу, и этого достаточно, отвечает он. Ему действительно чего-то хочется… С тобой могла бы поехать Сильвия, предлагает Ма, но он против, ему никого не надо. Никого – в смысле, отсюда, из Парижа, из сегодняшней жизни. Ему нужны немота, слепота, безвременье этих гор. А когда в Центре Берси все будет готово, он вернется.
С ним поедет мадам Дюмон. Поезд идет по линии под напряжением в двадцать пять тысяч вольт здесь, в Савойе, равно как и на пути Шарлевиль-Мезьер, объясняет контролер маленькому мальчику, такой гордый, будто этим обстоятельством все обязаны лично ему. Там, на месте назначения, мадам Дюмон объяснит другой сиделке, что она должна будет делать, Франсуа сразу же уточнит: самый минимум.



