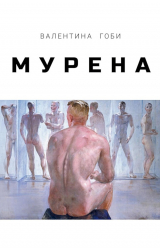
Текст книги "Мурена"
Автор книги: Валентина Гоби
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Он отправляется на новую стройку и организовывает забастовку. Его поддерживают еще трое рабочих, восемь часов подряд они сидят на баке со строительным мусором, курят, молчат, отказываются от денег. Но Винсент работает, равно как и Жан – он племянник Пикара. Еще остается Эдмон, он пока не пришел. Жалкая забастовочка на ничтожной стройке. Она ни к чему не приведет, уверен Франсуа, надо было сообщить о случившемся во Всеобщую конфедерацию труда[1]1
Всеобщая конфедерация труда – крупнейшее французское профсоюзное объединение, созданное в 1895 г. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], но Жоао все еще без сознания, и Мария держится из последних сил. Франсуа устроил эту забастовку только из-за Нины. Он смотрит на свои белые от штукатурки ботинки, тени постепенно удлиняются. Остальные бастующие режутся в карты, считают ворон, народу слишком мало, чтобы выкрикивать лозунги и устраивать шумную демонстрацию. Они так и сидят на груде мусора, это не способствует движению; их даже не сгоняют с места. Ничего не происходит. Пикар молча убрал плакат «Рабочие в опасности!», укрепленный на лесах, он избегает их точно так же, как обходит мешки со штукатуркой, чтобы не испачкаться. Весь день Нина незримо присутствует здесь, она рядом, прижавшись животом к спине Франсуа, покусывает его за ухо, кладет теплые ладони ему на грудь. Франсуа затеял эту забастовку скорее ради любви, нежели из-за убеждений, для него это одно и то же, наши жизни сотканы из тысяч движений друг к другу, незаметных невооруженным глазом. Любовь может обернуться поражением или позволить случиться метаморфозам.
Нина – само разрушение. Не исключая и их знакомство четырнадцатого января в половину седьмого вечера на второй линии метро на площади Клиши. И так как он не говорил никому про Нину, эти мгновения живут только в ней и не попадают даже в историю. Например, она не подозревает, что он уже видел ее в толпе по вечерам, и никогда не узнает о факеле рыжих, остриженных ниже уха волос, забранных черной заколкой; пряди раскачиваются в такт движению вагона. Франсуа заметил ее среди прижатых друг к другу пассажиров во время торможения состава – он выше всех, метр девяносто над уровнем моря, и ему было легко ее разглядеть среди пальто и голов. Девушка грызла ногти, он наблюдал, как она работает зубами и сплевывает огрызки в ладонь. Он видит ее руки прямо перед собой, у нее очень короткие квадратные ногти, ее пальцы напоминают человеческие фигуры в скафандрах; он находит их восхитительными. В следующий раз он замечает, как она закидывает прядь волос за ухо, открывая ярко-красные губы и черные живые глаза. В третий раз помимо ногтей она грызет тыквенные семечки, раскалывая их зубами, не обращая внимания на треск и чавканье, которые особенно слышны во время остановок. Она носит брюки, на ее плечах болтается сразу несколько сумок. На площади Клиши поток выходящих пассажиров выносит и девушку вместе с ее сумками на перрон, она сопротивляется: «Эй! Я еще не выхожу!» Из сумок выпадают какие-то металлические штуки, ее голос перекрывает лязг железа. «Да что вы делаете!» – кричит Нина, но другие голоса гневно указывают, что она перекрывает выход. Франсуа хочет разглядеть ее полностью, он покидает вагон. Двери закрываются, состав трогается, девушка садится на корточки и собирает рассыпавшиеся гвозди, болты, гайки. «Не смотрите на меня так!» – говорит она, глядя на Франсуа снизу вверх. Для Нины их история начинается в этот момент. Он собирает в сумку выпавшие инструменты: молоток, отвертки – простые и крестовые, фомку, разводной ключ, целую тьму серебристых деталек. «Это все ваше?» – спрашивает он девушку, она огрызается: «Ну не украла же!» Он ее раздражает. «Либо помогите, либо проваливайте», – говорит она. «Нет, просто странно», – отвечает он, и девушка заявляет:
– Я кое-что понимаю в ремесле.
– Я тоже, и если вам потребуется помощь…
– Благодарю, не стоит…
Она выпрямляется с недовольной гримасой:
– Впрочем, не откажусь, если вы поможете мне донести все это барахло…
Подходит следующий поезд, она указывает подбородком в его сторону:
– Не, я туда больше не полезу!
– А куда вы направляетесь?
– В Вилье.
Он берет ее сумки, девушка тут же хватает его под руку; пыль, штукатурка, краска – теперь ему все равно; рыжий факел вдруг расцвечивает окружающую серость. Именно в этот миг все и начинается.
Он замечает в ее руках какой-то футляр, спрашивает, что это.
– Флейта, – отвечает она.
– Вы играете? – удивляется Франсуа.
– Ну а для чего она мне, не пироги же печь. Я учительница музыки.
Ему хочется снова увидеться, но она опережает его желание; позже она скажет ему: ни лишнего слова, никакой разнузданности – ты вел себя безукоризненно, и это мне очень понравилось… Она говорит: меня зовут Нина; Франсуа, представляется он и протягивает ей руку. Он чувствует ее прикосновение, ему хочется получше разглядеть медь ее волос, и она, догадавшись, откидывает голову назад и встряхивает шевелюрой, и он видит ее испещренную родинками шею, и его пронзает острая радость. Она приглашает его сходить к ней на прослушивание в консерваторию на следующий день. Он идет. Он ничего не понимает в музыке; Нина вызывает детей по очереди к пюпитру, и они играют. Она берет каждого ребенка за руку, ведет его на сцену, ставит перед ним ноты, объясняет ему что-то на ухо – и все эти действия пронизаны совершенно неожиданной нежностью.
Они идут в кафе, кормят уток в парке Батиньоль. Он раскачивает ее на качелях, она хочет выше, но цепи слишком короткие. Она показывает ему, как играть на флейте, он старается правильно располагать язык и губы, как она учила, она прижимается к его спине, помогая поставить пальцы на клапаны, звук получается ужасный, все мимо нот; разумеется, дело не в музыке, а в том, чтобы привыкнуть друг к другу, протянуть между собой тысячи и тысячи связующих нитей – в музыке Франсуа совсем не разбирается.
Они гуляют по Парижу; чтобы продлить ожидание соприкосновения их тел, они изнемогают от усталости. Они счастливы, зима предрасполагает к постоянному движению, еще не наступили февральские морозы, но все равно хочется идти быстрее, прыгать, размахивать руками, чтобы разогнать в жилах кровь, насытить ее кислородом и набраться сил; малоподвижность ослабляет желание. Они целуются в кинотеатре, они так этого ждали, и необходимость сидеть смирно толкает их в объятия друг друга. Они соскальзывают в глубину кресел, их языки соприкасаются, и на протяжении всего фильма их руки шуршат по одежде. Нина кладет ладонь Франсуа себе на грудь: попробуй, как, а? Но в конце концов героически отстраняется: нет, не трогай, не сейчас!
Чуть погодя он слизывает пудру с ее лица, из-под пудры проглядывают рыжие веснушки, он пытается слизать и их. Он буквально поглощает Нину прерывистыми глотками: ее веки, мочку уха, впадинки под ключицами за воротником ее рубашки. Усыпанные микроскопическими венами щиколотки, впадинки под коленями, своей кожей он ощущает ее кожу, голова прижата к ее ребрам – он слышит звуки в глубине тела, проникнуть в которое его неумолимо тянет. Он исследует ее тело, часть за частью, его собственное тело напоминает ему творение художника-кубиста, оно выходит из границ, чтобы заполнить пропасть, куда он хочет упасть; Нина, ты произведение искусства…
А потом будет Жоао, забастовка, день рождения Ма, и, как тогда, во время забастовки, Нина каждое мгновение будет незримо присутствовать рядом с Франсуа. Лед в Понтьерри – на самом деле она там, укутанная в шерстяные одежды, а под тканью ее икры, напоминающие булки, которые туго скручиваются под ладонью Франсуа, ее живот, переходящий в узкую ложбинку между бедрами, он не может оторвать от него глаз, он слышит биение ее раскрывающейся жизни, она стремится наружу, фонтанирует и рассыпается ясным смехом на морозном воздухе. Нина скользит по замерзшей реке, по которой уже идут первые конные упряжки.
О Нине он никому не рассказывал.
Вечер свидания с Ниной, Франсуа через окно наблюдает за тем, как Жозеф чистит яблоко. Жозефу шесть лет. Тихими, крадущимися шагами мальчишка подходит к деду, который сидит во дворе с кошкой на коленях, его глаза серебрятся из-за катаракты. Жозеф настороже, словно индеец. Вот он останавливается, весь начеку, снова делает несколько бесшумных шагов. Дед гладит кота, руку и все, что шевелится. Франсуа пытается понять, что затеял Жозеф, и ждет. И вот Жозеф просовывает пальцы в карман старика, стараясь не помять и не задеть ткань. Он почти не дышит, весь внимание. Из дедова кармана осторожно извлекает складной нож «Опинель» и удаляется все так же неслышно. Да, он сделал это, совершил недопустимый поступок – украл дедушкин ножик, за который расплатится множеством оплеух. Жозеф усаживается на ступеньку, Франсуа продолжает следить за ним. Жозеф достает лезвие, убирает его обратно, он любуется своей добычей: этот нож прошел две войны. Затем достает из рукава яблоко и скользит лезвием по золотистой кожуре, снимая тонкую стружку. Он старается резать так, чтобы из шкурки получилась змейка. Он отдается своему делу с удовольствием, пальцы липкие от сока; наконец яблоко полностью очищено и из желтого становится белым. Дед продолжает гладить кота, со своего места Франсуа видит улыбку на старческом лице. Франсуа не выдаст их – маленького воришку и старика, который притворился, что ничего не заметил, – они оба переступили границу. Он впервые видит своими глазами чистую, ясную радость. Но это тайна, и она наполняет душу Франсуа чем-то похожим на нежность.
И сколь ни мала была эта толика, она отнюдь не лишняя, чтобы помочь Франсуа перенести грядущие мучения.
Уходят и Жозеф, и Нина, и воспоминания о забастовке; ему надо бежать. Врата, что было открылись, громко захлопнулись в День Бейля. Утрата. Совершенная скорбь.
«Он отчалил где-то в пять часов вечера», – объяснил Тото полицейскому, составлявшему протокол допроса. Франсуа к этому моменту уже отрезанный ломоть. Жандармы нашли Тото после того, как в участок позвонил Жорж, двоюродный брат, который ждал Франсуа на своей лесопилке в Арденнах. Он назвал полицейским имя – Антуан Мейер, двадцать восемь лет, водитель тяжелого грузовика, должен был отвезти Франсуа из Парижа в Шарлевиль-Мезьер.
Ночь опустилась в одно мгновение и накрыла Тото, он задубел от холода, у него кончились сигареты; он топал по слежавшемуся снегу, прыгал на месте, надвинув шапку на лоб и прикрыв рот шарфом. Да куда он запропастился, этот придурок из Парижа? За три часа ожидания Тото не видел на узкой дороге ни единой человеческой души, ни машины, ни даже велосипедиста. Даже звери куда-то попрятались. Он прошел двести метров до поворота, осмотрелся по всем направлениям – никого. Тишина – ни ветерка, даже ветка не шелохнется. Тогда он вернулся к машине, пристроился около мотора, уже не заботясь ни о чем, кроме того, как согреть руки и успокоиться, да куда же делся этот Франсуа-как-его-там? Он окончательно разозлился, тем более что пальцы у него горели от обморожения. В свете зажигалки он взглянул на часы. Провести ночь в кабине грузовика не входило в его планы, но и груз оставлять он тоже не хотел. В тот же момент вспоминается кое-что, а именно – то, что может заинтересовать полицейских: он услышал странный шум. Франсуа ушел минут двадцать назад или около того, и после его ухода раздался громкий хлопок в небе. Что-то вроде сильного взрыва, который разлетелся эхом по всей округе. Тото замер, стараясь разглядеть дым от выстрела какого-нибудь охотника, но так ничего и не увидел. Он напряг слух, но звук так и не повторился. Стал кричать: «Есть здесь кто-нибудь? Хей-хо! Есть здесь кто-нибудь?» Но он не хотел, чтобы его подстрелили, еще чего не хватало! Никто не откликнулся на его призыв. Полицейский спросил, который был час, Тото сказал, половина третьего. И в пять часов, заявил Тото, он отправился сам, черт с ним, с грузом, не замерзать же насмерть! Он думал о своей жене, ведь ее даже невозможно было предупредить, какая жалость! Через три четверти часа – время подтвердил хозяин дома, которого тоже привлекли к допросу, – Тото постучался в дверь первого попавшегося здания. Он рассказал о поломке грузовика, о своем грузе, что остался под брезентом без присмотра. Его напоили кофе и нашли механика, который, правда, ничем не смог ему помочь. Тото пришлось заночевать в кабине, прикрывшись обрывками ветоши, выбора у него не было, а утро, как известно, вечера мудренее. Механик пообещал добраться до телефона и рассказать жене Тото и его начальнику о переделке, в которую тот угодил. И тогда Тото припомнил городок, куда направился Франсуа, и спросил механика, не видел ли тот одинокого молодого человека высокого роста, худощавого телосложения, темно-синие джинсы, куртка цвета хаки, перчатки и шапка темного цвета, какого точно, он не помнит. Механик только покачал головой: не видел он такого. Тото сказал офицеру, что был слишком взбешен, чтобы беспокоиться о судьбе Франсуа, и лишь когда наступила ночь, понял, что дело неладно.
– Я не был с ним знаком раньше, – сказал он, – но, хотя мы не успели толком поговорить, видел, что он вполне нормальный парень. К тому же он приходится двоюродным братом моему другу детства, так что оснований сомневаться в нем у меня особо не было. Стоило попросить, он сразу же отправился искать подмогу, причем спокойно – не ворчал и не отнекивался. Я, конечно, осознавал, что он может не вернуться, но в то же время, хоть убей, не понимал, в какой переплет он попал: сломал ногу? попал под машину?.. Но как бы то ни было, мне пришлось торчать в кабине, и я ничем не смог бы ему помочь. Может, он познакомился с какой-нибудь барышней или нализался в кафе… впрочем, это маловероятно… хотя лучше бы было так, хоть я и поклялся, что набью ему морду, если еще раз увижу. Я прикидывал и так, и так, и это позволило мне не заснуть. Иначе бы замерз. Наутро механик все-таки справился с мотором, и я поехал в Шарлевиль, кашляя, как паровоз, вы бы знали, как было холодно в кабине! Там я сразу же пошел к Жоржу и сказал: твой братец бросил меня в чистом поле со сломанным двигателем, и ему лучше придумать какое-нибудь веское оправдание этому поступку. Ну, – подытожил Тото, – вот вам и вся история. Жорж позвонил родителям Франсуа – вдруг они что-то знают о нем, но его отец сказал, что они уже в курсе случившегося. Странно все это, – заключил Тото, недоуменно почесывая бороду. – Ей-богу, странно!
– Я искала свою лису, – прошептала девочка.
Девчурка сидела на слишком высоком для нее стуле, болтала ногами и вглядывалась в пылающий камин, избегая взора полицейского. Офицер попросил ее повторить, он не был уверен, что правильно понял ребенка:
– Лису, ты сказала?
Девочка кивнула, продолжая смотреть на огонь.
– А потом?
– Лиса убежала.
– А человек?
Девочка тряхнула волосами, и они скрыли ее глаза:
– Он был наверху вагона, подскочил, а потом упал.
Она как раз вышла из леса, искала лису, хотя это и было ей запрещено. Она пряталась за деревьями. Со стороны все выглядело так, будто лисица играет с нею, то скользя по снегу, то неподвижно замирая. Девочка подбежала к дереву. Лисица побежала в чащу, девочка следом, от ствола к стволу.
– Это моя лиса, – произнесла девочка так тихо, что офицер не расслышал.
Лиса перебежала через замерзший ручей, она тоже. Они шли след в след. Лиса была очень красивая, хвост словно огромное перо.
– И что было дальше?
Девочка пожала плечами и натянула свитер на голову:
– Я уже рассказала все папе.
– Но мне же ты не рассказала.
– Пусть вам папа расскажет.
– Но его не было с тобой, он не может все помнить.
Отец девочки показал, что с другой стороны рощи его дочь видела человека, который забирался на вагон.
– Да, Аннет?
Та кивнула, не опуская свитера.
– И именно тогда ты услышала шум?
– Лиса убежала, – глухо промолвила Аннет.
– И человек упал с вагона?
– Сначала он подлетел вверх. Вместе с огнем.
– И ты пошла посмотреть?
Девочка подтянула под свитер ноги и превратилась в настоящий шерстяной ком. Жандарм снова спросил о мужчине на вагоне.
– Папа видел все сам, – ответила девочка.
Жандарм переспросил ее отца, и тот заметил, что сейчас ее очередь отвечать на вопросы. Тем временем шерстяной комок медленно тянулся к камину, пытаясь согреться в отблесках пламени.
– Ну хорошо, так что же ты все-таки увидела? Скажи, и я оставлю тебя в покое.
В этот миг одно из поленьев в камине треснуло, выпустив в потолок сноп светящихся искр; стул, на котором сидела девочка, заскрипел.
– Аннет, расскажи, что ты видела.
В трубе завыл ветер, девочка шмыгнула носом, принюхиваясь.
– Погребальный плач.
– Это она о своем дяде, – поспешил вставить отец, – его похоронили на прошлой неделе.
– Ага, с черными рукавами.
– Но он не умер, детка, – мягко заметил жандарм.
– Умер.
Девочка выпростала ноги и голову из-под растянутого свитера, спрыгнула со стула и опрометью выбежала из комнаты.
– Она тогда очень плакала, – объяснил отец после того, как девочка убежала. – Я нашел ее на тропе, она вся была в соплях и не хотела говорить. Шапка в репьях, какие-то щепки, листья, пальто и колготки все в грязи. Понятно, что она была в лесу. Я ей говорю: не бойся, я не буду ругаться, расскажи, что случилось. И она показывает пальцем на деревья. Я думал, там птица какая ее напугала, или заяц, или кабан раненый. Ну, взял ее на руки и пошел прочь.
А она все повторяла: «Дальше, дальше». Я и направился к другому концу рощи. А она все: «Дальше!» Так мы и добрались до вагонов. И только она их увидела, стала пинаться: «Отпусти меня, поставь на землю!» Я отпустил; она стоит на снегу, вся трясется, лицо руками закрыла и от вагонов отворачивается. Я смотрю, она в ужасе – значит, там точно какой-то зверь мучается. Тогда я отправился туда один. Снегу навалило по колено. И потом увидел его, как только подошел поближе, – длинный, лежит на спине. Я машинально отвернулся от его лица, осматривался, пока все не разглядел. Снег был примят строго по контурам его тела, ни единого следа, словно он с неба свалился.
Далее отец припомнил, что лицо у лежавшего человека было красное, словно от солнечного ожога, кожа вздулась, и оно напоминало маску, которая вот-вот растрескается. Пальцы едва торчали из рукавов, тонкие и обугленные, словно птичьи когти. По всей его одежде он заметил черные подпалины – на руках, на груди, на ногах. Он походил на жареного поросенка, – если бы видели, вы бы поняли!
Жандарм кивнул:
– Продолжайте.
– Я подумал, что человек мертв. Через плечо я видел Аннет, она стояла посреди поля, как истукан. Я решил потрогать тело. – Отец девочки протянул руку к пылающим поленьям: – Вот так, кончиками пальцев. Дотронулся до молнии – металл был теплым. Теплым, а на дворе, между прочим, минус пятнадцать! Все теплое, снизу доверху, от застежки до верхней пуговицы! Я потрогал его шею – мне показалось, что есть пульс. Тогда я обратил внимание на его веки и понял, что он жив. Я вообще ни черта не понимал, окромя того, что человек жив. Тогда я побежал к Аннет, сграбастал ее, почти без признаков жизни, и понес домой. Потом пошел к соседу и сказал, что видел мертвого человека неподалеку от Пти Ваш. Тому удалось завести трактор, мы объехали лес, оставили машину и дальше пробирались по снегу, протаптывали и расчищали лопатой. Нашли тело, он приподнял его, я схватил за подмышки, сосед за ноги. Одежда вся прогорела вплоть до тела. На снегу не было ни капли крови, вообще ничего. Вообще!
– А шум вы тоже слышали?
– Подумал, что, может, взрыв какой-то, но мне-то что с этого? Когда бахнуло, я проверял школьные тетради дома.
– Так, хорошо, а потом вы отнесли тело к трактору?
– Я поволок его, ну, типа, как на буксире. Он весь промок, мы вообще замерзли. Застонал. Он то открывал глаза, то снова закрывал – я боялся, вот-вот помрет. Больница в десяти километрах, еще счастье, что трактор вытянул. И этот парень живым доехал. Там его сразу положили на носилки, и больше мы его не видели. Меня спросили, кто это, но я ответил, что вообще понятия не имею. И потом рассказал все то, что и вам. И они записали мой адрес и фамилию – Жан Ферье, учитель из Бейля. Я поинтересовался, что же такое могло произойти, но мне сказали, что судить рано.
– А теперь, – спросил отец девочки у жандарма, – вы можете сказать мне, что там вообще случилось? А то уж три дня…
Но жандарм только покачал головой:
– Нет, не могу.
– Я все время думаю об этом. Вы сказали Аннет, что он жив – это действительно так?
– Он точно не умер. Жив. Но больше я о нем ничего не знаю.
– Ох, – извинялся путевой обходчик, разливая кофе по чашкам, – раньше я просто не имел права вам рассказывать. Жуткий мороз, все составы встали. Мы вообще не спали ни минуты. Стрелки размораживали из огнеметов. Помните катастрофу экспресса Ирон – Париж? Никому же не хотелось, чтобы случилось что-то подобное. Читали «Голос Севера»? Двое погибших, двое раненых. Затеяли журналистское расследование. Служащий на железной дороге в Страсбурге примерз губами к своему свистку! Путейный инженер посмеялся, но потом пришлось очищать железнодорожные пути от примерзших к ним кабанов, как вам такое? Вот и жандарм все никак не может понять, как Франсуа Сандр, юноша двадцати двух лет от роду, был найден у колес брошенного вагона у местечка Бейль, к востоку от леса Пти Ваш младшей дочерью учителя Жана Ферье, Аннет, днем, без четверти три? Человек лежал в двух с половиной метрах от рельсов, под линией электропередачи. У него был знатный отек лица, одежда обгорела, имелись заметные ожоги на груди, спине и правой ноге. После первой же операции выяснилось, что одна его рука обуглена до самого плеча, главным образом от локтя до пальцев, на две-три трети. Ожоги составляют тридцать процентов тела, причем восемнадцать процентов приходятся на жизненно важные органы. Лицо обожжено незначительно, волосистая часть головы особо не пострадала. Перелом левого запястья, трещина в берцовой кости правой ноги, трещины в четырех ребрах. Повреждены почки, сердце работает неважно, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Судя по травмам, версия об убийстве не рассматривается, налицо поражение электротоком. По заключению инженера, виной всему была электрическая дуга. Позже другие специалисты подтвердили, что вероятность данной гипотезы весьма высока – разряд от электродуги прошел через тело и отбросил несчастного на несколько метров от вагона. Также это подтверждало отсутствие следов вокруг, нетронутые контуры на снегу; человек просто забрался на вагон, что стоял под подключенным проводом, и его промокшее тело послужило отличным проводником для тока, который его едва не испепелил за пару секунд.
Железнодорожник уточнил, что на линии Экс – Анмас напряжение в тысяча девятьсот пятидесятом – пятьдесят первом составляло двадцать тысяч вольт, а на семьдесят восемь километров в северном и восточном направлениях было решено повысить напряжение до двадцати пяти тысяч вольт. От Фив до Ирсона для начала, потом от Ирсона до Люки, потом от Льяра до Тура и от Шарлевиля до Ирсона. Сотни километров подведены под напряжение в двадцать пять тысяч вольт. И линия проходит через Бейль.
– Этот парень из наших?
– Удивительно, – отвечал путейщику полицейский, – но он из Парижа.
«Франсуа Сандр», – прочтет медсестра в идентификационной карте, найденной в извлеченном из лохмотьев бумажнике. На следующий день после несчастного случая она позвонит в Париж. В трубке раздастся голос Ма: «Хелло, Джейн Сандр слушает!» «Интересно, кто? Мать? Жена?» – подумает медсестра, удивленная, что слышит в трубке такой веселый голос, который мгновенно окаменеет после услышанной новости. Медсестра представится: «Меня зовут мадемуазель Фай, я медсестра из больницы города V. А вы? Вы мать Франсуа Сандра?» И Ма, не отнимая трубку от уха, кивнет, забыв, что ее никто не может увидеть.
– Алло! – повторит медсестра.
– Да, – заикаясь, промолвит Ма, – я его мать.
И медсестра выложит ей все сразу: «С вашим сыном произошел несчастный случай, он находится в больнице города V., состояние тяжелое. Лучше кому-нибудь приехать к нему».
Сестра услышит беспорядочные вопросы: «Что с ним случилось? Когда? Где? Как? Почему? Что с ним? Где находится город V.?» И медсестра скажет: «Приезжайте, я не могу все вам рассказать по телефону». Ма задохнется от рыданий: «Скажите мне, прошу вас!..» И эта мольба тронет сердце медсестры, и та убедит ее, что Франсуа доживет до ее приезда, но мать скажет, что она не в состоянии, и эта беспомощность полностью лишит ее сил; она будет настаивать, и сестра уступит, просто сказав: «Хорошо, вам нужно продержаться лишь на время вашей поездки».
– Я приеду, – скажет Ма, и медсестра повесит трубку, надеясь, что матери хватит сил пережить это.
Ма сказала: «Да, я сейчас же приеду» – и тут же замерла, словно статуя. Она тупо смотрит на телефонную трубку, руки на столике, из зала доносится шум голосов покупателей, строчит швейная машинка: «тик-тик-тик»; бубнит радиоприемник: «Я поклялся вам своей жизнью, что наша связь незыблема до конца времен!»; звенит дверной звонок, слышны приглушенные крики играющих в снегу детишек, холод с улицы мешается с жаром спиртовки, горящий фитиль бьется о ее края. Ма не видит телефонной трубки, она вообще ничего не видит. И не слышит. Она в апноэ, полностью вырванная из течения жизни из-за перенесенного удара. Но вот она начинает ощущать какие-то посторонние боли – угол телефонной подставки уперся ей под ребра, рука Робера сжимает ее плечо. Она пытается вернуться в прошлый мир, где пока еще ничего не произошло, она молчит, не выдавая горя, и откуда-то слышится настойчивый голос Робера: «Джейн, что с тобой?» Слова медсестры оставили у нее на слуху пока еще безболезненные слоги: гос-пи-таль… со-сто-я-ние тя-же-ло-е… луч-ше вам при-е-хать… какая-то угроза, которую устранят целые слова, это точно! Она еще держит себя в руках, стараясь нейтрализовать значение сказанного. Откровение порой ранит нас сильней, чем обжигающее солнце, как заметил Рене Шар. «Джейн, да что произошло?» И внезапно у Ма открывается рот, словно у утопленника. «Джейн!» Она снова обретает дыхание. Ей нужно сообщить о произошедшем, но она старается не встречаться с Робером глазами: «С Франсуа случилось несчастье, он в тяжелом состоянии, он в больнице в городе V., а больше по телефону ничего не захотели сообщить. Звонила медсестра, сказала, чтобы я немедленно приехала, так что мне пора».
И Робер чувствует, как от ужаса у него все сжимается внутри, виной тому молчание Ма. «Я еду сейчас же, я тебе перезвоню», – говорит она, Робер ломает руки: что еще натворил сынуля? Он говорит: «Я еду с тобой»; она отвечает: «А Сильвия?» – «За ней присмотрят соседи», – говорит Робер; «А за ателье кто будет смотреть?» – отвечает Ма. «Да закроем его», – говорит он, но Ма не согласна: у нее нет времени; он наконец осознает весь ужас, понимает, что надо заткнуться, пока не расклеился. Она смотрит на него ясными глазами: «Darling, I’m leaving now»[2]2
Дорогой, я должна ехать, сейчас же (англ.).
[Закрыть], и он на автомате срывает свое пальто с вешалки, накидывает на шею шарф: «Какой вокзал? Северный! – Робер хватает ключи: – Я поеду с тобой!» – «Нет! – умоляет его Джейн, с Робером будет только хуже: трястись от страха, пугать друг друга догадками. – Please, Робер!..» Но он злится на нее. Ма говорит: «Это глупо, чистый нонсенс – лезть поперед меня в пекло!» Она не может ждать его, хватает свою сумку и выходит вон: «Я позвоню тебе, I promise, I swear»[3]3
Обещаю, клянусь (англ.).
[Закрыть], на ходу наматывает шарф, она забыла шапку, перчатки, Робер что-то кричит ей вдогонку; она старается думать о морозе, чтобы не впустить страх в себя.
Она почти бежит по засыпанным солью тротуарам, пояс пальто давит на живот, зубы сжаты. Она видит, как привратница сливает в канаву мыльную воду. Видит, как в свою мастерскую входит сапожник. Как собака окропляет желтой мочой снег. Видит прямо перед собой белое небо и черные ветви деревьев на нем. Видит вырывающееся из трубы пламя. В метро она осматривает лица других пассажиров: вот дама лет пятидесяти, нос с горбинкой, под левым глазом родимое пятно; рядом – блондин с зажатой в зубах трубкой, рыжая девушка в черной шапочке, слишком бледная – ее хорошо видно, даже когда поезд тормозит и тела пассажиров наваливаются друг на друга; вот мальчик лет двенадцати-тринадцати, светлые кудри и свежая царапина над правой бровью; в глаза лезут шапочки, фетровые шляпы, шляпы из серой искусственной замши, коричневые кепки, кепки из твида, вот какой-то черный берет, черная коническая шапка ангорской шерсти, голубая фетровая шапочка, фиолетовая шляпка, сиреневая шляпка, черная меховая ушанка, бежевая шляпа, белая шапочка, зеленая шерстяная шапочка, бежевый «стетсон»; она на мгновение замирает – это обуздывает ее воображение. Затем выходит из вагона, на ступеньках станции сидят нищие, реклама зубной пасты «Эмаль Диамант», реклама ярмарки в городской ратуше – нейлоновые ночные рубашки, хлопчатобумажные сорочки с рюшами на воротнике и на рукавах (и еще вафельные полотенца), блузки из кретона; какая-то женщина поднимается по лестнице, держа на каждой руке по ребенку. На улице крутит ручку своего инструмента шарманщик, а из воротника его куртки выглядывает кошачья голова.
Она покупает билет до города V. Ближайший поезд отправится через час, если погода не переменится. Ма ходит по зданию вокзала из угла в угол, в ее ушах стучат слова «больница» и «в тяжелом состоянии», и от них она чувствует, как деревенеют ее мышцы – иначе просто не выдержало бы сердце. Она наблюдает за людьми, это помогает ей отвлечься от скорбных мыслей: вот на чемодан кто-то накинул белую муфту, у продавца газет один глаз перевязан, словно у пирата, на перрон вошел мужчина в черном пальто; вот женщина в легком платье подбирает бычки, которые еще можно курить, сует один себе в рот и скрывается в зале неверной походкой, скособочившись на правую сторону и подметая подолом пыль, и Ма видит местами порванную полу ее платья и засохшую грязь, которая залепила вытканные на нем цветы. Женщина совсем себя не контролирует и отводит глаза от зевак. Между рельсами крыса, рядом стоит железнодорожный рабочий. За оградой вокзала топчутся двое голубей, и какой-то старик кидает им зерна. Юноша на костылях с перевязанным лицом… но у нее тоже есть юноша, сын, в тяжелом состоянии в больнице города V. в Арденнах, и она изо всех сил стремится увидеть его. Она едва сдерживается, шагая в толпе пассажиров по направлению к поезду, на часах двенадцать сорок восемь: «Тшш, сердце!», «Keep quiet»[4]4
«Спокойно» (англ.).
[Закрыть], она сдерживается, чтобы не обогнать каждого, кто идет перед ней, – мужчину с немецкой овчаркой на поводке, следующего перед ним типа с зажатой под мышкой буханкой хлеба, тетку с детской коляской, которая орет: «Жан-Пьер, подожди!» И ту, другую, что еле плетется, и тех, кто жмется к ограждению, и сосущего леденец на палочке ребенка, и ту, что пихается локтями, и того, кто поддерживает под локоток тучную даму: «Идем же, Аделаида, мы почти уже дошли!»; и железнодорожник, что стоит на подножке вагона, тоже ее раздражает; наконец она заходит в вагон, садится на свое место, переплетает замерзшие пальцы, прикрывает глаза, чтобы не смотреть на сцепленные пальцы; их фаланги совсем побелели, но вот поезд наконец трогается. Напротив нее мужчина распаковывает солдатский паек, мешает его содержимое ложкой и тщательно пережевывает каждый кусочек. Маленькая девочка читает книжку, попутно ковыряя в носу. Крыши, деревья, поля, холмы сливаются в одно белое пятно, секундная стрелка на ее часах тикает от деления до деления, и вот уже час тридцать две минуты, вот тридцать три, тридцать четыре; километр за километром, тело сгибается, спина слабеет, от монотонного пейзажа за окном ее неумолимо клонит в сон, поезд трясет, неподвижность пассажиров, сопение спящих, ощущение теплоты. Наконец поезд прибывает на нужную станцию, и она чувствует, что буквально разваливается на части.



