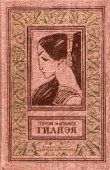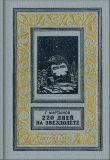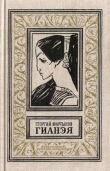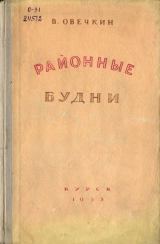
Текст книги "Районные будни"
Автор книги: Валентин Овечкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
* * *
Поздно вечером секретарь райкома партии подходил у себя в кабинете с товарищами, принимавшими участие в проведении «Дня тракториста», итоги – удался ли праздник?
– В другой раз сделаем немножко иначе. Сама жизнь нам кое-что подсказывает. Эти споры, здоровые взаимные претензии, что разгорелись уже после нашей официальной части, надо обострить, подогреть. Пусть поспорят трактористы с председателями колхозов, полеводческими бригадирами, побранят друг друга – ничего страшного, на пользу делу пойдёт!.. Вот ещё, что я думаю. Обяжем всех председателей колхозов вывезти на праздник вагоны, в которых живут их трактористы. Устроим на этом лугу нечто вроде выставки. Каждая тракторная бригада станет на своём месте, со своим вагоном – прямо, как живут они в поле. Пусть любуются люди хорошими, тёплыми радиофицированными вагонами, пусть смеются над курятниками. Верно? Может быть, даже таблички на каждом вагоне: во сколько обходится в этом колхозе трактористам питание в день, чем их кормят.
– Но не всё с колхозов требовать, – подал голос кто-то. – Надо и трактористов покритиковать. И их работу надо показать на выставке.
– Обязательно! – продолжал секретарь. – Я же не договорил. На стоянке каждой бригады сделать стенд. Диаграммы: выработка, простои, расход горючего. Но выработка ещё не самое главное – какой урожай дала эта бригада колхозу? Экспонаты, образцы урожая за прошлый год. Прямо выставить снопы пшеницы, ячменя, овса. Где-то будут вот такие снопы, рукой до колоса не достать, а где-то и поменьше. Пусть люди смотрят, сравнивает, критикуют.
– Это будет очень хорошо, если так сделаем, – сказал председатель райисполкома. – Только вот ещё что – речей бы поменьше. Знаешь, сколько ты сегодня говорил? Почти два часа. Утомительно. Народ, не привыкший к заседаниям, духота, разморило их в помещении, спят. Надо бы как-то короче, праздничнее.
– Да, доклад я построил неудачно, не учёл особенностей собрания. Нужно короче и торжественнее, согласен. А директорам МТС просто нужно огласить свои приказы к этому дню: итоги соревнования, премирование лучших механизаторов. Больше надо оставить времени для самодеятельности, гулянья… Артистов, может быть, не только своих организуем. В Москву напишем. Из Большого театра, может, пришлют к нам бригаду на «День тракториста». Лиха беда – начало. А, в общем, ничего, товарищи! Удался праздник. Но в другой раз сделаем лучше!
1952 г.
БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ
Этих людей можно встретить на железнодорожных станциях, на речных пристанях, на перекрёстках всякого рода путей сообщения.
– Куда едете, гражданин?
– В Белоречку пробираюсь. В станицу Белореченскую.
– Откуда?
– Из Саратовской области.
– Зачем приехали на Кубань?
– В колхоз вступать… Недород, милый, хлебушка мало получили.
Спросишь другого, заказывающего билеты в обратном направлении.
– А вы куда?
– На родину, в Курск. Домой.
– Не понравилось здесь?
– Нет.
– Почему?
– Да что ж – от чего убегал, от того как раз и не убёг. Сказывали – Кубань такой край, где никогда неурожая не бывает, а оно и здесь то ж случилось… В колхозе был я тут в одном. Вспахали, посеяли, всё благополучно, росло хорошо, откуда ни возьмись, черепашка эта самая, начала подъедать, повредила посевы. По одному килограмму на трудодень дали – разве ж это хлеб?.. А у нас нынче, в нашем колхозе, пишут мне, урожай сильный на всё. И на зерно, и на овощи. По пять килограммов получают. Вот какая история…
– Значит – обратно?
– Обратно…
Из дальнейшего разговора выясняется, что это у него уже не первый рейс сюда-туда. Он бывал на юге и в других местах, бывал на Дону, на Украине, оттуда тоже возвращался в Курскую область, теперь вот приехал на Кубань, но опять – неудачно.
Таких непоседливых искателей жирного трудодня называют в станицах – «колхозники до первого градобоя». Сами они именуют себя обычно переселенцами, хотя их кочевье по стране ничего не имеет общего с тем переселением, которое поощряется у нас и необходимо для полного освоения наших природных богатств. Едут они, не считаясь ни с какими государственными планами переселения, по своему маршруту, и не задерживаются долго на одном месте. Есть люди, сделавшие переезды с места на место, из колхоза в колхоз, своего рода профессией, доходной и не особенно трудной, если не считать дорожных неудобств. Есть побуждаемые к «эмиграции» с родины причинами иного порядка.
Вот несколько типов таких «переселенцев»-перебежчиков, встречавшихся мне на Кубани.
I… Вокзал станции Армавир. Время – ранняя весна, на улицах под заборами лежит клочьями снег, грязный, мокрый, дует сырой ветер, холодно, а в вокзале – духота от большого скопления пассажиров.
В углу зала ожидания расположилась семья: муж, жена, четверо детей. Едут, видимо, издалека, с севера. На нём меховая куртка, сапоги из оленьей шкуры, расшитые по голенищам узорами. У детей и жены – сибирские валенки-чёсанки, каких не умеют делать на юге, мягкие и плотные, не пропускающие воду. Расположились они по-домашнему. Жена, чернобровая высокая женщина с жёлтым усталым лицом, принесла выстиранные на перроне под краном детские пелёнки, развесила их сушить на батареях парового отопления. Старшие девочки, привязав пустой мешок одним концом за трубу отопления, другим за ручку поставленного стоймя тяжёлого чемодана, сделали из него подвесную люльку, укачивают истомившегося в вокзальной духоте маленького ребёнка. Мальчик лет трёх возит по полу между узлами и чемоданами привязанную за нитку коробку из-под папирос.
Я беседую с главой семьи. Глава – молодой человек, ему, похоже, нет и тридцати, жена старше его. Молодой, но бывалый, а ещё больше – хочет показать себя бывалым. Это сквозит в его развязных манерах, в напускной солидности жиденького баска, когда он подзывает носильщика и говорит: «Слушай, носильщик, четыре билета на сорок первый, плацкартные. Заплачу не по таксе. Не можешь?.. Ну и Армавир преподобный! Семь тысяч километров проехал – такой станции не видал! Не хотят даже разговаривать с людьми! Безобразие!». На руке у него маленькие дамские часики. Он то и дело отворачивает рукав меховой куртки и поглядывает на них, хотя против нас на стене висят большие круглые вокзальные часы, да и спешить ему некуда, так как сорок первый отправляется в пять вечера, а сейчас ещё утро.
Он словоохотлив; рассказывает, что едет из Сибири, работал там «по колхозам», мастер на все руки – столяр, плотник, бондарь, колёсник, уехал оттуда потому, что не понравился климат. Кроме того, я узнаю, что меховую куртку свою он купил в Забайкалье за золотые рубли (колхоз их занимался в свободное время золотодобычей, выделяя для этого специальную бригаду), унты ему продал перед отъездом знакомый бурят, и в багаже у него едет ещё много всякого добра, нажитого там.
Наружность его невзрачна. Ростом невелик, рябоват, маленький носик пуговкой, пустые, невыразительные глаза. Говор у него южный – «нехай», «аж». Не приходится долго гадать, откуда он родом, он сам говорит: «Думал было заехать на родину, да плохо сейчас с пересадками. Крюку надо давать, а потом ещё автомашиной ехать – за Сальском на Маныче, хутор Дубовский».
Беседуем о том, о сём. Я не спешу признаваться, что я сотрудник газеты, но приходится к месту сказать, что я тоже бывал и в Сибири, и на Маныче, и на Дону, и на Волге, и здесь всю Кубань объездил. Мой дорожный, видавший виды овчинный полушубок, и осведомлённость в географии СССР располагают ко мне парня. Он принимает меня за коллегу по образу жизни.
– А сейчас откуда едешь? – спрашивает он.
– Из Ейского района.
– Это Ейск, что на Азовском море? Слыхал… Ну, как там? Не устроился?
Нет, – отвечаю, – не устроился.
– А как там вообще?
– Насчёт чего?
– Насчёт колхозов, урожая.
– Не плохо.
Рассказываю ему, что видел в Ейском районе, какие там колхозы, доходность.
– А так, чтобы чего-нибудь особенно выдающегося – нету?
– Ну здесь в Краснодарском крае есть колхозы, и покрепче… А вы сейчас прямо из Сибири?
– Нет, я уже и тут кой-куда заглядывал. В М-ской был, – называет он станицу на Туапсинской ветке. – Сегодня ночью оттуда.
– Ну, что там? – спрашиваю в тон ему.
– Да тоже ничего такого подходящего. Пять колхозов, совхоз есть… Я, собственно, чего туда заезжал. Наши дубовские люди живут там в одном колхозе, я из Сибири прописал им, что хочу переехать на Кубань, вот они, значит, и отбили мне телеграмму: езжай к нам в М-скую. Зря только время потерял. Надо было ехать прямо куда наметил, не заворачивать.
– Что – не понравилось там?
– Чепуха, – махнул он рукой. – На людей нельзя доверяться, пока сам не посмотришь. Кто новины не видал, тот и ветоши рад… Самое большее – шесть килограммов, – всех культур, не одной пшеницы, – и деньгами три рубля. А то – пять кило, четыре. Обыкновенные колхозы, среднего качества. И там, где шесть, то было в прошлом году, а теперь навряд, чтоб удержались они на этой точке… А она, понимаешь, – кивнул на жену, – злится на меня: почему не остались? Семь тысяч километров проехали, а ещё на каких-нибудь полтораста-двести – терпения не хватает. Я ей говорю: дура, ты пойми, что мы не куда-нибудь приехали, а на Кубань! Тут можно такой колхозик выбрать – закачаешься! Есть колхозы – по пять миллионов дохода имеют. Верно?
– Верно.
– Вот. Тут есть из чего выбрать. Кубань – она издавна славится. Какая нам неволя? Будто так уж обедняли, что некуда деваться.
Жена не ответила ему. Она хмуро молчала во всё время нашего разговора. Нашла себе и здесь, на вокзале, женскую работу, латала какие-то тряпки, поглядывая иногда на окна, за которыми проносились без остановки составы с цистернами.
Мне интересно было услышать от этого парня более обстоятельную характеристику м-ских колхозов – что же ему там не понравилось? Цифры распределения доходов он назвал приличные. Да и сам я бывал в М-ской не раз, знал хорошо эти колхозы. Один колхоз там, действительно, можно было отнести к числу «среднего качества», даже «ниже среднего», остальные же были зажиточные, крепкие колхозы с многосторонне развитым хозяйством. И у нас завязался профессиональный разговор, как у двух знатоков своего дела. Больше рассказывал он, я слушал.
– А ты что, может, поехать туда хочешь? Не стоит, не советую. Сказать по правде, колхозы там хорошие, но – для местного жителя, который на корню сидит, а так, чтоб подработать – негде. Нет такого колхоза, чтоб был для нас рынтабельный. Ну вот тебе, к примеру. Есть там «Волна революции», этот самый, где шесть кило на трудодень. Так по виду – ничего колхоз, урожайность у них, дисциплина, порядочек. Вот и ей, – кивнул опять на жену, – понравилось там. Машинами возят колхозников в поле для женщин с грудными детьми участок возле самой станицы, ясли хорошие. Ладно, согласен, неплохо эта всё – ясли, машины. Работать там можно с удобствами. Но получать-то что будем? Я и землякам своим посоветовал: удирайте, пока не поздно. По шесть кило вы больше тут не оторвёте. А почему я так заключаю? Уж слишком ударились они в строительство. Я как узнал, что они наметили строить – канал, в двадцать тысяч трудодней обойдётся, два коровника, птичник, свинарник, культурные табора, звуковое кино – э-э, думаю, тут дело не попрёт! Со мной случалось уже такое. Не со мною лично, а с одним моим корешком, Федькой Зубовым… Приехали мы с ним, понимаешь, в Казахстан, в тридцать седьмом году, в Карагандинскую область, Фёдор вступил в один колхоз, я в другой – разошлись. Фёдоров колхоз – махина, показательное хозяйство, постройки богатейшие, водопровод, автоматические поилки, электричеством коров доят. Вот это ему всё в глаза кинулось – туда подал заявление. Так его там и подоили! Дожил до отчётного года – получил от жилетки рукава. Оказывается, всё это у них ещё не оплачено было, кредиты брали на строительство, а их же и отдавать надо, покупали за хлеб лес, железо. Неделимый фонд весь доход пожрал. Ишачил, ишачил парень лето за чужие долги, с чем пришёл с тем и ушёл. А я выбрал себе другой колхоз. Небольшой колхозик и по виду небогатый. Правление помещается прямо в жилом доме, и конторы не построили, скот стоит в таких завалюхах, как раньше у единоличников были, но держат скота много, и сеют много, всю землю распахали, такая нагрузка у них на трудоспособного, как нигде, работают здорово, день и ночь. Думаю себе – тут вернее дело будет. Так и получилось. Завалили амбары хлебом, два гурта скота продали, строительством не занимаются, расходов никаких – всё на трудодни пошло. По пятнадцать кило зерном получил да по семь рублей деньгами. Вывез на базар сразу двенадцать подвод муки, продал на четырнадцать тысяч, да три тыщи из кассы получил – денежную часть – и поехал. Велосипед купил себе там, ружьё бельгийское за тыщу двести. И Фёдора два месяца на своём иждивении содержал, покуда устроился он на новом месте. Вот какая штука. Так что я уже знаю, чем оно пахнет, когда много строят.
Он подмигнул мне и продолжал рассказывать про м-ские колхозы.
– Ну есть там ещё колхоз «Дружба». Тоже считается – передовой. И, верно, недурной колхоз. Если бы уж, скажем, безвыходное положение – можно туда податься. Пасека у них большая, животноводство, хлеба давали по пять кило. А нынче должно больше быть – триста гектаров новины распахали. Так по виду – всё хорошо. Но руководство у них, понимаешь, опасное. Председатель парень малограмотный, недавно выдвинули из бригадиров, а бухгалтер – пьяница горький. Прямо на работе в конторе пьёт. В шкафу за делами полно бутылок порожних. И говорят про него – малый жуликоватый. Так что может этого малограмотного председателя во всякую минуту облапошить, и может, понимаешь, колхозников крепко обидеть. Почему мне об этом подумалось? Да, видишь, и такое случалось уже со мною. В Башкирии, в тридцать пятом году. Хапнул счетовод девяносто тысяч и был таков. В последствии-то его поймали, да денег при нём оставалось всего пятьсот рублей. Колхоз небольшой, фонд трудодней – тысяч сорок пять. Как подсчитали мы – по два рубля с трудодня украл. У нас тогда с жинкой было пятьсот семьдесят трудодней. Я делал мебель для клуба, хода бричечные, подработал неплохо. Она дояркой работала. Считай – тыща сто сорок рублей наших ухнули. Баян можно было б купить. Я в тридцать восьмом году купил в Ташкенте тыщу триста заплатил, а тогда они дешевле стоили. Видишь, какая история. И вот поглядел я в «Дружбе» на ихнего бухгалтера – рожа такая проспиртованная, стакан перед ним на столе, подливает из графина, пьёт вроде, как воду, и не морщится, на глаза только слеза набегает. Думаю себе: как бы не повторилось тут опять то самое, что в Башкирии. Это мало радости – на растратчиков работать. Председатель уговаривает: «Оставайся, пиши заявление, нам плотники и колёсники позарез нужны». – «Нет, – говорю, – мне у вас не нравится тем, что не в центре, далеко бабе на базар ходить», – отбрехался в общем, ушёл… Ну, что тебе ещё рассказать? Есть там «Знамя труда», садово-огородный колхоз, семьдесят пять гектаров сада. Кто не в курсе, тот, конечно, сразу кинется – такая площадь сада, это ж капитал! А я первым делом спросил: какой был урожай в прошлом году? «В прошлом году, – говорят, – завалились фруктами, сильный урожай был». Тогда – всё. В этом году, значит, либо будет, либо нет. Сад, он не всегда родит, бывает перегуливает, одно лето родит, другое отдыхает. А «Вторая пятилетка» – четвёртый колхоз – хмелем занимается. Очень рынтабельная штука. Только он, понимаешь, хмель, не сразу начинает доход давать, года через три, а сначала – одни расходы. Пошёл туда, оказывается, они ещё только закладывают плантацию, сушилки строят, колья заготавливают. Получили пять вагонов леса, кучу денег платят за него. Неподходяще. А пятый колхоз – я уж и забыл, как его звать, – совсем маломощный, захудалый какой-то, туда никто из наших дубовских не вступал. Урожайность низкая, потери большие, немолоченная пшеница до сих пор в скирдах стоит. Народ там какой-то сонный. Из-за руководства, я думаю. Может, потому, что парторга у них нету. Спрашиваю: сколько у вас ефремовских звеньев? Никто не знает, и понятия не имеют, что это такое – ефремовские звенья. Как дикари… Вот тебе и все колхозы. Ничего особенного. Жалеть незачем. Такое мы скрозь найдём.
– Сколько времени ты прожил в М-ской? – спросил я.
– Три дня.
Оставалось только позавидовать его наблюдательности.
– Здорово ты их обследовал, – похвалил я парня. – Прямо, как инспектор земотдела.
– А что ты думаешь, – ухмыльнулся он. – Вот пошли меня в любую станицу, дай два дня сроку, скажи – представь по всем колхозам полную отчётность: кто чего стоит, куда хозяйство движется, какое там руководство – всё сделаю и будет без ошибки. Оно, понимаешь, когда много их видел, сразу бросается в глаза разница и где у кого какие порядки. В иной колхоз придёшь, как глянешь – плетни повалены, бригадные дворы разгорожены, инвентарь разбросан – ну всё, сразу можно понять, что за хозяева тут премилые.
– Это верно… Только ты напрасно всё-таки уехал из М-ской, – сказал я. – Смотри, как там удачно складывается: сад, потом хмель, потом ещё что-нибудь подвернулось бы. Надо было тебе для начала вступить в тот колхоз, где ты говорил – бухгалтер жулик. Авось, на твоё счастье он в этом году ещё не проворуется, подработал бы там, а на следующий год – в тот колхоз, где сад, как раз под урожай. Там отхватил бы деньжат, а тем временем в третьем колхозе хмель подоспеет. Так и пошло бы, как по расписанию.
Он принял это в шутку, рассмеялся и ответил тоже шуткой.
– Так что – вернуться, может? Нет, корешок, мне ещё не приходилось так, чтоб уехать и потом обратно на то же самое место вернуться. Может, когда кончу по разу, тогда уж другим заездом, ха-ха-ха!..
– Ну, и куда же ты теперь направляешься?
Парень мечтательно улыбнулся.
– Наметил я себе один колхоз. Там, – он махнул рукой, – за Краснодаром, к Чёрному морю… – Приподнявшись с чемодана, на котором сидел, он вытащил оттуда толстую книгу с тиснёной золотом надписью на зелёном переплёте: «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», и стал её перелистывать. – В Харькове на вокзале купил. Давно, понимаешь, вижу – продаются такие книжки, а не догадался раньше купить. Семь пятьдесят заплатил и не жалею. Весь Советский Союз тут, все области. Разные описания про колхозы, которые участвовали на выставке – про полеводство ихнее, про животноводство, доходность. Адреса есть… Вот. Если без брехни, что пишут про этот колхоз, тогда – всё. Вот там действительно можно подработать. Виноградники у них, рис сеют. По два литра вина давали на трудодень. Это если нам вдвоём заработать, скажем, пятьсот трудодней – тыщу литров вина получим. Слышишь, Дарья! – обернулся он к жене. – По десять рублей литр – на десять тысяч одного вина. А ещё же хлеб, рис. Вот где заживём! А ты горюешь, что уехали.
Дарья попрежнему молчала, оставаясь равнодушной к восторгам мужа.
– Если всё удачно будет, куплю себе там мотоцикл. Давно у меня мечта – мотоцикл заиметь. Так и наметил: в сороковом году, душа долой, купить. С коляской.
– А принимают там? – спросил я.
– Меня скрозь примут. На мастеров нынче кризис. Я ж и бондарь, и колёсник. И баянист, могу играть на вечерах в клубе – это тоже ценится.
… Настроение моего «корешка» упало, когда он узнал, что я сотрудник краевой газеты и разъезжаю по белу свету не в поисках «рынтабельных» колхозов. Предполагая побывать вскоре на Маныче, на его родине, я попросил его назвать свою фамилию и фамилии его земляков, перекочевавших в М-скую, чтобы, будучи там, выяснить, почему люди уезжают оттуда. Он несколько минут молчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил, но совсем другим тоном. У него даже голос изменился, исчезли самоуверенные солидные нотки, весёлое курносое лицо стало жалким, скучным. Мне пришлось с полчаса выслушивать его объяснения – почему он никак не может прижиться на одном месте. В Казахстане у него дети стали хворать, врачи посоветовали переменить климат, в Башкирии градом выбило хлеб, на Дону были сильные засухи и т. д. Потом он вдруг вспомнил, что какой-то человек обещал ему достать билеты на сорок первый, заторопился и, так и не сказав мне фамилию, ушёл. Невысокая фигура его, придавленная тяжёлой мохнатой меховой курткой, затерялась в толпе.
Я подсел к его жене. Женщина в отсутствие мужа оказалась разговорчивой, охотно отвечала на мои вопросы и, видимо, была рада, что нашёлся в вокзальной сутолоке человек, с которым можно было отвести душу. Она слышала всю нашу беседу.
Её взгляды на жизнь круто расходились со взглядами мужа. Вот, вкратце, что она рассказала о себе. Была она родом с Донщины, из станицы Константиновской, казачка, там и жила безвыездно всё время, пока вышла замуж за этого (она назвала мне его фамилию – Гунькин, Егор Тимофеевич). Гунькин у неё второй муж, и он женат второй раз. Времени тому, как они сошлись, уже девятый год. Она работала тогда в колхозе дояркой. Гунькин приехал в Константиновскую с Маныча – это было, когда он ещё только начинал путешествовать, – вступил в их колхоз, у него умерла жена и там он её посватал. У неё было тогда около пятисот трудодней, получила от колхоза в премию корову, хата была своя. Он поселился у неё, пожили они полгода, а потом уговорил её ехать в Башкирию. Продали хату, корову, и вот с тех пор, как сорвал её с места, так и нет им пристанища.
– Врёт он вам, что – град, то, сё, – сказала она. – Ничего не было. Просто вздумается ему, что где-то лучше – и едет.
Зарабатывали они всюду хорошо, но ей уже ничто не мило, устала от бродячей скитальческой жизни. Вот и сейчас – двенадцать суток в дороге с грудным ребёнком, и другой такой, что всё время на руках. Да и денег-то этих заработанных ей попадает мало. Муж туговат на кошелёк, больше тратит деньги на себя, а на покупки для семьи не очень расщедривается. Старшим девочкам-школьницам – особенно достаётся. В прошлом году с половины зимы стали ходить в школу и вот опять, не кончился учебный год – уехали, почти полмесяца уже в дороге и не видно, когда устроятся на месте. Сама она старше мужа на семь лет, ему тридцать три, ей со-рок, а тут ещё нездоровье…
– А когда я жила в Константиновской, про меня тоже в газете писали, – сказала она, взглянув на меня. – Приезжал к нам из редакции селькор, на карточку меня снимал. Ударницей была…
И закончила свой рассказ с внезапной вспышкой злости.
– Я уж думала – бросить его, нехай сам веется, так надоело! За дурною головою и ногам нема спокою. Девочку только жалко. Девочка вот эта – его. Если разойтись – возьмет её, а я к ней привыкла, как к своей… А, может, он и от дитя своего откажется? Я ещё не говорила с ним… Бросить, уехать обратно в Константиновскую, в свой колхоз? Хату вот я продала там свою. Ну, я думаю, можно стребовать с него через суд, а? Деньги-то я ему отдала, я их и не видела. Как вы посоветуете, товарищ редактор?
Я посоветовал ей так и сделать, как она надумала: ехать в Константиновскую, а если дойдёт у них до суда, то взыскать с Гунькина не только деньги за проданную хату и корову, но и половину всех его мотоциклов, баянов и прочего нажитого совместно добра.