
Текст книги "Том 9. Повести. Стихотворения"
Автор книги: Валентин Катаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта.
Пока я, по парижскому обычаю, не снимая макинтоша и присев боком на край редакторского стола, рассказывал Кашену о наших пятилетках и о чудесах строительства гигантского Магнитогорска, где я провел последние четыре месяца в качестве специального корреспондента, а он время от времени с загоревшимися глазами восклицал: «О ля-ля! Если бы это видел наш Ленин!» – в кабинет запросто, как старый товарищ, вошел бравый старик метранпаж в традиционной синей, крепко накрахмаленной рабочей блузе, из-под которой выглядывал твердый воротничок с шелковым галстуком. У него в руках были сырые газетные гранки с крепко вдавленными оттисками строчек и большая типографская щетка, на весь кабинет распространявшая какой-то волнующе-редакционный, резкий запах керосина. Слушая мой рассказ, Кашен быстро делал на полях гранок корректурные иероглифы, а старый метранпаж сел на другой угол редакторского стола и, дружески положив на мое плечо смуглую руку с тонким, стершимся обручальным кольцом на безымянном пальце, кивал головой с редкими, напомаженными черными волосами, аккуратно расположенными по всей лысине.
– Qa va bien! C'est une grande victoire du communisme mondial. Не так ли, товарищ? Завтра мы даем о Магнитогорске в «Юма» большую информацию. Вы знали товарища Ленина? – спросил он меня.
– К сожалению, лично не приходилось.
Старый метранпаж сочувственно посмотрел на меня.
– А я видел Ленина. Он однажды заходил к нам в «Юма», к бедняге Жоресу. Но не застал. Бедняга Жорес в это время как раз завтракал. И Ленин пошел к нему в кафе «Дю Круассан». Вы должны гордиться вашим Лениным, – со строгостью заметил он. – Это был великий человек; гораздо более великий, чем наш Робеспьер и, может быть, даже чем Жан-Жак.
– А я его прекрасно знал, – сказал Кашен, нежно улыбнувшись из-под своих нависших бровей. – Мы с ним были большие друзья. Это был острый человек, настоящий революционер… И вместе с тем парижанин… О, если бы ему удалось увидеть окончательный триумф своих идей в Советской России!
…Мне легко было представить темный парижский день конца ноября 1911 года, пустые редакционные коридоры и мраморную зашарканную лестницу, покрытую клочьями грязного газетного срыва, по которым с сырым свернутым зонтиком под мышкой бегал Ленин, разыскивая Жореса и вдыхая теплый воздух, поднимающийся откуда-то снизу, из линотипной: острую смесь горящего светильного газа, расплавленного металла стереотипов, типографской краски, мазута. Не найдя Жореса в редакции, по совету метранпажа Ленин поспешно отправился в кафе «Дю Круассан», где Жорес всегда завтракал.
Ленин нашел Жореса внизу переполненного зала, на его обычном месте, возле громадного окна, с одной салфеткой, разложенной на коленях, а другой – завязанной высоко под бородой. Жорес кончал завтракать и намазывал острым ножичком кусок очищенного от корочки камамбера на хрустящую корку хлеба.
– А, дорогой Ленин! – воскликнул он и с живостью положил обе салфетки на столик. – Рад вас видеть. Садитесь. Но какая грустная встреча, не правда ли? Наш друг Лафарг ушел от нас, кто бы мог подумать? С этим трудно примириться.
– Я заходил к вам в «Юма», – сказал Ленин.
– Я завтракал. Но я уже кончил, – ответил Жорес. – Может быть, чашечку черного кофе? – спросил он Ленина.
Ленин отказался. У него было еще много дел. Он сел боком на стул, подвернул под себя ногу и коротко объяснил цель своего визита.
– Я прошу слова от имени Российской социал-демократической рабочей партии. Вот мои полномочия.
Ленин положил на столик бумагу.
– У нас громадный список ораторов, мы очень стеснены, – сказал Жорес, – но вам, как представителю великой революционной России, конечно, будет предоставлено слово на похоронах несчастных Лафаргов. Только не слишком длинно!. – умоляюще сказал Жорес. Он вынул из кармана записную книжку и вписал туда несколько слов. – Но вечером, дорогой Ленин, я прошу вас все-таки еще раз зайти ко мне в «Юманите», чтобы оформить все строго официально. Итак, до вечера.
Они попрощались. Ленин торопился. Жорес увидел сквозь мокрое стекло витрины, возле которой он сидел, как на улице появилась маленькая фигура лидера русских социал-демократов Ленина и как он быстро прошел мимо ларька, где бородатый нормандец в клеенчатой зюйдвестке продавал разложенные в плоских ящиках, среди лимонов, водорослей и мха устрицы, розовые креветки, чернильно-черных морских ежей, мидии, бургундское эскарго, и ветер качал над ним декоративный морской фонарь и спасательный круг с надписью «Устрицы». Жорес видел, как по стеклу витрины извилисто текли мелкие капли ноябрьского дождя, и это была та самая витрина, сквозь которую в июле четырнадцатого года выстрелом из револьвера он был убит, в то время когда наливал себе в стакан из маленького графина красное бордо.
Время было насыщено трагическими событиями: гибель «Титаника», выстрел в Сараеве, убийство Жореса, начало первой мировой войны, все последствия которой нельзя было тогда даже вообразить.
Недавно я зашел в знаменитое кафе «Дю Круассан», где был убит Жорес, и видел на стене дома мраморную доску с именем Жореса, а также рельефное изображение фригийского колпака с раскрашенной трехцветной кокардой, похожей на маленькую стрелковую мишень, и буквами «R. F.» – Репюблик Франсез.
Вечером Ленин еще раз отправился в «Юманите», чтобы подать официальное заявление, но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Роз, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Она знала французский лучше Ленина. Это был ее родной язык. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности же к этой речи на похоронах Лафаргов: когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа, язык его речи должен быть безукоризненным.
В воскресенье 3 декабря на кладбище Пер-Лашез с раннего утра пз трубы крематория уже густо полз черный, жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория, в печах бушевало адское пламя раскаленного добела антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы двух атеистов.
Траурные, черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали в ворота Пер-Лашез. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж, десятки тысяч французских пролетариев – фобуры Сен-Дени, Сент-Антуан, Бельвиль, Иври, Батиньоль, Монмартр – под красными знаменами, делегаты международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Арманд с обнаженной головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом по дороге в колумбарий. Перед темной, неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурное возвышение, выступали Каутский, Брак, Эдуард Вайян, Харди, Жорес – самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в кармане, с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами.
– Товарищи! – раздался в тишине небольшой грассируюший голос Ленина. – Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг.
Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Дождь дымился в черных ветвях кипарисов, пробегал по мраморным крышам часовен и мавзолеев, по готической усыпальнице Элоизы и Абеляра, по крестам, обелискам, скамейкам и статуям этого безмолвного города мертвых, по его тесным улицам, откуда доносился тонкий, настойчивый запах гниющих георгинов и хризантем. Голос Ленина звучал над живыми и над мертвыми. Кто-то раскрыл над обнаженной головой Ленина зонтик, и капли дождя падали с его черных спиц на бумажку в руке Ленина.
– Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга, как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции.
Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Пер-Лашез.
– Под знаменем этих идей, – говорил Ленин, – сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и: отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии. – Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского.
Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может те самые, которые некогда развевались на баррикадах Коммуны, он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Быть может, в этот миг в сознании Ленина мелькнуло, как снаряды шестиорудийной батареи версальцев, установленной на Тронной площади, громят ворота Пер-Лашез. Летят щепки, камни, куски железа. Огонь бьет в глаза. Преодолевая героическое сопротивление коммунаров и слабый огонь их митральез, версальцы врываются в глубину кладбища. В течение двух часов коммунары вели ожесточенный бой буквально за каждый памятник и каждую могилу. Как ясно представлял себе Ленин теперь, стоя на траурном помосте, страшное кровопролитие, происходившее тогда среди этих самых склепов и обелисков, белевших перед ним в черной зелени кипарисов… Дальше, среди голых зимних деревьев, он угадывал оббитую пулями стену, из которой как бы выступали раскинутые крестом руки трагической женщины и гордо закинутые головы расстрелянных коммунаров. Все это было так недавно! Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские коммунары, а один из них – знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению Коммуны, друг знаменитого поэта, автора «Интернационала» – Эжена Потье, друг Курбе, Эдуарда Мане, Коро, Милле, Домье и других деятелей Коммуны – знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции, – стоит теперь рядом с ним на траурном помосте в старомодном сюртуке – рукава с буфами, в узком черном галстуке, – с гордой, поседевшей головой, блистающей каплями дождя. Ленин и Вайян – две эпохи – стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов.
– В лице Лафарга, – продолжал Ленин, – соединялись – в умах русских социал-демократических рабочих – две эпохи: та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла, во имя республиканских идей, на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат под руководством марксистов вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм.
Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза были прикованы к небольшой, энергично подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая сдержанно-страстные жесты, лишенные какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения.
– Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье из сочинений Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственное знакомство с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих, – нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь.
Теперь в словах этого маленького, скромного русского лидера звучало пророчество. Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова:
– Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и восемьсот миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира. А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма (Жорес неодобрительно помотал головой)… чтобы уступить место эпохе революционных битв организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии («Не так скоро, не так скоро», – пробормотал Каутский, сердито взглянув на Ленина)… и установит коммунистический строй.
С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и расстрелянная сорок лет тому назад на кладбище Пер-Лашез, вновь была провозглашена на этом же самом месте.
С кладбища возвращались домой на метро, когда уже совсем стемнело. Наступили так называемые часы «пик». Нужно было пересечь почти весь город. Страшно устали. Пересаживались на станции «Реомюр – Севастополь». Толпа стиснула их и потащила за собой по грязно-кафельным подземным коридорам, по темным каменным лестницам, поблескивающим под ногами, как бы посыпанным селитрой. Они шли, подчиняясь приказаниям многочисленных надписей и стрелок. Тяжелый углеродистый воздух, то жаркий до головокружения, то сырой, холодный, врывался откуда-то из боковых ходов и проносился по бегущей толпе, которая вдруг останавливалась перед шипящими пневматическими дверцами; они неотвратимо медленно закрывались перед самой грудью, не пуская на перрон опоздавших к очередному, быстро приближающемуся поезду. Щелкали громадные никелированные щипцы в подагрических руках старух-контролерш, пробивая картонные билеты с буквой «v», и из щипцов все время сыпались на пол кружочки и полумесяцы, устилая каменный пол безрадостным конфетти. А старуха контролерша, сидя на складном стульчике, все щелкала и щелкала щипцами – младшая парижская сестра Парки, – как бы «считая дни и не давая отсрочки». Подошел поезд. Пять вагонов. Средний, полупустой, белого цвета – первого класса. С тугим пневматическим шипением двери плавно закрылись; сами собой, со стуком заперлись медные щеколды; поезд помчался, вагон мотало, валя на поворотах пассажиров друг на друга, сбивая с ног, как кегли. Но Ленину это, видимо, даже нравилось: быстро, сравнительно недорого, сердито. Демократично. Правда, тесновато и могло бы быть дешевле, но ничего не поделаешь: капитализм. Многомиллионный пролетарский город. Столица мира. Для того чтобы угнаться за потребностями его быстрорастущего населения, необходимо плановое социалистическое хозяйство. Капиталистическая анархия промышленного производства не угонится. А вообще-то метрополитен – вещь невредная. Когда русский пролетариат прогонит царя и возьмет власть в свои руки, одним из первых мероприятий должна быть постройка в наиболее крупных рабочих центрах хорошего, удобного, быстрого и дешевого метрополитена. Кое-чему не мешало бы поучиться и у буржуазии. Например, народное питание. Побольше всевозможных демократических закусочных, бистро, ресторанчиков, молочных. На каждом предприятии. Цены по себестоимости. Дешево и сердито. И женщинам станет легче. Не маяться же всю жизнь у плиты! Побольше дешевых механических прачечных: не гнуть же всю жизнь спину над корытом! Хорошо бы и громадные универсальные магазины. С минимальной наценкой. С кредитом. Пролетарские «О-Прентан», «Самаритен», «Галерея Лафайета». Отлично бы!
Ленин уже не думал о похоронах Лафаргов. Как всегда, его мысль мчалась вперед. Крупская вернула его мысли к сегодняшнему дню:
– Володя.
– Что?
– Ты обратил внимание, как смотрел на тебя Жорес, когда ты прошелся насчет либеральной буржуазии?
В грохоте поезда Ленин не услышал. Приложил руку к уху, наклонив голову к Надежде Константиновне. Она громко повторила свои слова. Ленин усмехнулся. Глаза его по-боевому, остро и непримиримо блеснули.
– Да и Каутский тоже! – крикнул он в ухо Крупской.
Надежда Константиновна победно улыбнулась. Глаза Ленина погасли: вспомнилась поездка в Дравейль. Маленькая гостиная. Камин. Ленин вздохнул.
– Да, Надюша. Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарг.
Несмотря на шум в вагоне, Крупская поняла слова Ленина. Грустно покачала траурной шляпкой. Шипели, открываясь и закрываясь, пневматические двери. Входили и выходили люди. Трудящиеся люди Парижа. Рабочие в синих блузах, бедные студенты в беретах, девушки из больших магазинов с полосатыми коробками в руках. У одной из них на пальчике лопнула лайковая перчатка, напоминая лопнувшую фисташку. За окнами проплывали названия знакомых станций, выложенные белыми кафельными плитками по синему: «Halles», «Chatelet», «St. Michel», «Odeon», «St. Sulpice», «Montparnasse», целая полоса парижской жизни. «Vavin, Raspail» – и вот теперь эта полоса кончается навсегда, уходит в прошлое, в историю. Париж уже изжил себя. Выгорел. Он уже не принесет ничего делу, которому Ленин посвятил свою жизнь. Пора рвать с Парижем. После смерти Лафаргов почему-то это стало особенно ясно. «Засиделись мы здесь, в эмигрантском болоте, засиделись».
– А небось, Надюша, у нас в России сейчас настоящая зима. Крепкая, ядреная. Вот бы на конечках прокатиться. Самый раз! Ась, Надюша?
А станции все летят и летят. Как жизнь. «Denfert-Rochereau», «Mouton Duvernet», наконец, вот она, «Alesia», – это уже последняя. Здесь выходить.
– Надя, Инесса, не зевайте, чтобы не прищемило дверью.
Скоро после этого он уехал из Парижа в Прагу. Потом еще поближе к России – в Краков, в Поронино, навстречу Октябрю, навстречу Советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал, навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь двенадцать лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно.
«Ленин был физически крепкий, сильный человек, – пишет Н. Семашко. – Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки – все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку он мог, заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла эта его чрезмерная напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова: он любил и ценил свежий воздух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры… Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки… Ранение было исключительно тяжелое. Пуля, пронизавшая грудную клетку, залила ее кровью, порвав крупные сосуды. Пуля, попавшая в шею, прошла настолько близко от жизненно важных сосудов („сонная“ артерия и вена), что Владимир Ильич первые дни выделял с кашлем кровяную мокроту. И тем не менее уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает, и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить с занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: „Перемудрили“…»
Считается, что на Ленина было совершено два или три покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с семнадцатого года за ним охотились враги, его травили. Пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов!
«Последняя болезнь Владимира Ильича началась с незначительных симптомов: у него закружилась голова, когда он встал с постели, и он должен был ухватиться за стоявший рядом шкаф. Врачи, тотчас вызванные к нему, сначала не придали значения этому симптому. А Владимир Ильич стал грустен и задумчив; он предчувствовал беду и на все утешения отвечал: „Нет, это первый звонок“. К несчастью всего человечества, прогноз его оправдался…»
Не так давно, в январе, мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах. Посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Роз. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы.
Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды?
Однажды на вопрос М. Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал:
– Прежде всего пойти к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, в Музей революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года и в Музей восковых фигур Гревен. В смысле художественного выполнения музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен… Ну, насчет музеев, выставок и всего прочего обратитесь к Жоржу, он все это здорово знает и даст вам все нужные указания.
«Жорж» – это Плеханов.
Ленин во всем искал только революцию. Остальное… Остальное – «обратитесь к Жоржу».
Мы снова – в который раз! – прошлись по аллеям Пер-Лашез, постояли возле Стены коммунаров. И снова мне представилось: дождливый декабрьский день, масса блестящих зонтиков и на краю траурного помоста, среди красных знамен и цветов, знакомая фигура Ленина, простершего над молчаливой толпой свою крепкую, короткую руку, как бы властным жестом – таким знакомым! – зовущую народы мира сквозь смерть, сквозь огонь революций и войн к миру, к счастью, к жизни. Потом мы побывали в музее Гревен, и я как бы воочию увидел Ленина перед восковыми фигурами Великой французской революции. Вот он, прищурив глаз, рассматривает растрепанную куклу – мадам Роллан, отпрянувшую с ужасом на лице в темный угол искусственной комнаты, в то время как в неестественно черном окне мелькали красные фригийские колпаки санкюлотов и протягивалась на конце полосатой пики мертвая голова казненного аристократа. А вот Марат в ванне, похожей на башмак, и Шарлотта Корде в чепчике, с кинжалом в восковой руке. Вот Ленин с недоброй усмешкой смотрит на музыкальный вечер в Мальмезоне, на фигурку великого ренегата французской революции, в белых лосинах, туго натянутых на крепкие ноги, в белом пикейном жилете и в синем фраке, который слушает музыку на фоне красивой летней ночи, видной в открытых дверях балкона. Вот Ленин стоит, рассматривая кровать под кисейным пологом от москитов, белую голову мертвого императора на подушке и большую треугольную шляпу на тумбочке. В музее Карнавале с такой поразительной ясностью я видел Ленина среди самодельных пик 1789 года, революционных воззваний, декретов, бумажных денег, ветхих треуголок Национальной гвардии с кокардами, похожими на маленькие мишени. Я представлял, как Ленин трогает круглым носком своего ботинка белый камень Бастилии – единственное, что уцелело от легендарного тюремного замка французских королей. Наконец, мы зашли в Консьержери, и я опять представил себе Ленина среди железных решеток, в сумрачных казематах, перед стеной, где на вечные времена приклепан нож гильотины, тот самый, настоящий, подлинный, срубивший так много виновных и невинных голов, чем-то отдаленно напоминающий лемех какого-то странного и страшного плуга.
Ленин постучал ногтем по старому железу, и оно ответило еле слышным, угрюмым звоном далекого колокола, а потом Ленин прошел по кирпичному полу узкой камеры, где сначала на коленях молилась перед казнью Мария-Антуанетта, а потом, мучаясь от страшной боли, лежал на грубой деревянной скамье сам Робеспьер, худенький самолюбивый молодой человек с раздробленной челюстью, ожидая своего смертного часа. Ленин молчаливо потрогал решетку, которую некогда изо всех сил тряс конопатый гигант Дантон, крича на всю тюрьму своим львиным голосом: «Граждане! Революция сошла с ума!»
В районе Одеона, на бульваре Сен-Жермен – через улицу – против памятника Дантону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть старинные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал своего «Друга народа», а в другом, на втором этаже, за маленькими, как бы клетчатыми окошками, жил изобретатель гильотины, доктор Гильотен. Этот уголок старого революционного Парижа некогда, в моей молодости, показал мне Шарль Раппопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина. Он был в восторге и потом часто повторял: „Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно!“» Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Раппопорт показал мне самый старый ресторан в мире – «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него и выпили по рюмке мандарен-кюрасо со льдом – угощал Шарль Раппопорт. На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамиан Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, д'Аламбер, Мольер, Дидро, Дантон, Марат, Робеспьер…
– Не хватает портрета Ленина, – сказал Шарль Раппопорт, – но я не сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе…
Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно, тонко дышала весной, запахом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц: маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все же еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над Луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли, над голой, черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углом, над еле заметным вдалеке голубым силуэтом Эйфелевой башни. Есть в парижской зиме что-то китайское. Во всяком случае, я видел в январе в Пекине, над мраморными мостиками и ажурными столбиками площади Тяньаньмэнь, рядом с крышей знаменитых ворот, точно такое же солнце – печальный кружок, как бы очень тщательно нарисованный желтой тушью… И тени еще обнаженных деревьев, и во всем тончайшее предчувствие весны. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов, перед выставленными картинами. Вы идете по улице Боэси, как по залам Музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком Гыстро. В Париже моды меняются, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор так же знаменит. Рисунок Пикассо – портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме, полуголубя-получеловека, выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина.
Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней!
Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается «столбик с куклою Чугунной», возле самой фигурки императора в дубовом венке и тоге цезаря, плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце – холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но, вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрин, в которых ослепительно блестели драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собой Вандомскую площадь в дни Парижской коммуны, поваленную колонну и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь – прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник, коммунар Курбо, председатель комиссии художников, созданной правительством Коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирану, если уж не смог расправиться с самим тираном: в течение двух месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъявили иск в сумме свыше трехсот тысяч франков, и ему – славе Франции! – осталось одно – бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов – умирать в изгнании?
Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного – остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил.
К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину, и день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства Российского, стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революция.
Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за Триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Нейи, за обнаженные деревья Булонского леса, за готические крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев Сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами венков, превратившихся в проволочные скелеты – ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение четырех лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освящала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Каждый букетик полузавядших цветов напоминал нам легенду о Габриеле Пери:





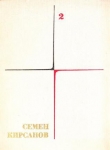
![Книга Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести автора Владимир Тендряков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sobranie-sochineniy.-tom-5.-pokushenie-na-mirazhi-roman.-povesti-120265.jpg)

