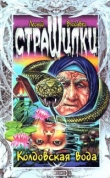Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Комиссарская дочь
До чего же лихо носится по укатанным улицам села комиссаров Воронок, запряженный в легкие санки! Косит игриво карим глазом, позвякивает тонкими удилами, расшвыркивает скрипучий от мороза белый снег бегущими копытами…
Военком спешит, но грустно ему: совсем молодые парни, не парни даже, а парнишки уходят на беспощадную войну – мальчишки семнадцати лет!
Комиссару грустно и тяжело. У него с полдюжины ранений, он и вовсе голову сложить готов, только бы не они, не юнцы эти! Но нет, не он, а эти безусые ребята пойдут в последний бой: это они плечом к плечу с ветеранами ринутся на последний приступ и, гордые, станут под алое знамя Победы! А она, Победа, совсем уже рядом…
Грустно военкому Штыкову. Хочется обнять каждого, кого готовит он к нелегкому ратному делу, но он не дает воли чувствам и сурово хмурит лицо.
Быстро мчит комиссара Воронок, летит искристый на солнце снег из–под острых копыт да заносит легко и красиво на поворотах тонкополозные санки. Любили интернатские мальчишки цепляться за них проволочными крюками, и никогда строгий ездок не охлестывал их плеткой…
Жена комиссара умерла рано. Была у него дочь, белобрысая и веснушчатая, звали ее Надей. Училась она в четвертом классе, жила, беря строгий пример с отца, и вдруг встретился ей смешной и удивительный ленинградский мальчишка Петька Иванов.
Петька, который недавно выписался из больницы и уже начал было розоветь от усиленного питания, вдруг потерял аппетит и стал бледнеть. Влюбился! Второй раз в жизни за свои двенадцать лет!
Впервые Петькино сердце дрогнуло из–за девчонки за год до войны. Это случилось в Крыму, в Мисхоре, в санатории «Коммунар», куда восьмилетнего Петю отправили врачи и родители «укреплять слабые легкие». Там и увидел он смуглую большеглазую девочку с гладкими черными волосами, ниспадающими на плечи, – Нину Погоньеву. Увидел, и в сердечке у него тихо зазвенели нежные колокольчики. Странная робость охватила его. Ему все время хотелось быть рядом с этой девочкой, но он боялся подойти к ней и только следил за каждым ее движением восторженными и восхищенными глазами.
Нине было десять лет, и она уже перешла в третий класс. Но какое значение это могло иметь для маленького влюбленного Петьки! Правда, он не осознавал себя ни большим, ни маленьким, а о том, что восемь и десять лет не одно и то же, – далее не задумывался. Ему просто нравилось красивое.
Перед самым отъездом загоревших и окрепших за южное лето детей домой Петька набрался смелости и во время обеда подкинул Нине записку, в которой искренне сообщал, что она, Нина, очень красивая, и что он любит ее.
На другой день мальчики и девочки вместе с сопровождающей были уже в поезде.
Нина ехала в соседнем купе. Петька часто слышал ее веселый голосок, заливистый звонкий смех, и ему казалось, что Нина так громко говорит и смеется специально для него.
Бедняга! Наивный влюбленный восьмилетний мальчик! Он и думать не мог, что смеется она не для него, а… над ним.
Заглянув к мальчишкам в купе, Нина заговорщически поманила Петьку указательным пальчиком и, когда он подошел, шепнула: «Пойдем в тамбур».
Там она с любопытством, долго и внимательно рассматривала мальчика, даже повернула сначала в одну, затем в другую сторону, так что он совсем смутился. Неожиданно спросила:
– Это ты записку написал?
Петьке ничего не оставалось, как смущенно кивнуть головой.
– Ты меня любишь? Да?
– Люблю. Ты очень красивая. И хорошая, – немного подумав, добавил Петька.
О, святая наивность и слепая доверчивость! У красивой девочки оказалось жестокое сердце. Она громко рассмеялась, потом лицо ее вдруг стало сердитым, даже злым, и она сказала:
– Если ты, первоклашка, еще раз заикнешься мне об этом, я расскажу всем–всем!
Она была прекрасна даже в своем возмущении, и Петька больше «не заикался». Маленькая искорка, вспыхнувшая в его совсем еще юном мужском сердце на берегу Черного моря, погасла…
Так закончилось первое Петькино объяснение в любви.
С тех пор прошло много времени – целых три с половиной года, даже чуть побольше, и вот снова пробудилось в нем светлое, волнующее и радостное чувство, вспыхнула и загорелась новая искорка.
Дочь райвоенкома Надя Шлыкова была такой же, как многие другие дети людей военных, – храбрым и бойким сорванцом в юбке. Таких испокон веку называли сорвиголовами.
Однажды, когда отец, взявший с собой дочь в поездку по району, возвращался в Бердюжье, с ним стало плохо – закружилась голова, потемнело в глазах, упали ночные звезды под копыта коня: военком потерял сознание – сказались старые раны и контузия…
Ночь была, словно все небо измазали сажей, и рухнуло оно, черное, на белую землю.
Надя натянула вожжи, крикнула: «Тпрру, Воронок!» – и, соскочив с саней, набрала полную пригоршню снега, приложила к осунувшемуся лицу отца.
Снег начал таять и потек комиссару за ворот. Надя, склонясь над отцом, тормошила его.
Девочка плакала. Кругом была злая и коварная степь и не было луны. И луна, и звезды попрятались за тучи, и совсем рядом тошно завыли волки.
Воронок храпанул, приседая, дернул было с места, но Надя прикрикнула на него: «Стой, миленький!..» И он остановился. Только продолжал похрапывать и нервно прядать ушами.
Надя вскочила в санки, вынула из отцовской кобуры холодный пистолет, сдвинула предохранитель и пальнула в страшную волчью черноту. Воронок испуганно заржал и понес, полетел, как на крыльях, к невидимому в ночи жилью, «У–уо–уа-ууу…» – завывало где–то сзади и постепенно затихало, застывало в стылой дали.
Дома Надя помогла уложить отца в постель и, когда старуха–хозяйка влила ему в рот какое–то горячее и пахучее снадобье и он перестал стонать, уснула, не раздеваясь, тут же, на полу, возле отца – военного комиссара Шлыкова. И только во сне ей стало по–настоящему страшно, она даже всхлипнула и глубже зарылась под отцовский тулуп, который набросила на себя перед сном.
Вот какая девчонка завладела теперь Петькиным сердцем!
Подружились они быстро. Петька учился в четвертом «Б», а Надя в четвертом «А», и классы их находились рядом. Он как–то вдруг, словно изнутри у него сработал невидимый переключатель, обратил внимание на шуструю светловолосую девчонку в красной кофточке и черной юбчонке, узнал, что зовут ее Надей, но подойти и познакомиться (мол, здрасьте, я – Петя) не мог: стеснялся, хоть и был не из робкого десятка.
Несколько дней на школьных переменках он крутился возле нее, стараясь быть на виду, громко смеялся, затевал веселую возню с мальчишками, а придя из школы, становился грустным и молчаливым. Белобрысая веснушчатая девчонка не выходила у него из головы.
С недавних пор ребят в интернате перестали стричь наголо, и Петька, чтобы понравиться Наде, решил зачесывать волосы наверх, но они упрямо падали на лоб коротенькой челкой. Тогда он смочил их перед уходом в школу, немного намылил и поплотней нахлобучил на голову шапку – пусть уложатся.
В школе он первым делом глянул в крохотное зеркальце, с которым последнее время не расставался: прическа вроде бы держалась.
На переменке он сразу же отыскал глазами Красную кофточку в толпе девчонок и, чувствуя себя чуть ли не сказочным принцем, направился в ту сторону. Пусть видят все, какой он уже взрослый и красивый!
И вот, когда Красная кофточка была совсем рядом и смотрела прямо на него, случилось то, чего он никак не ожидал. Ее лицо удивленно вытянулось, глаза сначала широко раскрылись, потом сузились, и она расхохоталась, всплеснув руками:
– Ха–ха–ха! Ну и чучело же!.. Ой, держите меня!
Вслед за ней и ее подружки разразились смехом и хохотом, даже подвизгивали, словно их кто щекотал и пощипывал.
Петька еще не понял, чем их так развеселил, и слово «чучело» обидело его.
Однако выдержки Иванову было не занимать. Он пренебрежительно глянул на смеющихся девчонок, с достоинством повернулся и зашагал в класс.
– Эй, посмотри–ка на себя! – крикнул ему Костя Луковников и тоже зашелся смехом.
Петька поспешно достал из кармана зеркальце, глянул в него и обомлел: высохшие, слипшиеся от мыла волосы торчали в разные стороны, как пучки грязной соломы. Очевидно, когда он шел по коридору, лавируя меж бегающими вокруг мальчишками и девчонками, кто–то задел его непрочную «прическу», и короткие волосы, не приученные к зачесу вверх, «взбунтовались»…
Петька с уроков сбежал. С ним вместе, за компанию, ушел и Лука.
Не торопясь брели они в интернат: ведь заявиться пред ясные очи воспитательниц раньше времени было нельзя – наказание последует немедленно.
– Время есть, зайдем на молоканку, что ли? – предложил Костя Луковников. – Попьем сыворотки. Или обрату. У меня гривенник есть.
Ребята любили чуть кисловатую прозрачную сыворотку, остававшуюся после изготовления творога. На молоканке – маленьком сельском молочном заводике – ее было много. Женщины, работавшие там, продавали сыворотку по три копейки за ведро, а обрат – пропущенное через сепаратор молоко по пятаку за стакан. Обрат, хоть свежий, хоть кислый, казался ребятам чуть ли не лакомством.
Но сегодня Петьке было ни до чего. «Чучело… чучело…» – назойливо звучал в ушах насмешливый девчоночий голос.
– Чего переживаешь? – удивлялся Лука. – Подумаешь, волосья врастопырк пошли!
– Так смеялись же все! Особенно эта… Шлыкова.
– Плюнь, – сказал Костя, – девчонки ведь. Им бы только похихикать.
– Она хорошая, – вздохнул Иванов. – Я с ней дружить хочу.
– «Хочу, хочу…» – передразнил его Лука. – А кто в Ленинград бежать собирался и меня подговаривал? Забыл? Или сдрейфил уже? А девчонки в зтом деле – самый вред!
– Не в девчонках дело! – вознегодовал Петька. – Сам ты сдрейфил! Одно другому не мешает. Мы с ней письма друг другу писали бы, а потом, после войны, встретились… '
Лука даже присвистнул от изумления и посмотрел на товарища, как на сумасшедшего: нашел о чем мечтать – переписываться с девчонкой!
– Чепуха, – изрек он. – С девчонками пусть дружат девчонки. У них только и дел, что пищать да кривляться. И совсем незачем тебе из–за нее переживать. Ты – мужчина и должен доказать ей это.
– И докажу, – твердо сказал Петька. – Вот доберусь до Ленинграда и прямо на фронт. Совру, что я круглый сирота…
– На фронте врать нельзя.
– Не перебивай! Это будет не вранье, а военная хитрость. Скажу, что сирота, что должен отомстить проклятым фашистам, и примут меня в пулеметчики. И вот начинается большой бой. Фашисты лезут на нас, как саранча, а я их из пулемета: тра–та–та, тра–та–та–та…. Они удирают и пускают на нас танки. Мы бьем по ним из пушек и пэтээр. Почти все танки уже горят, но некоторые еще движутся и один – прямо на меня. А снаряды и патроны уже кончились. И нет больше зажигательных бутылок, а гранат осталось совсем мало! Тогда я хватаю последнюю связку, ползу, вскакиваю и бросаюсь прямо под мчащуюся на меня громадину… Взрыв, огонь, танк – вдребезги. Остальные в испуге поворачивают и улепетывают назад. Атака отбита… Меня посмертно награждают Золотой Звездой Героя Советского Союза, и мой портрет помещают во всех газетах, даже в «Правде». А комиссар Штыков принесет газету домой и скажет, показывая на портрет: «Смотри, Надя, какой герой погиб!..» Она посмотрит и узнает, и тогда ей станет стыдно, что она обозвала меня чучелом…
– У-ух! – выдохнул Костя, – какую картинку ты нарисовал! Аж плакать хочется, хоть я и не девчонка. А уж Комиссарова дочь, как узнает, что ты погиб так красиво, разревется непременно… Значит, бежим?
– Бежим, – решительно сказал Петька. – Вот снег сойдет и рванем. А пока сухари готовить надо. Хоть по куску хлеба через день да сушить.
Лука
– Витька, Витька! – кричал Цыбин разоспавшемуся Шилову в самое ухо. – Да проснись же!
– Ну чего тебе? – Шилов перевернулся на спину. Потом сел в постели. – Ну чего орешь? Спят ведь все! – проворчал он.
– А ты посмотри, Витька! Где – все?
Шилов глянул по сторонам и увидел пустые топчаны.
А со двора доносились неистово радостные крики. Даже «ура» слышалось.
– Это что? – встрепенулся Витька. – Какой город взяли?..
– Да не город! – заорал Сашка Цыбин. – Не город! А совсем погнали фашистов! Начисто блокада снята! У меня же тетка в Детском Селе жила… Та–ам такой па–арк! По нему сам Пушкин ходил!..
– Ты обормот! – яростно взвизгнул Витька. – Пушкин… тетка! И чего раньше не разбудил! Ура-а!.. – заорал он и в одних подштанниках бросился было к беснующимся во дворе от радости огольцам. Но вдруг остановился, потом кинулся к табуретке, подставил ее к стене у карты и воткнул красный флажок в Берлин.
– Вот так! – и улыбнулся.
– Рано еще, – сказал Цыбин. – Заругается дежурный. Бежим лучше ко всем, и так задержался я, пока тебя добудился.
– Не рано. Так будет! – крикнул Витька и ринулся во двор. – Так скоро и будет!
Луке, то есть Косте Луковникову, как и Петьке, было немногим более двенадцати лет, но он уже умел рассуждать здраво и видеть вещи такими, какие они есть. У него начисто отсутствовала способность фантазировать, и, может быть, поэтому он немного завидовал своему товарищу, хотя и считал его чудаком. Он отлично понимал, что ни на какой фронт Иванов не попадет, никто его в Красную Армию не возьмет – мал еще, но бежать с ним из интерната согласился: авось и доберутся до Ленинграда, по которому все они изрядно стосковались. А не доберутся – большой беды не будет, попадут в другой интернат, только–то и всего. К тому же из любого интерната удрать можно…
После долгих жарких споров было решено бежать в конце весны – в самом начале лета, когда земля наберется тепла и надолго установится хорошая погода. Тогда и ночевать в пути можно будет где угодно: хоть в лесу, хоть в поле.
А пока Лука ломал голову над тем, где бы достать хлеба на сухари. Откладывать по ломтику от обеденной порции, как это делал Петька, ему совсем не хотелось – кормили и так не особенно сытно. А без харча в дороге пропадешь.
О готовящемся побеге и связанных с этим трудностях Лука по секрету рассказал сыну местной учительницы Тольке Бессонову, с которым дружил. Сделал он это умышленно, ибо не раз слышал, как Толька говорил, что мечтает увидеть Неву, «Аврору», «Медный всадник» и дворец, «в котором цари жили».
Лука не ошибся: Бессонов попросился в компанию и обещал достать конопляного жмыха и шматок сала. Кроме того, в Ишиме у Бессонова жили родственники, которые тоже могли что–нибудь подкинуть на дорогу и помочь сесть в поезд. О том же, что в Ленинград въезд разрешался пока что только по специальному вызову, ребята просто не знали.
О своих переговорах с Бессоновым Костя Петьке не говорил: мало ли как обернется дело! У него был свой расчет: третий часто бывает лишним, и, если что случится, надо еще подумать, кого считать лишним…
Беспокоило Луку и то, что Петька все же подружился с Надей – дочкой военкома, часто с ней встречался, ходил довольный и радостный. Теперь он мог порушить все свои прежние планы.
А случилось у Петьки с Надей все так.
Несколько дней после того, как произошла неприятная для Петьки история с прической, он старался не попадаться на глаза Красной кофточке. Но однажды, когда военрук проводил с четвероклассниками во дворе школы занятия по штыковому бою, Петька почувствовал, что на него кто–то глядит. И тут же получил рыхлым снежком по затылку.
Он обернулся и замер. Шагах в десяти сзади стояла она, Надя, и смеялась.
Выйдя на школьное крыльцо, старушка уборщица трезвонила в медный колокольчик. Перемена! Большая перемена, двадцать минут!
Петька хотел было уйти куда–нибудь в сторону, но почему–то, сердитый и хмурый, пошел прямо на свою обидчицу – Красную кофточку.
– Ты разозлился ужасно, не отрицай, – сказала она. – Обижаться не надо. Если бы ты видел себя, ты сам бы… – И она снова залилась смехом.
Но на этот раз он нисколечко не обиделся. Только сказал:
– Подумаешь, волосы растопорщились!
– А ты ловко чучела колешь, – польстила она и тут же добавила: – Только вот с гранатой, говорят, у тебя плохо. Слышала я, как ты вчера про «рубашку» в ближнем бою забыл…
– Ну, это я так, – пробормотал Петька. – Не о том думал, когда военрук мне вопрос задал. О чем же ты думал?. О новой прическе? – съехидничала Надя.
– Ни о чем, – засмущался он. И вдруг бухнул смело: – О тебе.
– Обо мне? – Надины глаза широко раскрылись, и веснушки еще ярче засверкали на ее курносом лице. – Ну тогда беги, а то я снова расхохочусь!
Петька принял это за искреннюю шутку и побежал, но, оглянувшись, неожиданно обо что–то споткнулся, упал и сунулся лицом в зернистый, как наждак, подтаявший снег.
– Ха–ха–ха! – знакомо звенело на весь школьный двор. – Смотри под белы ножки, витязь!
А «ножки» у него были действительно белые – в мягких, снежного цвета пимах, разве что чуть замаранных крапинками поросячьей крови, оттого что он помогал вчера завхозу дяде Коле резать борова–перестарка.
Петька зло поднимался с земли, потирая ушибленную коленку. «Ну и вредина, – подумал он о Наде, – вот врежу ей сейчас…» Но в тот же момент услышал:
– Больно тебе, Петя? Надо же так неуклюже грохнуться!
Она стала варежкой отряхивать с него снег.
И Петька засиял, заулыбался. – Ну что ты, Надя, – сказал он. – Я совсем понарошку упал, и мне совсем не больно!
Так началась их дружба, которая потом длилась много месяцев.
Они встречались теперь почти ежедневно. Петька жертвовал даже ужинами, его ругали и наказывали за то, что он пропадает неизвестно где, но не встречаться с Надей он уже не мог, а «где пропадает» – а то была его тайна. Разве что Лука знал. Потому и беспокоился —; не подведет ли Петька Иванов? Надежным ли будет в задуманном?..
* * *
…Шел май тысяча девятьсот сорок четвертого. Было совсем уже тепло и сухо.
Однажды Лука ухватил Петьку за рукав и зашептал:
– Не забыл? Не раздумал? Помнишь, я хлеб обещал на дорогу достать? Так вот, полный порядок теперь получается!
– Хлеб давай, если есть. А я не раздумал, – уверенно ответил Петька. – У меня уже кусков сорок засушенных в матрасе лежит. А твое где?
– Слушай и молчи, – зашептал Костя. – Завтра… Договорились так: во время обеда Лука спрячется в столовой под лавку в самом углу, прикрытом от посторонних взглядов столами, и, когда все уйдут, далее повариха из кухни, он вынет стекло из оконной рамы и передаст Петьке, который будет «прогуливаться» во дворе, пару буханок хлеба. Потом опять залезет под лавку и пролежит там до ужина. Тогда снова вставит стекло, выберется из своего укрытия и, как ни в чем не бывало, окажется за столом среди ребят. Все будет шито–крыто…
Наверное, так бы оно все и было, если бы не подвел Витька Шилов, которого попросили постоять «на атасе» (Витьке пообещали четверть буханки). Точнее говоря, подвел не столько Витька, сколько его недавно удаленный передний зуб.
Минут через сорок после обеда, когда столовая опустела и тетя Ася закрыла ее на большой амбарный замок, Петька поставил Шилова на тропке, ведущей с улицы в интернатский двор, а сам с беспечным видом стал прохаживаться по двору под окнами столовой. Вскоре в одном из окон он заметил физиономию Луки, прижавшегося носом к стеклу.
Петька успокаивающе кивнул: мол, в порядке, действуй!
Отогнуть несколько острых треугольных кусочков жести, вбитых вместо гвоздиков для крепления стекол в раме, было для Кости парой пустяков.
Стекло вынуто, и он шмыгнул на кухню к большому шкафу, где, аккуратно сложенные друг на друга, лежали аппетитные буханки хлеба.
Петька заглянул за угол. Там, метрах в двадцати, засунув руки в брюки и лихо сдвинув на затылок серо–рыжую выгоревшую кепчонку, стоял на своем посту Витька Шилов. Вроде бы все спокойно.
В глубоком синем небе, распластав могучие крылья, медленно и плавно кружил громадный коршун. Круги полета его становились все уже и ниже… «Неужели наш Васька? Вспомнил–таки!» – подумал Шила и осекся: на тропке появилась воспитательница Галина Михайловна Топоркова.
Витька хотел было свистнуть, как договорились, но тут–то и подвел его удаленный зуб: вместо свиста получилось противное шипенье…
А в это время Петька пошел глянуть за другой угол, со двора, не угрожает ли оттуда опасность?
Витька Шилов, поняв, что прозевал воспиталку, позорно удрал, а Топоркова, поравнявшись с окном столовой, за которым в полной безопасности, как ему казалось, орудовал ничегошеньки не подозревавший Лука, получила прямо из его рук буханку хлеба…
Тут и Петька вынырнул из–за угла.
Было обидно: так хорошо задумали, а получилось…
В наказание у Луки и Петьки отобрали штаны и верхние рубашки – лежите, мол, на своих топчанах, как больные. В уборную и в исподнем сбегаете, а еду вам, как барам, в постель доставят. Будет стыдно – дурь из головы скорей выскочит.
Так они пролежали целый день. А на следующий…
В ночь на следующий Петьке приснился плохой сон: сияет солнце, а он давит босыми пятками ледяной снег, и дико мерзнут Петькины ступни, и хочет он найти свои почти новые ботинки, чтобы надеть их и согреть закоченевшие ноги, а не может…
Проснулся он оттого, что очень уж захотелось на двор. Сунул руку под топчан – ботинок нет. Тогда он, пока еще смутно, кое о чем стал догадываться. Полез под набитый сеном матрас, где в старой наволочке хранил сухари, а сухарей нет! Глянул туда, где должен был спать Лука, – и Луки нет.
Диким зверем взвыл Петька Иванов и понял впервые в жизни, что такое жестокость…
* * *
Лука удрал с тем самым сыном местной учительницы – Толькой Бессоновым. Очевидно, у него он получил недостающую одежду – рубашку и штаны. А пальтишко прихватил у «свистуна» – Витьки Шилова.