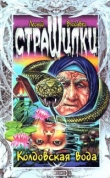Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– К теплому дождю зарницы–то, – сказал Рудька, отправляя очередную брыкающуюся жертву за пазуху.
– Дожди, должно быть, прекратятся, стороной пройдут, – высказал свое мнение Мишка Бахвалов. – Такая тут примета есть. А теплые – так лето же!
– Пора возвращаться. Темнеет! – крикнул Петька. – Давай «головастиков» в кучу! Уже с полсотни, наверное, набрали! – Он снял с себя рубаху и приготовился считать пойманных лягушек.
Ночная мгла падала быстро, но ребятам идти было нетрудно, никто не оступался в канаву, не спотыкался о луговые бугорки – в небе одна за другой вспыхивали зарницы.
Горе–пастух
Лягушек коршун слопал за милую душу. Правда; только маленьких. Больших он почему–то есть не стал. Вскоре ребята наловчились ловить полевых мышей – полевок, заливая их норки водой, и проблема Васькиного питания была решена окончательно.
Крыло у коршуна срослось быстро, но летать он еще, очевидно, не мог, иначе улетел бы.
В ясную погоду Васька долгими часами просиживал на крыше сарая, иногда расправлял крылья, будто пробовал их прочность, потом снова складывал и грустно поглядывал в небо.
Постепенно птица привыкла к ребятам, при их приближении не пряталась, а Рудьке – Лунатику даже позволяла прикасаться к себе, хотя и настораживалась при этом: смотри, мол, я начеку!
Раздражали коршуна слоняющиеся по двору поросята. Их было одиннадцать, и они все время хрюкали. А когда им вовремя не успевали приготовить пойло, хрюканье переходило в визг. В такие минуты чуть выпуклые глаза коршуна гневно сверкали, он резко подергивал полурасправленными крыльями и негодующе щелкал хищным клювом.
Но поросятам был абсолютно безразличен Васькин гнев до тех пор, пока однажды он не спланировал на них с сарая и не задал им хорошую трепку. С диким визгом бросились они врассыпную, но одному из них, самому тощему и болезненному, коршун успел разорвать клювом ухо и в кровь исполосовать когтями спину.
Так, впервые после того как разбился, коршун Васька опробовал свои упругие крылья.
– Теперь улетит! – сказал Пим, и всем стало грустно: никому не хотелось расставаться с красивой и сильной птицей.
Но Васька прожил у ребят еще несколько дней – могучее крыло хоть и срослось, но, очевидно, побаливало.
Потом он исчез. Когда – никто не видел. Просто не нашли его однажды ни на крыше, ни на чердаке.
– Это он из–за поросят улетел, – высказал предположение Толя Дысин.
– При чем тут поросята? – возразил Бахвал.
– А при том, что раздражали его – визжат, хрюкают… Глядел, глядел он на них, а слопать не мог. Вот и улетел…
– Гениально! – воскликнул Шестаков и дал Тольке шутливого щелчка. – Ему только свежей свининки и не хватало!
– Его стихия – небо. Хорошо в небе! – мечтательно вздохнул Петька.
Со временем о коршуне Ваське стали забывать, вспоминали о нем, разве что завидев поросенка с разорванным ухом.
Поросенок был невзрачен – медлительный, хилый, ходил он пошатываясь, голову с изуродованным ухом держал криво, будто постоянно к чему–то удивленно прислушивался. Жалели его все.
– Разве ж это жизнь, хоть и поросячья! – сказал как–то завхоз дядя Коля, почесывая поросенку бок. – Кабы сдох ты, пожалуй, было бы для тебя лучше…
После этого все стали называть поросенка–заморыша с рваным ухом не иначе как Кабыздох. И никто не думал, даже малой надежды в уме не держал, что Кабыздох может вырасти в здоровенного крепкого борова. Было вообще удивительно, что дни проходили, а ой еще жил. Чудом показалось вскоре всем то, что случилось.
Однажды утром повариха тетя Ася взяла ведра с кухонными помоями, смешанными с запаренными картофельными очистками, и понесла их поросячьему семейству. Через несколько минут двор огласился ее воплями:
– Ой–ой–ой!.. Надежда Павловна! Надежда Павловна! – И толстая тетя Ася, всплескивая руками, грузной рысцой затрусила в директорскую комнату.
Вскоре она появилась в сопровождении директрисы, и обе почти бегом направились в дальний конец двора. Мальчишки и девчонки, – оказавшиеся поблизости, поспешили за ними.
Надежда Павловна была встревожена: – Как же так! Ни с того, ни с сего… Может, вам показалось? – говорила она на ходу тете Асе.
– Смотрите сами! – воскликнула запыхавшаяся повариха, останавливаясь возле поросячьей кормушки – выдолбленного бревна.
Четверо поросят лежали на боку неподалеку от кормушки и жалобно, тихо повизгивали, а один уже был мертв. Остальные то падали, то вновь пытались подняться.
Только Кабыздох, как ни в чем не бывало, тыкался рылом в кормушку, громко чавкал и утробно похрюкивал…
К вечеру десять поросят из одиннадцати подохли. Дядя Коля и Рудька запрягли в телегу быка и отвезли поросячьи трупы на ветеринарный пункт. Там выяснилось, что поросята погибли от чумы.
А Кабыздох продолжал жить и здравствовать. Теперь он стал всеобщим любимцем. Как говорится, не было счастья, да горе помогло.
Кормили последнего и единственного поросенка до отвала. Он быстро рос, обрастал мясом и салом и к осени стал упитанным, гладким хряком: все отходы интернатской кухни теперь доставались ему одному. А чтобы он нагуливал не только сало, но и мясо, ему дважды в день устраивали продолжительный «моцион» – пасли на зеленой травке.
Чаще всего Кабыздоха выгуливали Петька Иванов и Костя Луковников. Но потом их стали подменять Валька Пим и хромой Гришка Миллер, у которого одна нога была тоньше и чуть короче другой.
Вот и сегодня, прихрамывая, Миллер погнал хворостиной Кабыздоха в луга за элеватор. Пим семенил рядом.
Когда пришли на место, ребята с удовольствием растянулись на траве, разрешив. Кабыздоху пастись и бродить, где ему захочется.
Сначала Кабыздох вел себя спокойно: неторопливо ходил по зеленому лугу и пощипывал траву, иногда ложился на бок и, греясь на солнышке, довольно похрюкивал.
Но потом ему, очевидно, наскучило такое однообразие, и он направился к расположенному метрах в пятидесяти от него сельскому кладбищу, окруженному неглубокой сухой канавой.
Гришка и Валька в это время подремывали. Случайно повернув голову в сторону кладбища, Пим ойкнул и вскочил на ноги.
Миллер удивленно глянул на Вальку, потом перевел взгляд туда, куда смотрел Пим. Кабыздох был уже на кладбище. Без особого труда преодолев канаву, он теперь стоял возле крайней могилы и с наслаждением терся о чей–то крест. Крест был старый, деревянный и, очевидно, в земле сидел некрепко: под нажимом свинячьего бока он заметно пошатывался.
Высокий, костлявый старик, подравнивавший неподалеку могилку, увидев такое, схватил лопату и с криком: «А-а, хрястця те в бок!» – пошел на Кабыздоха.
Пулей помчался Валька Пим на выручку рваноухому интернатскому любимцу.
– Дедушка, не бейте! Вы же убьете его, дедушка! – вопил Валька, подбегая к Кабыздоху и заслоняя его собой. – Он же не нарочно!
– И то верно, – сказал старик, опуская острый заступ. – Что с порося спрашивать? Свинья – она и есть свинья! А вы куда очи попрятали? – рассердился он снова. – Два пастуха на одну животину – и не углядели! Приходите сюда завтра, я кой–что вам посоветую, а кое в чем и помогу… Нельзя же так пасти скотину!
– Так мы же прибежали прогнать его! – сказал подковылявший Миллер и, пнув Кабыздоха ногой, стеганул его прутом.
Недовольно хрюкнув, Кабыздох резво отскочил в сторону и затрусил в другой конец кладбища.
– Ты куда, несчастный огрызок! – заорал Пим и, выхватив у Миллера хворостину, помчался за свиненком.
– Вот–вот, побегайте, – усмехнулся старик.
Наверное, полчаса, не меньше, потребовалось ребятам, чтобы выгнать Кабыздоха с кладбища, а чтобы он снова туда не удрал, они погнали его на Бут – там и трава, и вода, и грязь, в которой так любят валяться свиньи.
Пастись на травке Кабыздох больше не хотел. Первым делом он похлебал воды, потом улегся в теплую грязь. Весь вид его говорил о величайшем свинячьем наслаждении
Когда пришло время возвращаться, ребята заставили Кабыздоха отойти на чистую отмель и хорошенько его вымыли, а чтобы он стоял спокойно, Валька одной рукой все время почесывал щетинистый поросячий бок.
Кабыздоху было приятно, и он смешно завертел хвостиком.
– Ишь ты, какой симпатяга! – сказал Валька и дернул за этот крутящийся хвостик.
Если бы только Пим знал, чем это все обернется, он бы и не прикоснулся к борову…
Кабыздох взвизгнул, брыкнулся и бросился наутек. Совсем рядом были огороды, обнесенные высоким плетнем, но в одном месте там зияла узкая дыра. В нее–то и вломился, как тяжелый снаряд, рассерженный Кабыздох.
Не успели ребята добежать до огородов, как из–за плетня послышались крики:
– Куды прешь? Вот я тебя!..
Через просветы в плетне Гришка и Валька Пим разглядели изможденную женщину, которая гонялась по огороду за Кабыздохом. Еще они увидели несколько раздавленных тыкв и развороченную огуречную грядку. Гряды с морковью и брюквой были потоптаны не сильно.
– Тетенька! Гоните его назад, через дырку! Мы тут его перехватим!
– Так вот откуда пришла моя беда! – воскликнула женщина, загоняя Кабыздоха с огорода в свой двор. Потом, что–то сообразив, она подошла к плетню и, посмотрев через него на ребят, спросила: – А вам чего надо–ть? Ваш хрячок или как?
– Наш, тетенька! Интернатский он, – как можно жалостливее пискнул Валька Пим. Он вдруг почувствовал, что надвигается беда.
– Отдай, тетка, поросенка! Хуже будет! – на всякий случай пригрозил Гришка и тут же умолк: Пим больно двинул ему кулаком под ребра.
Но тетка словно и не расслышала Тришкиной угрозы. Перед ней за забором стояли два мальчишки.

– Ах, ентернатский… – проговорила она нараспев. – Вот что милаи: идить–ка в свой ентернат, а порося я сама пригоню, а то, вижу, не совладать вам с ним.
– Тетечка, – чуть ли не плача взмолился Пим, – ну, пожалуйста, отдайте поросенка. Что вам раздавленный огурец или тыква? Вон их сколько у вас!..
– Ты, паренек, мое добро не считай. Не твоя это забота. И не поросенок у вас, а свинья, почти взрослая. Идить себе. И не беспокойтесь. Я на вас и на животину вашу не сердитая. Идите. Поберегу я вашего порося, успокоится он малость, и доставлю я его вам в полной сохранности.
Не поверили добрым словам горе–пастухи, постояли, подумали, почесали затылки и медленно побрели к дому. Делать–то больше было нечего.
– Д-да, – промычал Миллер.
– Как–нибудь?.. – вздохнул Пим, – Если обманет, мы ей покажем, что такое тыква–брюква–коледа–аля-па. Она еще попомнит и огурчики, и Кабыздоха…
–: А что мы скажем Надежде Павловне?
– То и скажем, что было. Врать нам незачем, – вздохнул Пим. – Кроме того, не так уж мы и виноваты: если б там плетень был в порядке, Кабыздох никуда не заскочил бы…
Но как ни бодрились они, на душе у них было скверно: крути не крути, а оправдаться перед Надеждой Павловной вряд ли удастся. Еще бы. Вдвоем не смогли углядеть за одним хряком.
Понуро плелись они по тропинке, все дальше удаляясь от злополучного огорода, и вдруг замерли: сзади раздалось знакомое громкое похрюкивание с жалобным повизгиванием.
Валька и Гришка обернулись, как по команде, и ошалели: их нагонял Кабыздох! Рваноухий Кабыздох! Невероятно, но – факт.
Догнав ребят, он удовлетворенно хрюкнул, будто хмыкнул, и неторопливо пошел впереди и чуть сбоку.
– Кабыздошка ты мой дорогой! Удрал–таки? – кинулся к нему Пим, но Кабыздох не дался ему и отбежал в сторону.
– А может, она сама отпустила его, – сказал Гришка. – Сначала погорячилась, а потом отпустила? Она ведь сказала даже…
– Ха! Такая отпустит! – удивился Пим Тришкиной наивности. – Небось хотела поросенка себе оставить.
Но Валька Пим оказался не прав. К вечеру на интернатский двор заглянула та самая женщина и, увидев Кабыздоха, спокойно поедавшего свое пойло, облегченно вздохнула: «Слава те, господи!». И ушла.
Подножный корм
Второе военное лето шло к концу, а с едой в интернате по–прежнему было туго. Мальчишки и девчонки все время хотели есть, даже когда выходили из столовой.
Не хватало жиров. Масло доставалось только дошколятам, и то в мизерных долях и не каждый день.
Почти не было мяса. Хлеба давали по одному куcку толщиной в палец утром и вечером – к чаю; обедали, как правило, без хлеба. Немного гороха и картошки составляли, как и раньше, основной харч.
Но пришло время, когда и старая картошка кончилась, а новая еще не выросла.
Надежде Павловне ничего не оставалось делать, как разрешить подкапывать картофельные кусты. Вместе с воспитателями ребята выходили в поле и осторожно, чтобы не повредить всего куста, нащупывали и извлекали из земли маленькие, с воробьиное яичко, молодые картошинки.
Когда рядом не оказывалось воспитательницы, дети быстро обтирали картошинку о штанину или платьице и совали сырую: в рот. Молодая картошка была сочной и необыкновенно вкусной, даже сладкой.
Братья Шестакины продолжали ездить на ночь на рыбалку и снабжать интернатскую кухню гольяном. Правда, рыба не всегда шла в сети, но все же время от времени в интернате стали варить уху.
Иногда дядя Коля уходил с группой ребят в лес по грибы. Но грибов было мало, забираться в лес приходилось далеко, да к тому же ребята часто не могли отличить хороший гриб от поганки, и потому затею эту вскоре пришлось бросить.
Но все это касалось коллективной «добычи» пищи, для всех, а так – каждый добывал ее как мог.
Когда в интернате не было особо срочной работы, ребята отпрашивались у воспитательницы и небольшими группами, по два–три человека, разбредались кто куда – в лес, в поля, на озера. Им это разрешали, потому что знали: они плохого не сделают. И было голодно. Иногда ребята заглядывали на колхозную усадьбу, где им давали жмыхи.
В общем, мальчишки имели возможность чем–нибудь подкормиться на стороне.
А девчонки, этот робкий и боязливый народец, вынуждены были довольствоваться тем, что давала им тетя Ася в интернатской столовой. Когда, случалось, ребята угощали их вполне свежими воробьиными яйцами, девчонки брезгливо отворачивались. А когда им давали сладковатые корни диких растений – боялись отравиться.
* * *
Интернатский двор с двух сторон был отгорожен плетнем от огородов местных жителей. С третьей стороны огородов не было, но забор тоже был – не плетеный, а дощатый. Четвертая сторона, частично занятая домом, никаких заборов не имела – это был собственно вход в интернатский двор.
Однажды утром над дощатым забором появилась кудлатая голова темноволосого мальчишки. Лицо у него было будто закопченное. Он подмигнул ребятам, коловшим и складывавшим в поленницу дрова, и весело улыбнулся, сверкнув белыми, как молоко, зубами.
– Ты что? – спросил удивленный его появлением Петька Иванов.
– Ничего.
– Ты чокнутый?
– Гы!.. Это как?
– Не понимаешь?
Паренек отрицательно замотал кудлатой головой. Петьке стало интересно. Он перестал укладывать дрова и шагнул к забору.
– Не подходь! Утеку. – На лице чумазого мальчишки отразился испуг.
Все, кто был во дворе, уставились на незнакомца, как на чудо–юдо.
– Ты сумасшедший? – снова спросил Петька.
– Гы–гы–ы-ы! – развеселился уже по–настоящему парень.
– Чего ты там рыгочешь? – крикнул Юрка Шестак. – Иди сюда, познакомимся!
– Боюсь.
– Чего боишься–то?
– Побьёте.
Ребята рассмеялись. Парень казался им немного придурковатым, но излучал такое добродушие, что с ним действительно хотелось познакомиться.
– Ты кто?
– Цыган.
– Настоящий цыган? – удивился Петька.
– Не… Так меня дразнят. А зовут Матвей, Мотька.
– Откуда ж ты взялся, Матвей? – продолжал допытываться Петька. – Мы тебя раньше не видали.
– Гы! А я вас давно вижу. Наблюдаю.
Ребята переглянулись. Этот Мотька оказывался забавным пареньком и нравился им все больше и больше.
– Много вас, – сказал Мотька. – А раз много – значит, интересно.
– Тогда лезь к нам, не торчи за забором.
– А не побьёте?
Мотька пытливо оглядел всех, потом подтянулся на руках, перекинул босые грязные ноги через забор и спрыгнул к ребятам во двор. Одет Матвей был в сильно выгоревшую серую рубаху и латаные–перелатаные портки того же цвета.
– Так чего же ты от нас хочешь, Цыган? – спросил Шестак, когда все расселись на поленьях.
– От вас – ничего. Я вам собаку подарю.
– Со–о–ба–ку? – от такого признания все раскрыли рты.
– Ага. Хороший щенок. Я даром подарю, сейчас. А то без собаки неуютно у вас.
Матвей вскочил на поленницу, с нее – на забор и исчез. Было ясно, что чем–то ребята пареньку приглянулись, и он хочет завоевать их расположение. Только каков он, их новый знакомый? Не напакостит ли чем? Впрочем, нет. Похоже было, что он побаивается интернатских, хоть и симпатизирует им. Значит, плохого от него ждать не приходилось, по крайней мере в ближайшее время.
– Ну как, будем брать щенка? – спросил Шестак.
– Еще бы! – раздались дружные голоса.
– Собака – друг. Это не коршун, не улетит, – изрек Рудька.
Сначала посмотреть надо, что за собака, – прогнусавил одноногий Колька Тарасов. Он сидел в сторонке от всех на большом чурбаке
– Ты, Бульдог, помолчи. Теперь и без тебя будет кому лаять? – крикнул ему Рудька. Он боялся, что в последний момент ребята могут отказаться от столь неожиданного и щедрого подарка, и слова Тараса воспринял как подстрекательские. – Щенка надо брать, если даже он заморыш.
– Чего разоряешься. – Шестакин–старший дал брату лёгкого подзатыльника. – Разорался! Сказали возьмем – значит, возьмем. Только вот…
Он не договорил. Во дворе снова появился Мотька. На этот раз он не перелезал через забор, а шел с «главного входа», ведя на веревке шустрого и довольно большого щенка.
Издав радостный вопль, ребята вмиг окружили Мотьку и щенка плотным кольцом.
Щенок оказался черный, как сажа. Но грудь, кончик хвоста и лапы у самой земли были у него белоснежными. На умной, чуть вытянутой морде блестели настороженные желто–рыжие глаза; уши уже почти стояли.
– Ему полгода. Злой будет пес, – сказал Матвей. – Во, гляньте, – схватив щенка за морду, он раскрыл ему пасть: нёбо было черное – признак силы и злости собаки, особенно если она сибирская. Так считали мальчишки.
– Мальчик, ты кто такой? И почему ты здесь? – раздался вдруг голос Надежды Павловны.
Ребята оглянулись. Откуда она взялась? И завхоз с ней. Никто и не заметил, как они подошли.
Матвей мгновенно сунул стоявшему рядом Петьке Иванову конец поводка и птицей перелетел через забор. Только его и видели!
Щенок сердито гавкнул. Ему, очевидно, не понравилось столь внезапное исчезновение хозяина. Не понравилось это и директрисе.
– Что все это значит? – спросила она. – Какой–то неизвестный мальчишка, собака…
Все растерянно молчали. Петька ласково поглаживал щенка, которому не стоялось спокойно на месте.
– Собаку нам подарили, – первым заговорил Рудька. – Вы только посмотрите – великолепный щенок! Злой пес будет. И красивый! А парень трухнул малость, вас испугался. Вот и удрал. Но он хороший. Он Бобика и подарил!
т
«Почему «Бобика»? – подумал Петька. – У щенка, наверное, другая кличка…» Но ребята уже подхватили:
– Наш Бобик! Оставьте нам Бобика! – зашумели они.
Надежда Павловна улыбнулась:
– Ваш, ну и ладно. Зачем же такие эмоции! Я ведь не сказала, что запрещаю держать собаку. Подрастет – двор охранять будет, корову, быка…
– Щенок и впрямь хорош, – подтвердил завхоз дядя Коля. – Польза будет. Конуру я сегодня же состукаю.
– Ему не только конура, ему и доброта нужна, – напомнил Петька.
– Будет конура – будет и доброта, – ответил завхоз.
– Собака меня не беспокоит, – сказала Надежда Павловна. – Только вот этот мальчик… Он очень грязный! Вы пригласите его ко мне, я хочу с ним поговорить.
– Дудки! Так он и пошел!
– Это кто сказал? – голос Надежды Павловны посуровел. – Ты, Иванов?
– Я, – сознался Петька. – Не обижайте Мотьку.
– Мотьку? Это кто еще?
– Ну Матвей, что собаку подарил.
– А ты сегодня дерзок, Иванов. После обеда пойдешь дежурить вне очереди вместе с Миллером на просяное поле. – Надежда Павловна сердито глянула на примолкнувших ребят, повернулась и ушла.
Дядя Коля нагнулся над щенком, легонько потрепал его за ушами.
– Вот и окрестили пса. Не знали, как и называть, а теперь – Бобик… Ну, не хмурьтесь, хлопцы. Разрешила ведь!
Ушла ваша–то?
– Матвей, ты?
– Гы!
– Иди сюда.
– Не… Я лучше тут. Забор – это удобно. Хошь смотри, хошь говори, а территория–то моя, – философски заявил Мотька.
Ребята к тому времени поразошлись: кто по воду поехал на телеге, запряженной Соколом, на которой стояла громадная бочка, кто в поле – картошку подкапывать, кто Ночку и Кабыздоха пасти или по другим хозяйственным делам.
Петька и Гриша Миллер были еще во дворе. Но и они уже собирались идти на Среднее озеро, на верхнем возвышенном берегу которого росло интернатское просо. Там был устроен добротный шалаш, защищавший ребят от солнца и дождя во время дежурства. А дежурство состояло в том, чтобы пугать птиц и возможных потравщиков.
– Матвей, пойдем с нами, – позвал петька. – Со щенком твоим полный порядок. – И он кивнул на привязанного к забору Бобика. Рядом дядя Коля уже мастерил из досок конуру.
– А есть вам хочется? – задал неожиданный вопрос Мотька.
– Очень, – вздохнул Иванов.
– Так идем. В лесу и на озерах еды много. Я покажу. Не ленись только! И не ешь того, чего не знаешь!
– Так нам же на просо, дежурить…
– Слыхал. Время що есть. И туда поспеете. У проса ног нет – не убежит.
Петька решился.
– Пошли! – крикнул он Миллеру и перемахнул к Мотьке через забор.
Гришка (нога у него сохла, и он сильно хромал) через забор не полез, а оставил двор вполне законным порядком.
Присоединился к ним и Вовка Колгушкин.
Сначала Матвей повел их в лес. На опушке, проросшей густой муравой, он опустился на колени и стал что–то разглядывать в траве. Потом поднялся, посмотрел туда–сюда, прошел шагов десять и снова присел на корточки.
– Ты чего ищешь? Землянику? – спросил Петька.
– Не… Тут ей не место – трава шибко густа, забивает. Да и отошла уже. Лук–от, однако, есть, – и он стал срывать тонкие, округлые, как шильца, перья дикого лука.
– Лук? В лесу? – удивились мальчишки.
– Почему в лесу? С краю леса. Дальше–то вон – поле!
– Так он и в поле растет?
– Бывает, что и в поле. В разных местах – по–разному. Но чаще всего там, где поле с лесом встречаются. Оттого и название – полевской… Ешьте давайте! Укусный лук–от!
Луку было много. Но не без труда Петька, Гришка и Вовка научились отыскивать его в густой траве. Потом наловчились. Рос он небольшими пучками, был тонкий, прямой и зелено–матовый, как дымкой подернутый.
Лук оказался действительно вкусным. Был он нежней огородного и совсем не едкий, почти без горечи. Колгушкин напихал им полную пазуху.
– Ты куды столько? – спросил удивленный Мотька. – Много не ешь, а то вспучит брюхо и печь будет с голодухи–то!
Колгушкин только хмыкнул. Петька и Гришка понимали почему: у Вовки был брат, Борис. Помирал он от чахотки. А лук, пусть даже дикий, полевской, – все же еда, витамины какие–никакие.
– Пошли, – сказал Матвей, – хватит на луке–то забаловываться. Кой–што послаще найдем в лесу–то. Саранки–от…
Ребята покорно пошли за Мотькой.
– Сa–a–ранки… – дожевывая лук, сказал Петька. – Звучит кра–а–сиво, но как–то не очень чтобы вкусно. Это что?
– Это – сласть! Язык обкусаешь! – ответил Мотька. – Вы, городские, што знаете? Сахарок да конфеток! А это куда как вкуенёйше! Ужо попробуете. А там, на заглядки, сами в лес бегать почнете.
– Расхвастался, – буркнул Петька. – Дай сперва попробовать эти самые саранки, а уж потом…
– На, бери! Пробуй, пожалуйста, не жалко! – Мотька остановился на маленькой полянке среди нескольких тонкоствольных деревцов и кучерявого кустарника–подлеска. – Вот саранка.
– Где «вот»?
Ребята смотрели под ноги, крутили головами, но, кроме разнотравья, ничего примечательного не видели.
– Совсем непонятливые! – рассердился Матвей и схватил ближайшего, кто стоял рядом. Это был Вовка Колгушкин. – Нагнись, что ли. На коленки стань, Видишь?
Петька с Миллером тоже сначала нагнулись, а потом и на колени плюхнулись рядом с Вовкой. Но перед ними была все та же травка–разнотравка.
– Чудные, однако, вы, – вздохнул Мотька. – Да гляньте, вот она, сараночка! Смотрите: будто пальмочка растет! Стебелек, а сверху листочки долгие в развеер…
– Ты что, спятил? – Миллер встал. Или мы траву жевать пришли?
– А ты копай, копай, – спокойно сказал мотька. – Корешки – они сладкие!
Ребята разрыхлили землю ножичками, отгребли ее ладошками, подкопали растение–пальмочку пальцами и вытащили мясистую желтую луковичку, но без шелухи луковички огородной. Это был сочный комок плотно прижатых друг к другу толстых лепестков. Саранка, одним словом.
– Попробуйте–ка! – весело сверкнув черными глазами, предложил Матвей и стал осторожно, но быстро, подкапывать другую «пальмочку».
Петька отделил несколько верхних лепестков–чешуй, между которыми застряли крупицы земли, обтер желтую луковичку о рубаху и вонзил в нее голодные зубы. Она оказалась, как и обещал Мотька, сладкой. И не столь сладкой, сколь ароматной, душистой, приятной до удивления.
– Гы-ы! – весело загоготал Мотька. – Нравится? Это ишшо так, просто ничего. А вот шильчики наши, тростник то есть…
Ну, о тростнике–то ребята знали, казалось бы. Петька зимой срезал его – звонкий, тоненький, но прочный, певучий – и делал из крепких желтых камышинок голосистые дудочки. Играть на них можно было и веселые, и грустные песенки…
Но чтобы есть тростник!.. До этого как–то никто из интернатских и не додумался.
– Э-эх! Глупые! – совсем удивился Мотька и, тряхнув черными лохмами, спросил: – А ну, скажи, сколько сичас время? Не запоздаете?
– Так ведь… – начал было Колготушкин.
– Сейчас – час, – убежденно сказал Мотька, глянув на небо.
– Откуда нам точно знать? – покоренный Мотькиным знанием всего, вздохнул Петька.
Матвей снова сказал свое любимое «гы!» ухмыльнулся самодовольно:
– Привыкай–соображай!
Он обломил тонкий стебелек длиной с указательный палец, стал боком к солнцу, стебелек зажал между мизинцем и безымянным пальцем, а тень от стебелька направил поперек тыльной части ладони. Тень эта упала на средний палец и коснулась указательного.
– Ошибся я чуток. Два часа ужо. Начало третьего! – определил Матвей. – Вам пора туда, на Среднее. Дежурить, охранять. От кого – не знаю. Исть просо не интересно: сырое – оно горькое. Но я приду, про тростник обскажу…
Он помахал ребятам грязной от земли рукой и скрылся в густых кустах.
Матвей ушел, а ребята все еще стояли как завороженные.
– Ну и ну, – очухался Петька. – Дуем, огольцы! Время и впрямь уже много… А ты, Вовка, возьми саранки–то. Авось братишке твоему пригодятся. Глядишь, и чахотка пройдет. Может, не так уж она и страшна – болтовня одна…
Вовку Колгушкина отправили назад, в интернат, а сами пошли на «просяное дежурство».
Часа через полтора, с большим опозданием, они уже были в шалаше.
Вначале было скучно и жарко. Пекло солнце, и даже близость Среднего озера не радовала, потому что было это озеро мутное и нечистое, то самое озеро, где плодились и размножались горгонцы, которые так противно липли в бане к голому телу и путались в волосах. Даже рыба в этом отравленном банными стоками озере почти не водилась…
В шалаше Петька и Гриша задремали. Разбудил их Вовка Рогулин – Дед.
– Эй, хей! – крикнул он. – Пожар! – И пхнул босой ногой сначала Гришку Миллера, а затем и сладко похрапывавшего Петьку.
– А? Что? – вскочили ребята.
– Приятного вам пробуждения! – ухмыльнулся Рогулин. – Здесь у вас должна быть банка–жестянка из–под американской тушенки.
– Тебе–то что? – огрызнулся Петька. – Кемарнуть не даешь!
– А это видали? – И Дед показал желто–серого дикого утенка, у которого уже была отвернута голова. – Сейчас мы кое–что сообразим, сварганим, так сказать. Сольцы вот, жаль, нет…
Утенок был ну чуть побольше, чем яйцо дикого гуся.
Потом Вовка Рогулин признался, что поймал несмышленыша, отбившегося от стайки, в тростниках и после столь удачной «охоты» решил непременно попробовать птичьего бульону.
Банку нашли. Гораздо труднее оказалось разжечь костерок – спичек ни у кого не было, и ребята долго раздували трут, подпаленный выщербленным увеличительным стеклом.
Вместо соли Миллер принес солончаковой земли, той, что белой глазурью запеклась на солнцепеке (до такого даже местные жители не додумались), сыпанул две горсти в консервную жестянку, а Вовка сунул туда же ощипанное щупленькое утячье тельце. Варево на костерке булькало минут пятнадцать. Долго варить было незачем – утенок ведь!
: — Пора отведать. Огонь – большой, утенок – маленький. Готов, наверное, – сказал, потирая руки, Вовка Рогулин.
Утенка съели. Совсем невкусный оказался утенок – только что из яйца появился! Мяса нарастить не успел и в сок не вошел. И вот уже нет его, утенка…
– Пошли просо шелушить, – вздохнул Миллер. – Вот оно, рядом.
Вставать и выходить из шалаша, уютно пропахшего пересушенной травой, было лень, но есть после сна снова хотелось. А просо шелестело на ветерке в трех–четырех метрах – только встань, сделай несколько шагов, и вот оно, в руках, как жар–птица, – золотое, игривое, метельчатое…
– Метельчатое и шелушистое, да горчит, – сказал Иванов. – Ну его к бесу!
– А ты не спеши, – откуда ни возьмись появился Мотька. – Гы-ы! – оскалил он крупные белые зубы и, сорвав несколько просяных метелок, стал растирать их, меж ладоней, бросив на межу свой помятый картузик.
Просяная шелуха отлетала на легком ветерке далеко в сторону, а желтое пшено уверенно сыпалось в Мотькины ладони.
– Э-эх, непонятливые! Шевели ручками, ходи ножками, дуй губками – шамота будет! – пропел Матвей. – А утя зазря сгубили: не для утробы он ишшо. Да и природу попортили… Бить вас надо, глупых, – неожиданно заключил Мотька, – а я дуркую с вами!
Просо уже не шелестело. Оно свистело в быстрых, проворных руках ребят: «свржсжик» – и десяток метелок в жменях, «свржсжик» – и еще, обе ладони полны–полнехоньки. Только ешь!
И Петька Иванов, и Вовка Рогулин, и Гришка Миллер старались вовсю. Но отшелушить и отвеять просо так хорошо, как это делал Мотька, у них не получалось, и они жадно запихивали в рот жменями неочищенное, горьковатое пшено.
Вскоре это им надоело: животы начало пучить да и во рту нехорошо стало.
– Гы-ы! – смеялся Мотька. – Лопните! Стой, чай! Пошли на Стан–озеро чисту воду пить и ишльчики – сладок корень – исть!
В теневой стороне шалаша состоялось совещание – что делать? Тут быть – тоска. С Мотькой пойти – а кто за посадкой доглядит?
– Тебе-т что! – нахмурился Рогулин. – Я–т–то пойду, а им, – он кивнул на Петьку и Миллера, – наше охранять надо.
– Г-ы! – Мотька взъерошил свой лохматый волос. – Да-к и кто потравит ваше просо?! Никому, поди, чужое горе не нужно! Своего хватат! Айда на Станово!
– А, черт! – Петька пхнул ногой шалаш. – Пошли. Корня сладкого мы еще не ели, а это, – показал он на участок, засеянный просом, – не раз хряпать будем.