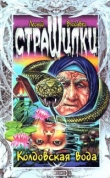Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
Прощай, Бердюжье!
Отмели февральские вьюги и метели, с. каждым днем все ярче голубело небо, в середине марта заметно стало пригревать солнце в полуденные часы и с крыш свесили хрустальные носы разнокалиберные сосульки : — зазвенела капель. А в апреле уже побежали ручьи, и снег дружно стал уходить в землю. Вскоре его и вовсе не осталось – весна была ранняя.
Однажды, когда мальчишки и девчонки вернулись из школы, Анна Аркадьевна собрала их всех во дворе: комнаты в интернате были для этого слишком малы.
– Кто знает, какой завтра день? – спросила она. Все запереглядывались, запожимали плечами.
Странный вопрос задает директриса! Что она имеет в виду: число или день недели? Так и сама ведь знает!
– Двадцать второе! – раздалось сразу несколько голосов.
Анна Аркадьевна улыбнулась:
– Совершенно верно. Только это не просто двадцать второе. Я, очевидно, не совсем точно задала вопрос, и вы не поняли меня… Завтра двадцать второе апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Это не обычный день. В этот день семьдесят пять лет назад родился Владимир Ильич Ленин. И мы, ленинградцы, должны достойно отметить этот радостный и светлый весенний день.
– Флаги! Вывесим красные флаги! – предложил Смирнов.
– Надо придумать что–нибудь такое… Ну, такое… очень хорошее! – предложил Валька Пим.
– Правильно, – одобрительно сказала Анна Аркадьевна. – День рождения Ленина надо отметить особенно хорошими, добрыми делами. Только ничего придумывать не надо. Мы устроим воскресник, приведем в порядок сквер на площади: починим и покрасим ограду – она обветшала, подровняем и посыплем песком дорожки… Вы знаете, что сквер этот – центр села. Там хотели поставить памятник революционерам, да помешала война. Но после войны памятник все равно поставят. А помочь сделать сквер красивым уже сейчас – разве это не замечательно?
– Еще как замечательно! – заорал громче всех Рудька Шестакин.
– Тише ты, Лунатик! – цыкнули на него.
– А где краски возьмем, кисти?
– А доски?
– Гвоздей побольше надо, и молотков, и топоров тоже!
Анна Аркадьевна подняла руку, жестом утихомиривая взбаламутившихся ребят. Постепенно они угомонились.
– Все будет, все, – успокоила она. – Об этом не беспокойтесь. Инструментом и материалами нас обеспечат столярная мастерская и колхоз. А сейчас можете заняться своими делами…
На другой день утром, сытно позавтракав пшенной кашей с салом (повариха добавки не жалела), все снова собрались во дворе. Воспитатели разбили ребят на группы, объяснили, кто и что будет делать, и, построив в колонну по четыре, повели на воскресник.
В интернате остались только малыши. Они тоже хотели идти вместе со всеми, но их предупредили, чтобы не путались под ногами: помощи от них – как от козла молока, а сделать предстояло много.
Сквер был большой – не сквер, а сад (местные и называли его садом). Протянулся он широким прямоугольником метров на полтораста через всю площадь. Деревянная ограда почернела от ветров и дождей, многие доски и рейки потрескались, а кое–где и вовсе были поломаны. За оградой вдоль центральной дорожки ровными рядами выстроились молодые деревца.
Анна Аркадьевна оказалась права, ребята беспокоились напрасно: доски, гвозди и молотки, топоры и пилы, бачки с краской и кисти были аккуратно разложены и расставлены возле ограды со всех сторон сквера. Только работай!
И работа началась – шумная, веселая, дружная.
Пока мальчишки чинили ограду, девчонки подравнивали дорожки, подрезали лопатами дерн. Рядом с ребятами неотступно находился Алексей Иванович Косицын – председатель райисполкома. Там посоветует, тут подскажет, а то и сам возьмется за пилу или топор. Маленький, щупленький, быстрый, он поспевал повсюду и то и дело приговаривал: «Ай молодцы, ленинградцы!»
Около работающих стали собираться группками любопытные из местных жителей. Они почтительно смотрели на мальчишек и девчонок, потом переводили взгляд на большой фанерный щит, прикрепленный к березовой жерди, вбитой в землю, на котором крупно было написано: «Сегодня воскресник в честь дня рождения В. И. Ленина!», и одобрительно кивали головами,
Петька, Талан и Жан Араюм возили с озера песок для дорожек. Песок был сырой и тяжелый, поэтому доставалось и им, и мерину Ночке.
Людмила Александровна Попова, секретарь райкома партии, работавшая вместе с интернатскими девчонками, спросила:
– Не очень устали, девочки? Работы еще много. Может, отдохнете?
– Ну что вы! – запротестовали девчонки. – Совсем даже не устали!
Когда сгружали песок со второй телеги, Петька заметил среди интернатских ребят Матвея и еще нескольких сельских парнишек, ловко обтесывавших топорами доски.
– Эй, Мотя! И ты с нами? – крикнул он.
– Здравствуй сначала! – отозвался Мотька и засверкал улыбкой. – Вы робите, а нам что, в сторонке стоять? Сад–от – наш. Вот и мы пришли.
– Поехали, – позвал Петьку Талан. – Пока еще песку нагребем! Это не гвоздочками да молоточками палочки приколачивать. Потом набеседуетесь! – И едва Петька вскочил в телегу, он хлестнул мерина вожжами.
– Ай молодцы, ай работнички! – весело рассмеялся Косицын. – А вы чего стоите, рты пооткрывали? – повернулся он к сельчанам. – Помогли бы ленинградцам, для вас ведь стараются!
– Верно говоришь, Алексей Иванович, – сказал конопатый мужик, уже с полчаса наблюдавший, как работают интернатские, и затоптал самокрутку. – Где тут свободный топор? А вы, бабы, – Скомандовал он женщинам, – берите краски да кисти!.
Когда после обеда заканчивали работу, местных оказалось больше, чем ленинградцев. Все были очень довольны и тем, что сад привели почти в идеальный порядок, и друг другом.
Вечером Косицын пил чай в интернате.
– Настоящий праздник получился! – радовался Алексей Иванович. – И кто бы подумать мог, что ваша детвора так людей расшевелит, – говорил он Анне Аркадьевне. – Да мы тут никаких воскресников сроду не проводили, а ишь ты как ладно вышло!
– Войне скоро конец, Алексей Иванович, вот и воспрянули люди духом.
– Да–да, конечно, – закивал, соглашаясь, Косицын. – Но не только в этом суть. Сплоченность, дружбу, любовь к людям, к Родине нашей – вот что показали сегодня дети!
– Не дети. Большинство из них уже подростки, юноши почти, – уточнила Анна Аркадьевна. – Повзрослели за четыре года войны, подросли…
– Они, наверное, очень скучают по Ленинграду.
– О Ленинграде, Алексей Иванович, мало сказать: «тоскую», «скучаю»… Все это гораздо для нас сложнее и словами непередаваемо.
– Простите, Анна Аркадьевна, – шутливо склонил голову Косицын. – Я несколько неточно выразил свою мысль. Ведь мы говорили о детях…
– О повзрослевших детях! – снова уточнила Анна Аркадьевна. – Но… вот вы только что восхищались их энтузиазмом, Алексей Иванович. А как вы думаете, о чем сейчас, сию минуту, думают наши мальчики и девочки? Они думают о доме, о мамах и папах, не ведая, что у очень многих из них уже нет ни мам, ни пап, ни дома родного…
Анна Аркадьевна как в воду глядела. Ребята в это время действительно говорили о родителях, о Ленинграде.
Хорошо поработав и поужинав, они забрались на свои топчаны, чтобы перед сном спокойно поговорить о том, что их волновало, – о доме.
В комнату вошел Володька Новожилов, по привычке стал спиной к печке, хоть она давно уже и не топилась, и, взяв на гитаре пару красивых аккордов, тихо запел:
Пусть нас раскидало по планете
Черной, грозной силою войны.
Мы с тобой теперь уже не дети,
Мы – Отчизны верные сыны…
– Это же мои стихи! – заорал Петька, спрыгивая с топчана.
– Были ваши, – спокойно возразил Новожилов, – стали наши. Не теряй листочки. Я их с полу поднял. Гляжу – стихи. Сразу понял, что твои. У нас ведь больше никто стихами не страдает… Попробовал под гитару – песня получилась.
– Отдай, – попросил Петька. – На что они тебе?
– Возьми, – сказал Новожилов, – я их запомнил уже. Вот вернемся мы месяца через два–три домой, в Ленинград, потеряем друг друга из виду, а память о тебе у меня останется – песня…
– Не трепись, Новожил. Петькины стишки – ерунда. Поэты – они всегда большие, а не такие сморчки! Скажи лучше, откуда ты про «два–три» месяца узнал? Или сам придумал? – раздался из угла скрипучий голос Жорки Грека.
– Новожил не придумал, – вмешался в разговор Вовка Рогулин. – Я от мамы письмо сегодня получил. Пишет, что и в роно, и в исполком бегала, о нашем возвращении узнавала. Говорит, что летом обязательно нас обратно вернут.
– Вернуть–то вернут, но когда? – не унимался Жорка. – Может, после дождичка в четверг!..
В него полетели башмаки и подушки. – Не каркай, Грек!
– Не о том бормочешь!
Ребята рассердились не на шутку. Еще бы! Четыре долгих года они жили надеждой на скорое возвращение домой, каждый день мечтали, думали: «А вдруг завтра…» И вот, когда это «завтра» должно было наступить, Жорка своим неверием попытался разрушить их надежду…
– Тише вы! – прикрикнул на них Новожилов и повернулся к Жорке: – А ты думай, что говоришь!
Зазеленел клейкими березовыми листочками май. Было хорошо и радостно – из дому шли письма: «Скоро, дорогие наши, мы обнимем вас…»
Витька Шилов ходил и посвистывал. А что оставалось делать? Он нервничал, на душе у него было муторно. Из родных не осталось у Витьки никого на всем белом свете, и никто его нигде не ждал.
Но Витька бодрился. Он еще на что–то надеялся.
– И когда, наконец, эта война проклятущая кончится! Наши в Берлине, а мы все еще тут, – сказал он вечером. А утром…
Ребята проснулись оттого, что кто–то их тормошил, обнимал и громко кричал:
– Проснитесь же вы, наконец! Нету больше стреляющих пушек, грохота бомб и бесноватого Гитлера! Победа!
Зареванная от счастья Мария Владимировна Чач бегала от топчана к топчану:
– Да вставайте же вы, золотые мои, окаянные!.. Лучше бы она их не будила! Лучше бы и другие воспитатели не будили так неожиданно ни мальчишек, ни девчонок столь радостной и долгожданной вестью. Все словно взбесились: ребята расшвыривали столы и стулья и бросались обниматься, вверх летели книги и подушки – больше «салютовать» было нечем; девчонки визжали, пищали, целовались и тоже переворачивали все вверх тормашками…
А Витька Шилов ходил и посвистывал. И еще с десяток огольцов ходили, хмурились… и посвистывали. Им сочувствовали. Все. Очень. Потому что те, у кого погибли родители, у кого не стало ни мамы, ни папы, ни родной тети хотя бы, – те навсегда, по крайней мере на долгие годы, должны были остаться здесь. И даже не здесь, не в Бердюжье: их отправляли дальше – в детдом для сирот…
* * *
…Первого июля тысяча девятьсот сорок пятого года, около полудня, со стороны большака послышался шум моторов, и вскоре на сельской улице, ведущей к интернату, показалась колонна грузовиков – десять машин. Среди них были и такие, каких ребята еще не видели, – трехосные «студебеккеры». Они остановились возле интерната.
К долгожданному отъезду приготовились заранее, еще с вечера, и поэтому шоферам долго ждать ребят не пришлось.
– Грузись, огольцы! – радостно крикнул Петька, подсаживая в кузов первой машины коротышку Вальку Пима.
Потом ребята посадили в машины девчонок, рассовали меж ними ведра, бадейки и тючки с едой – до Ишима путь предстоял долгий – и с громкими криками и воплями полезли в кузов сами.
Последними сели в машины воспитатели и Анна Аркадьевна.
Призывно просигналил первый грузовик, и колонна тронулась.
Вслед уезжающим махало множество рук: ленинградцев провожали тепло. И примерно с километр скакал за машинами на неоседланном огненном жеребце лохматый и чумазый Мотька.
– Э–ге–гей! – кричал он. – Не забывайте!
– Не за–бу–у-удем!
– Прощай, Бердюжье!..
– Недельки через две будем дома, – радовался Талан. – Даже не верится. Узнают ли нас? Узнаем ли мы Ленинград?
– Чепуха! – засмеялся Иванов. – Как это нас не узнают или мы не узнаем? Мы же натуральные ленинградцы! – И он запел:
Пусть нас раскидало по планете
Черной, грозной силою войны.
Мы с тобой теперь уже не дети,
Мы – Отчизны верные сыны!
– Ты молоток, – сказал Новожилов. – У тебя котелок варит.
– Все мы молотки! – крикнул Петька. – Все! – И вдруг поник, сделался грустным, повернулся спиной к кабине и стал смотреть на степь и перелески, на убегающий назад большак…
А годы летят…
Прошло много лет. Выросли, возмужали бывшие интернатовцы, у многих из них уже обильная седина в волосах…
Да, годы летят. Ленинградские мальчишки и девчонки, спасенные Родиной в лихую годину войны, давно уже сами стали папами и мамами, даже дедушками и бабушками, но никогда не забудут они, как четыре долгих тревожных года жили без отцов и матерей – вдали от дома родного.
В воспоминаньях толку нету,
Но почему–то к ним влечет, —
Так песня грустная пропета,
А грусть все за душу берет, —
писал спустя годы после возвращения в родной город уже взрослый Петька Иванов – теперь он стал Петром Степановичем.
Да, годы летят!.. И ничего тут не поделаешь, что бывшие интернатовцы встречаются редко. У каждого – свои дороги! Многих судьба раскидала далеко друг от друга.
Регулярно, раза два в год, видится Иванов лишь с Жаном Гансовичем Араюмом, который живет и работает недалеко от Ленинграда. Да сравнительно недавно навестили Петра Борис Тимкин (помните, в интернате его прозвали Добавкой?) с женой и своей родной сестрой Валей. Валя работает в детском доме в городе Кировске. Воспитатеем. Сейчас нет войны, но есть дети, живущие и в мирное время без отцов и матерей, и Валентина отдает этим детям – мальчишкам и девчонкам – тепло своего сердца, чтобы выросли они гражданами, достойными своей великой Родины.
Есть неожиданные встречи:
«Мир тесен», – люди говорят…
Вот так, как–то неожиданно, вроде бы случайно, встретил Петр Иванов весной, накануне Дня Победы, товарища далекого военного детства – Александра Васильевича Цыбина. Произошло это в еще безлистном, но уже чуть зеленеющем от раскрывающихся на деревьях почек Михайловском саду.
Я сказал, что встретились они «вроде бы случайно». Но в жизни все закономерно. Обоих притягивало к себе Марсово поле, хоть оно и не связано прямо с Великой Отечественной…
Они не виделись несколько лет.
После изумленного узнавания, первых радостных возгласов, крепких рукопожатий и объятий, оба взволнованные, обрадованные тем, что видят друг друга, они присели на первую попавшуюся скамейку. И, как всегда бывает в подобных случаях, начались бесконечные взаимные расспросы: «А помнишь? А знаешь?»
Пожилые женщины в темных фартуках – садовые работницы – сгребали в большие кучи бурую прошлогоднюю листву, сухие, сбитые ветром и птицами веточки, сучки и сжигали их. Сизоголубой, горьковато–пряный дымок медленно стлался по влажной земле, обволакивал черные кусты и незаметно таял…
Петру вспомнились когда–то давно слышанные стихи:
А в старом парке листья жгут,
Он в синей дымке весь.
Там листья жгут, там счастья ждут…
«Кажется, это Шефнер? Или Коля Новоселов?» – подумал он, досадуя, что не помнит точно. Покойный поэт Николай Новоселов любил иногда читать эти строки.
Погрузневший и располневший за последние годы Цыбин положил Петру Степановичу руку на плечо:
– Ты что загрустил?
– Вспоминаю. Прошлое, – ответил Иванов, немного помолчав. – Без этого жить нельзя. Ведь прошлое – это та почва, на которое выросли все мы, сегодняшние… Ну а ты–то как?
Цыбин достал пачку «Беломора», закурил и весело–довольно забасил:
– Я‑то? Я по–прежнему инженерю, кораблики делаю… В общем, Петро, живем, работаем и не о грусти думаем. Жизнь–то какая размашистая пошла!.. А кого ты в последнее время из наших встречал? Или слышал о них что?
Обычный вопрос при встрече, когда люди долго не виделись…
– Немногих. Да и раньше – тоже. Мы ведь, если помнишь, адресами не обменивались, малы были и не думали об этом. А в последние годы я вообще никого из интернатских не встречал, кроме Жана Араюма, Любы Колосовой и нашей бывшей пионервожатой Иры. Их я совсем недавно видел. Люба Колосова после окончания юридического института имени Калинина почти все годы работала народным судьей. Сейчас она уже на пенсии. Об остальных знаю, что Мишка Бахвалов высшую мореходку окончил, в загранку ходит. Валька Пим – буровик, в Тюменской области нефть качает.
– Надо же! Почти в тех краях, где наш интернат был! – удивился Цыбин.
– Ну нет. Наш интернат на юге Тюменской области был, а это – север… Да, с Яшей Линданом и Володей Рогулиным мы после войны частенько встречались. Потом Линдан куда–то пропал, потом вновь меня отыскал. После окончания ремесленного училища он долгое время на заводе работал, затем в ПТУ молодежь обучал станочному делу, а спустя годы высоковольтником стал, электролинию в области тянул… А вот Рогулин…
– О Деде я знаю, – помрачнел Александр Васильевич. – Из него по–настоящему толковый инженер–конструктор получился. Энергичный мужик был, думающий не по шаблону. И семьянин хороший. Троих детей растил, жизнь любил и так рано умер…
– И мой друг Толя Дысин тоже рано умер. После операции на сердце. Был ему всего сорок один год, – вздохнул Иванов.
Они помолчали минуту–другую, как бы отдавая дань памяти своим товарищам, преждевременно ушедшим из жизни, потом Цыбин сказал:
– Но главное, что и они, и мы, и другие наши ребята не терялись в трудные минуты жизни. Такими нас воспитали в интернате. Мы крепко стоим на ногах. Помнишь Юрку Шестакина? Ну и зловредный был! А сейчас – передовик производства, «огненным» цехом командует, литейщик. И на пенсию не хочет, хоть ему уже и пора: у них ведь, по вредности, можно раньше, чем нам… Но не будем об этом. Ты вот вспомнил о пионервожатой, Ирине Александровне. Расскажи о ней…
И Петр рассказал. Правда, начал он с Жана Араюма, которого видел совсем недавно и о котором Цыбин тоже не имел никаких сведений.
Когда–то робкий, не очень физически развитый мальчишка, большей частью сторонившийся своих сверстников, Жан Араюм стал специалистом высокого класса, хорошо эрудированным, с разносторонними интересами человеком. После окончания в 1950 году средней школы он поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности и в 1955 году успешно закончил его по профилю «холодильные и компрессорные машины и установки». Вскоре Жан стал работать в Государственном оптическом институте имени В. С. Вавилова, где трудится и сейчас в должности начальника криогенного участка. Коммунист. Пользуется большим уважением товарищей, не раз избирался членом партийного бюро. На работе Жана Гансовича Араюма характеризуют как человека с высокими способностями организатора, ответственного и инициативного руководителя производства, высококвалифицированного специалиста.
– Араюм – умница, – сказал Иванов. – В производство внедрено девять его рационализаторских предложений с экономическим эффектом более трехсот тысяч рублей. О своей работе он однажды написал мне в письме: «Это – дело, которому я посвятил всю свою жизнь, не жалея себя».
– Все бы так! – восхищенно отозвался Цыбин.
– У Жана хорошая, внимательная жена, – продолжал Петр. – Она самоотверженно помогала ему в тяжелые периоды жизни. А они были, как и у всех нас. – Иванов сделал паузу. – Ну, а теперь я расскажу тебе о нашей пионервожатой. Коротко. То, что она сама мне поведала…
…Пионервожатая Ира ушла в армию добровольцем по путевке бердюжского райкома комсомола. Сначала она попала в город Омск – в Военно–медицинское училище имени Щорса, эвакуированное туда из Ленинграда, а после окончания медучилища Иру направили (по ее горячей просьбе) на Ленинградский фронт. В действующей армии она находилась с зимы 1943 года до конца войны.
На Ленинградском фронте она работала сначала в госпитале, входившем в состав 55‑й армии, потом ее направили в передвижной госпиталь 67‑й армии на должность старшей операционной сестры. Ее рабочими буднями стали хирургические операции, переливания крови, перевязки, то есть все то, что могло спасти жизни наших раненых бойцов и командиров.
Вместе с нашими наступающими войсками госпиталь двигался через Гатчину, Лугу, Псков к Риге. Медперсонал работал в палатках, которые развертывались в считанные минуты, потому что там, куда прибывал госпиталь, уже ждали врачей раненые, получившие первую помощь от санинструкторов; работали днями и ночами, без отдыха, порой под бомбежками и артобстрелами, когда осколки падали прямо на операционный стол, нередко поражая хирургов и медсестер.
Раненых поступало много. Иногда старшей операционной медсестре самой приходилось делать такие операции, как ампутация…
После освобождения Риги Ирину Александровну Овцыну перевели в 42‑ю армейскую хирургическую группу усиления, вошедшую в состав 19‑й армии 2‑го Белорусского фронта. Действовала эта группа непосредственно на передовой. Ирина вытаскивала раненых с поля боя, оказывала им медицинскую помощь – в общем, делала все, что могла. Всего она вынесла с поля боя более пятидесяти человек.
Дальше путь Ирины лежал через Прибалтику, Кенигсберг, Варшаву – в Германию. В составе своей армии военный медик Овцына вступила в Берлин. И вот настал день, когда она, как и тысячи других ликующих наших бойцов и командиров, на правах победителя расписалась на рейхстаге…
В июле 1945 года Ирина Александровна демобилизовалась и вернулась в родной Ленинград. Поступила в Педагогический институт имени А. И. Герцена. Закончила она его в 1948 году. А потом с мужем (он был военный) и ребенком уехала на Крайний Север, где снова оказалась в условиях трудных: жили в палатках, землянках. Через семнадцать лет – снова Ленинград. Ирина Александровна стала работать в системе Академии наук СССР. Прошло еще пятнадцать лет, и Овцына (теперь по мужу – Вейцман) вышла на пенсию. Сейчас воспитывает внучку и внука, которому в этом году исполняется два годика…
– Вот какая она, наша бывшая пионервожатая! – с гордостью сказал Петр, и в интонации его голоса прозвучали задиристо–веселые нотки детдомовского мальчишки далеких военных лет Петьки Иванова. – Ирина награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.
Цыбин довольно заулыбался, как будто это его хвалили, будто это он боевые награды получил, и сказал:
– Ну что ты разволновался, Петро? В ней ведь еще тогда, в Сибири, эдакий внутренний огонек чувствовался. Не зря же все мы, мальчишки и девчонки, были так влюблены в нее! Да и мы, откровенно говоря, жили и живем, предъявляя себе особый счет. Ведь мы – ленинградцы. Самые что ни на есть настоящие, коренные!
– Ты прав, – откликнулся Петр. – Главное мое чувство сегодня можно выразить двумя строчками из песни:
Я счастлив, что я – ленинградец,
Что в городе славном живу!
От Невы повеяло холодком, тучи наплывали на город, на Марсово поле с полыхающим Вечным огнем у торжественно–печальных могил героев, павших за великую революцию, становилось грустно и пасмурно.
– Ну, поднимайся, старина. Не век же нам тут, на скамейке, сидеть! – сказал Иванов. – Побродим еще немного, а потом – ко мне, продолжим наш разговор. Лисичка моя поди уже заждалась…
– Послушай, Петя, а почему ты Людмилу свою лисичкой называешь? Она что – хитрая?
– Нет, – улыбнулся Петр. – Простая она, добрая и доверчивая. В людях только хорошее видит… А лисичка – так это потому, что девичья ее фамилия была Лисицына. Людмила Михайловна Лисицына. Очень многое она, бывшая девочка суровых ленинградских блокадных лет, сделала для меня. Спасибо ей… Ну, да это уже наше, личное. Пойдем–ка, дружище!
И они пошли из любимого старого сада, который в голубовато–туманной весенней дымке казался чудесным волшебным парком.