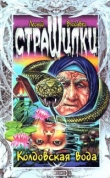Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Мороз и солнце
По воскресным дням завтракали в десять, и по крайней мере до девяти утра можно было поваляться в постелях.
Вот и сегодня ребята не торопились одеваться.
В комнате старших было спокойно, а у младших стоял шум и гам – там шла подушечная баталия, затеянная Валькой Пимом и белобрысым Левкой Мочаловым.
В помещении было тепло, весело потрескивали сухие березовые дрова в двух печках, которые тетя Капа растопила сегодня пораньше: мороз на дворе снова стоял сильный.
«Бой» разгорался. Сначала по комнате, оглашаемой воинственными криками, летали только подушки, потом замелькали валенки, а затем и небольшие чурки, что сушились у печек для растопки назавтра.
Все новые огольцы вступали в сражение. С визгом и криком носились они, босые, в одних подштанниках, прыгали с топчана на топчан, а Пим, отбиваясь от Мочалки, залез даже на стол.
От дошколят на шум прибежала Адель Григорьевна:
– Прекра…
Бац! Подушка угодила прямо в нее, и сразу «бой» затих. Ребята замерли, как в немой сцене, и ждали, что же теперь будет. Но Адель Григорьевна только покачала головой.
– Уже ведь большие мальчики – сказала она. – А если бы разбили окна? – и ушла к своим дошколятам.
– Пронесло, – облегченно вздохнул Левка Мочалов, доставая из–под стола истерзанную подушку, но в это время с улицы пришла с очередной охапкой дров тетя Капа, Левкина мать. Увидев, что творится в комнате, и сына с испачканной подушкой в руках, она грохнула дрова на пол у печки и бросилась к Левке.
– Ах ты, обормот несчастный! – закричала она осипшим от простуды голосом. – От горшка два вершка, а туда же, безобразничать! Был бы тут отец – задал бы трепку!.. А вы что рты поразянули? – повернулась она к мальчишкам. – Ремня на вас нету! Ишь, команда голоштанная!
– Так их, тетя Капа, так! – крикнул Гришка Егудкин из комнаты старших.
– И–и–ух! – давясь от смеха, подвывал Яшка Линдан.
Но тетя Капа остывала так же быстро, как и вскипала. Помогая ребятам навести в комнате порядок, она уже не ругалась, а только ворчала миролюбиво:
– И чего им, шелопутным, не живется спокойно! Носятся с ними как с писаной торбой, а они еще на головах ходят!..
Когда ребят позвали на завтрак, тетя Капа подмела пол, протерла его влажной тряпкой, намотанной на швабру, и проветрила обе комнаты.
Приятно войти с морозца в чистое, пахнущее свежим воздухом, теплое помещение! А оттого, что в заиндевелых окнах весело искрилось яркое солнце, на душе тоже становилось светло и радостно. Потому, наверное, и вспомнились Валерию Белову пушкинские строки: «Мороз и солнце! День чудесный!..» – воскликнул он, входя после завтрака в комнату.
Ему действительно было хорошо, сомнения не мучили его, совесть оставалась чиста: малышей он не обижал, ни с кого ничего не требовал и доживал в интернате последнюю зиму – осенью должен был ехать в. Челябинск, в ремесленное училище.
Да, Валерка Белов не злоупотреблял своим правом самого взрослого из ребят. Младших он не трогал, но и со старшими портить отношения тоже не хотел и в их дела почти никогда не вмешивался.
Перед обедом многие разбрелись по селу – пошли погулять, а Пим, Бульдог, Лопата и Губач засели за учебники. Лука предложил Жану сыграть в перышки. Шахна примостился возле печки и что–то выстругивал, а Петька Иванов решил покататься на коньках и стал прикручивать их сыромятным ремешком к валенкам.
– Пойдем, голубей погоняем, – сказал Николай Шестаков Юрке Шестакину и стал надевать пальто.
В это время сначала во дворе, потом в сенях послышались крики: «Чужак, чужак!..»
Распахнулась дверь, и в комнату чуть не кубарем влетел раскрасневшийся и запыхавшийся Рудька.
– Голубь! – крикнул он. – Чужой! Над нашим краем ходит! Того и гляди что 'стаю подымет! Перехватят!
Похватав пальтишки и шапки, все, кто был в комнате, выбежали во двор. Одевались уже там.
По двору, закрутив кольцом хвост, носился разыгравшийся Бобик, а высоко–высоко в прозрачно–синем небе большими кругами ходил чужой голубь. Полет его был стремителен.
– Уберите пса, мешает. – Николай пхнул ногой Бобика, швырнул в небо пару сизарей и, размахивая руками, заметался по двору, пронзительно засвистел, чтобы голуби не сели на крышу.
Ему помогали все ребята: они орали и тоже свистели, хлопали в ладоши…
Сизые покружились–покружились над домом и стали набирать высоту. Вслед за ними выпустили еще две пары. Заметив их, чужой резко пошел на снижение. Щурясь от яркого солнца, ребята наблюдали за полетом птиц. Прибежал и Мотька, благо жил рядом – через забор.
– Ры–ы–жий! – воскликнул Матвей. – Рыжий турман Клопа! Как же он так? Отбился?!
– Может, и не Клопа вовсе, – сказал Шестак, держа наготове Рябчика и Белянку.
– Знаю, что говорю, – рассердился не на шутку Мотька. – Ни у кого больше нет такого голубя! Разве что Рябчик ваш…
Рыжий соединился со стайкой интернатских голубей, походил, походил с ними и вдруг повел их вышз ив сторону – на другой край села, где поднялась в небо чья–то большая стая.
– Уведет! – застонал Рудька. – Всех уведет!
– Сплюнь, дьявол! – Шестак дал ему «леща» по шее и выплеснул из рук сначала Рябчика, а следом и подругу его – Белянку.
– Уголька! Давай Уголька! – охрипшим от волнения голосом рявкнул Николай, и вслед за Рябчиком и Белянкой взметнулся ввысь Уголек.
«Хлоп–хлоп» – зазвенели в синеве упругие крылья, и голубиные асы, круто набрав высоту, заиграли–закувыркались в холодных солнечных лучах.
Это были самые верные голуби – каждый из них мог легко удержать и приворожить любую стаю. Они не поспешили вдогонку за уводимыми рыжим турманом голубями. Они наслаждались полетом в мороз и солнце. Они были прекрасны! И Рыжий, казалось бы, хитрый знаток уверенного полета, повел стаю, которая хотела обдурить его, обратно, потом оторвался от нее и вот уже закружился, завертелся, заиграл вместе с Белянкой, Рябчиком и Угольком.
– Ура-а! – заорали ребята, и в воздух полетели шапки.
– Цыть! – шикнул Шестаков. – К забору!
Ребята, сообразив что к чему, разбежались по сторонам и притихли. Николай уже держал в руках светло–рыжую голубку. Выпростав одно ее крыло, он призывно помахивал им.
. – Шахна, зерно! – крикнул Колька и, пока стая вместе с Рыжим делала над двором круги, Аркашка к самым сеням щедро натрусил дорожку из отборной желтой пшеницы…
Рябчик и Белянка «посадили» Рыжего на интернатскую крышу. Очевидно, он был очень голоден, потому что, дважды проехавшись на хвосте, спорхнул на пшеницу и начал жадно работать клювом. Когда он оказался возле распахнутой двери, Николай швырнул в сени желтую голубку.
Вздрогнул Рыжий, глянул настороженно влево, вправо и шагнул следом. Рывок за веревку – и дверь захлопнулась.
Минут через сорок пришел Клоп. Именно пришел. Не прибежал, не умолял, хотя это был его лучший голубь, а пришел и потребовал:
– Отдайте Рыжего. У вас он. Видал.
Ребята молчали и злорадствовали. Клоп загнал у них не одного голубя и ни одного не вернул. Даже за выкуп.
– Отдайте Рыжего! – шагнул он к Николаю, зная, что тот хозяин положения.
– Плати кормом выкуп, – сказал Николай.
– Так отдай! – пробормотал Клоп. – Нету у меня корму. Потому и Рыжий сорвался.
– А-ах, не–е–ту?
Клоп, нахмурился, переступил с ноги на ногу.
– Не отдашь Рыжего – Рябчика вашего изничтожу. Так сквитаюсь–то!
– Не грозись, – сказал Колька Шестаков. – Мы не ты. Забирай своего Рыжего. Задаром. И дуй отсюда, пока не передумали.
Клоп взял своего голубя и, уходя, крикнул:
– Подумаешь, благодетели!.. А Рябчик ваш все одно будет мой!
– Ату его, Бобик! – крикнул Николай, и собака, раздраженная сердитыми выкриками, рванулась вслед за Клопом и изрядно потрепала его штаны, пока тот не догадался схватить валявшуюся около забора крепкую вицу.
Получив удар по хребтине, Бобик завизжал, заскулил и убежал за сарай.
Прошло несколько дней, и Клоп свою угрозу исполнил. Однажды утром ребята не нашли Рябчика. Все голуби были на месте, а Рябчик пропал. Исчезла и собака…
Как ни ломали пацаны голову, а ответ напрашивался один – это месть за рыжего турмана, за позор Клопа.
Вскоре выяснилось: так оно и было. Кое–какие подробности рассказал Мотька.
С Бобиком Клоп справился с помощью стрихнина. Теперь у него новая черно–белая шапка и добротные. рукавицы – все из собачьей шкуры. Рябчик же у Клопа «в плену», и все маховые перья у него повыдернуты. Клоп решил сделать из него первого голубя своей стаи – вожака. «Приручу! – бахвалился Клоп. – А нет – в суп!..»
Прошло дней десять, и вот, ни свет ни заря, на интернатском дворе сердито заворковал–заворчал Рябчик: я, мол, здесь, голодный и холодный, а вы дрыхнете!
Сильным стуком в окно Мотька разбудил ребят и рукой поманил их на улицу.
– Я по нужде выскочил из избы, а тут он, Рябой ваш. Гляжу, он с плетня на плетень прыгает, а через мой двор, до вашего, ну словно курица бежал. Крылья–то обдерганы, воздуха не гребут! Сбег он от Клопа, обыкновенным пешедралом сбег! Ох и умница!..
Радости ребят не было конца. Каждый хотел прикоснуться к Рябчику, погладить его изуродованные крылья.
– Хороший наш, храбрый ты наш, живой, пешочком пришел, – приговаривал Николай, пряча голубя за пазуху и согревая теплом своего тела, – А вот Бобик – нет больше Бобика. Шапка да рукавицы…
– Ладно раздергиваться–то, – сказал Мотька. Оно, конечно, жаль пса, да вы, чай, не бабы – носами зря хлюпать не след!
…А новый день уже разгорался, вставало солнце, был мороз. В небе, около светила, вспыхивали радужные блики.
Однажды вечером
За окнами сильно мело, пуржило. В печной трубе занудно выл ветер. Надежда Павловна, прихлебывая из жестяной кружки чай на сахарине, спрашивала между горячими глотками:
– Вы заметили, Ольга Ермолаевна? Неужели не заметили, что наши ребята какие–то бледные, нервные стали.
– Кто их знает! Возраст, наверное, такой – переломный. – Ольга Ермолаевна сделала неопределенное движение рукой. – Разве раскопаешь, что на душе у таких вот, простите меня, бесштанных героев! – Она даже поморщилась, как от зубной боли.
– Ребята наши действительно герои! Иронизировать тут совсем даже неуместно! – вспылила Ирина Александровна. – Работают, учатся, мужественно переносят все тяготы. А то, что у них свои, мальчишечьи заботы и проблемы, так на то мальчишки и есть мальчишки! – почти крикнула она. – Что они видят, что знают? Да многие даже не знают, у кого из них есть родители, а у кого – нет. Мы помним, как они прыгали и кричали, узнав о прорыве блокады Ленинграда. А неимоверная радость от победы под Сталинградом! Мальчишки и девчонки ревели, просто захлебывались от радости. Нет, от гордости! Еще бы! В плен попали двести тысяч фашистов, сам фельдмаршал! А чего это стоило? Живы ли отцы и матери наших маленьких ленинградцев – никто не знает. Дети не сомневаются, что родители их живы. Дети героев – они все равно дети. И это главное!
– Ира, ты глубоко ошибаешься, дочка, – остановила ее Серафима Александровна. – Быть детьми героев – еще не значит быть справедливыми друг к другу. Ты еще совсем неопытная, моя девочка, пионервожатая, хоть тебе и девятнадцать и ты получила разрешение военкома уехать туда – на фронт. Позволь, здесь мы разберемся без тебя…
Очень сдержанный и вежливый человек была Серафима Александровна, мама Ирины Александровны.
– Смотрите за старшими внимательно, – сказала Надежда Павловна. – Уже сорок третий, а не сорок первый. Осенью мы всех, кому пятнадцать–шестнадцать, отправим в ремесленные училища – кого в Челябинск, кого в Ленинград. После прорыва блокады нам сообщили, что в Ленинград можно – возвращать эвакуированных юношей и девушек для обучения в ремесленных и фабрично–заводских училищах. Нужны люди, надо строить, восстанавливать…
– Наконец–то! – вздохнула. Ольга Ермолаевна. – Я с моей Ниной этим же летом и поеду.
– А мальчишек наших на кого оставите? – спросила тихо Серафима Александровна. – А девчонок?
Ниночку свою можете отправить со старшими ребятами, а сами… Вам еще и здесь работы хватит.
– Па–а–лундра! – раздалось совсем рядом, за дверью. Потом свист, топот, тишина. Очевидно, «герои» что–нибудь снова натворили. Или пошли в очередную «атаку» на воображаемого врага…
Но вскоре все стихло, а потом в комнату директора просунулись сквозь приоткрывшуюся без стука дверь две физиономии:
– Надеж Пална! Можно погулять? Мы недалеко, не очень…
Это были Петька и Жан Араюм.
– Идите, – разрешила Надежда Павловна. – Только чтобы к ужину быть на месте. Идите, погуляйте, но не опаздывайте.
Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из–под собаки лают ворота, —
донесся уже со двора тонкий голосок всегда возбужденно–радостного Петьки Иванова. Его ждали новые приключения. Простые и обычные.
* * *
Петьку Иванова угрюмый Жан Араюм пригласил к одному местному парню, которого тоже звали Жан. Жил он на краю села, был немой и хорошо играл в шахматы. Там, в маленькой грязноватой избенке, и прокоротали они время до вечера.
Два Жана познакомились, а потом и подружились еще в то время, когда к Араюму приехала в интернат мать и одно время снимала угол в этом убогом жилище, хозяевами которого были женщина–солдатка и ее немой сын–подросток.
Сейчас немой радостно мычал и угощал ребят морковным чаем, наивкуснейшими парёнками и играл с ними по очереди в старенькие облупленные шахматы. Вместо короля на доске стоял аккуратно выструганный деревянный цилиндрик с вделанной сверху винтовочной пулей. «Это дядька Трифон, сосед наш, привез. Он с батей моим вместе воевал. Сильно его поранило. Под Ленинградом. Говорит, этой пулей батю убило…» – написал немой огрызком карандаша на старом, пожелтевшем от времени мятом обрывке газеты. Видать, другой бумаги в доме не было.
Потом немой стал учить их азбуке на пальцах, а точнее – разговору, и Араюм с Петькой запомнили несколько самых обиходных выражений.
Но больше ребят занимали парёнки. Это были особым образом запаренные и затем высушенные в русской печи кусочки моркови и свеклы. Почти черные, твердые и сморщенные, во рту они быстро размокали и казались очень вкусными, ароматными и сладкими.
Немой Жан охотно объяснил ребятам, что такие парёнки можно купить почти в каждой избе – полтора–два рубля за стакан.
На прощанье он дал ленинградцам по кусочку черной жвачки, которую местные варили из бересты. Жевать ее можно было несколько дней кряду, пока не надоест, и, как опять же объяснил хозяин, продавали ее многие по цене три рубля за комочек величиной с треть спичечного коробка.
Петька и Жан Араюм все это приняли к сведению, так как теперь ребятам все чаще стали приходить по почте не только письма, но и небольшие денежные переводы. Правда, деньги хранились у воспитательницы, но по воскресеньям те, кому был адресован перевод, получали по пятерке, а то и по червонцу и могли тратить свои рубли на «дополнительное питание», как говорила Надежда Павловна.
От немого двинулись часов в семь. Было уже темно. Свет шел только от снега, от сверкающих голубых сугробов.
Сверху и со всех сторон налетал ветер. Уже не пуржило – завывала, захлестывала и сбивала дыхание начинающаяся вьюга.
– И-ишь разгулялась? – сказал Петька. – А дома сейчас тепло, наверное. Приду – сразу к печке. Отогреюсь и делом займусь.
– Каким делом? – поинтересовался Араюм. – Стихотворение одно я сочинил, – сказал Петька. – Надо записать, пока не забыл.
. – Ты, Петя, легкомысленный какой–то, неопределенный, – серьезно, как взрослый, сказал Жан Араюм. – Моя мама говорит, что теперь всякими там Пустяками заниматься не время. А у тебя то сказочки, то стишки. Ерунда все это.
– А ты послушай, Жан. Только поймешь ли, о чем я хочу…

И Петька Иванов, затащив Араюма за громадный сугроб, чтобы хоть немного защититься от обжигающе морозного ветра, даже не отдышавшись, начал:
Мороз такой, что с лёта
Серым камнем Упал в сугроб
Застывший воробей,
А мы окоченевшими руками
Швыряем в небо сизых голубей!
И, звонко–звонко хлопая крылами,
Они уходят в солнечную высь
И кружат у людей над головами,
И турмана заманивают вниз…
Ребята побросали рукавицы,
Свистят взахлеб, засунув пальцы в рот,
Но гордая, стремительная птица
Никак за нашей стаей не идет!
Все выше,
Выше
Вьется турман белый,
Выписывая чудо–виражи…
И мы должны
Уметь вот так же смело,
Вот так крылато
И красиво
Жить!
Ну что, Араюм? Плохо разве, а?
Жан посопел–посопел и сказал рассудительно:
– Воробьи, соловьи, голуби, птахи там всякие. Одно перо! Вот матка меня картохой накормит – это да-а… А ты стишки сочленяешь!
– Сочиняю, – поправил его Петька и грустно вздохнул.
Увязая в сухом сыпучем снегу и чуть ли не пололам согнувшись от встречного ветра, они продолжали свой путь к интернату. И когда выходили на главную улицу, вдруг услыхали сквозь метель бодрое и многоголосое:
Эх, махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой,
Потом тяжелый шаг многих людей. И вот из снежной мути проступила темная движущаяся масса…
Нет, это были еще не солдаты. Это шли призывники, молодые сибирские парни лет семнадцати. Они учились «ходить», а чтобы веселей было и теплей – пели маршевые песни и крепче прижимали к плечу деревянные учебные винтовки: приклад – дерево, ствол – дерево, штык – дерево, и все – дерево. Но скоро, уже скоро у них будет настоящее оружие! Еще день–два и – по ваго–о–на-а–а–ам!..
– Во, это песня! – оценил Аракш. – А ты про птичек,
– Дуй куда дуешь! – огрызнулся Петька. – И зачем я с тобой связался?
Больница
Петька уныло окидывает тоскующим взглядом залитое ярким солнцем помещение.
Все ушли в школу. Пусто и просторно в большой комнате, уставленной топчанами с аккуратно заправленными постелями. На одной из них лежит и скучает он, Петька Иванов. У него беда – ящур, да и с ногой что–то неладное не согнуть, не разогнуть, и боль в коленке дикая.
А посреди комнаты, в освещенном солнцем квадрате, на грубо сколоченном табурете сидит Толька Дысин, ехидно щурит карие глаза и даже язык Петьке показывает: мол, и мне не очень–то сладко, однако же я «ходячий», а ты вот лежишь…
Медсестра, Гривцова Ольга Ивановна, одной рукой держит Тольку за ухо, а другой льет ему в ушную раковину какую–то жидкость. Обратно из Толькиного уха пузырится пена.
У Тольки в ухе воспаление, и лечит его Гривцова то камфорой, то перекисью водорода, а то и тем и другим вместе.
Дысину и больно и не больно – не поймешь: нос морщит, но сидит спокойно, не дергается.
А вот Петьке совсем нехорошо. Весь язык, десны и даже гортань в мелких нарывчиках… Слюну сглотнуть, языком шевельнуть – ой–ой–ой!.. Да еще нога, будь она неладна!
Кончив промывать Толькино ухо, Гривцова подошла к Петьке с какой–то черно–малино–фиолетовой жидкостью в пузырьке.
– Ну–ка, молодой человек, открой рот! Да-а… Потерпи, милый, не дергайся…
Окуная в темную жидкость палочку с намотанной на конце ваткой, она стала смазывать Петькины ящурные нарывчики во рту. Было больно, противно и сильно жгло. Страшно тошнило от этой процедуры, но Петька терпел, хотя и пускал слюну и из носа текло.
Так длилось много дней. Постепенно вместо язвочек у Петьки на языке, в гортани и на деснах остались одни лишь шероховатые вьяминки – прижигания помогли.
Но с ногой по–прежнему было плохо: она не сгибалась и не разгибалась, а застыла в полусогнутом положении. И Петьку положили в больницу, отдали в руки хирурга Владимира Эммануиловича Мануйлова. Это был великолепный человек и большой специалист. Однажды в больницу привезли на телеге женщину – бык вспорол женщине рогами живот… Дело было к ночи, темно, и Владимиру Эммануиловичу пришлось делать сложнейшую операцию при неярком свете керосиновых ламп, но женщину он все–таки спас!
Вот к какому замечательному врачу посчастливилось попасть Петьке.
Но и Мануйлов долгое время не мог понять, что же приключилось с Петькиной ногой.
Каждое утро появлялся он в палате, долго ощупывал мальчишечью ногу, массировал ее, осторожно нажимая на колено, пытался разогнуть, но ничего из этого не получалось, – Петька только морщился от боли, а нога оставалась полусогнутой.
Делать операцию колена, не зная причины заболевания, Мануйлов пока отказался. «Это никуда не уйдет, – сказал он главному врачу, – попробуем сначала другое», – и назначил Петьке ежедневное прогревание колена горячим песком и массаж. «Почаще пробуй разгибать ногу, помогай себе руками, – сказал он Петьке, а Надежде Павловне при встрече сообщил: – Похоже, что стянуты сухожилия. Но почему? Если колено у мальчика разработать не удастся, придется прибегнуть к силовому распрямлению ноги и наложить гипс. Но у нас гипса нет – война, понимаете сами. Постарайтесь поэтому где–нибудь достать…»
Скучно и вяло текли дни в больнице. Книжек не было, да и читать не очень хотелось. К тому же рано темнело, а керосиновая лампа горела только на столике у дежурной сестры. Поговорить тоже было не с кем: в палате на четыре койки лежали всего лишь двое – сам Петька и заросший седым волосом грузный человек с оплывшим лицом – дед Илья, помирающий от грудной жабы и еще от чего–то; он все время хрипел, тяжело дышал, и ему было не до разговоров. Только иногда он с трудом произносил: «Эх, пивка бы…» – и слышалась в его сипящем голосе тоска несбыточного желания.
«Бредит он, что ли? – непонимающе думал Петька, с уважительным страхом глядя на умирающего. – Откуда сейчас пиво–то?..» Сам он еще никогда пива не пил и вкуса его не знал, но слышать о нем слышал и видеть видел.
Вскоре старика перевели в другую палату – маленькую, полутемную комнатенку, где стояла всего одна койка. Больше деда Илью Петька не встречал…
Два дня он скучал в одиночестве, а на третий в палате появился новый больной.
В то утро Петька, позавтракав стаканом молока и пирогом с морковью, подковылял к окну и от нечего делать стал смотреть на больничный двор, отгороженный от улицы обыкновенным деревянным плетнем, невысоким и кое–где покосившимся. Вот на заснеженную поленницу опустилась стайка красногрудых, снегирей. Птицы повертели головками туда–сюда и упорхнули куда–то. Вот через дорогу перебежала черная кошка, и какая–то тетка суеверно остановилась, даже сплюнула в сердцах.
А вот несется по улице, задорно вскинув голову, известный всему району вороной жеребец военного комиссара, впряженный в легкие саночки, в которых сидят двое – комиссар в овчинном полушубке худощавый мужчина в тулупе, наброшенном на плечи поверх шинели…
Но куда это они? Неужели в больницу? Так и есть, санки завернули в больничный двор и остановились у крыльца.
Разгоряченный бегом, вороной все еще вздергивал головой и перебирал на месте ногами, словно пританцовывал, а военком помогал своему спутнику вылезти из санок.
Худощавый скинул в санки с плеч тулуп и остался в шинели. Петька разинул рот: военком был как военком, а на плечах у худощавого сверкали погоны.
Это был первый человек в форме советского офицера, которого увидел Петька. Кроме нескольких военкоматовских, других военных в Бердюжье не было, а те, очевидно, еще не получили новую форму. Поэтому так и поразили Петьку погоны…
Тяжело опираясь на толстую суковатую палку, спутник комиссара поднялся на крыльцо.
В палате он появился не скоро и уже не в форме, а в сером больничном халате, надетом поверх нательного белья. Дежурная сестра помогла вновь прибывшему лечь, спросила, не надо ли чего, и вышла.
– Ну, давай знакомиться, – улыбнулся офицер и протянул худую, но крепкую в рукопожатии руку. – Лейтенант Василий Ахнин.
– Петя, – представился Петька и для полного порядка добавил: – Иванов.
…Голубоглазый, с белесым вьющимся чубом над высоким лбом, Василий Ахнин был очень молод. Сейчас, без военной формы, без погон, он казался совсем юношей и понимал это. Поэтому, когда Петька обратился к нему: «Дядя Вася…», – Ахнин сказал:
– Ну какой я тебе «дядя»! Тебе сколь годков–то?
– Тринадцать.
– А мне двадцать… будет. Так что не дядя, а, скорей, брат я тебе по возрасту. Поэтому зови меня Василием, а то и просто Васей…
В первый вечер поговорили немного. Василий Ахнин рассказал, что под Сталинградом был тяжело ранен («осколок, понимаешь, легкое продырявил, а пуля в ногу угодила, кость повредила шибко»), что после госпиталя отпустили его домой («для полной поправки, ан опять беда – рана на ноге открылась, загноение пошло, и теперь без новой операции никак не обойтись – кость надо скоблить»), что местный комиссар – великолепный мужик («о человеке хорошее беспокойство имеет, сам в больницу привез»).
Петька откровенно рассказал Василию Ахнину, как ошарашили его офицерские погоны, которые он увидел впервые, – непривычно это было, – а потом спросил, страшно ли идти в атаку.
Страшно, – сказал Василий. – Только врагам страшней. На чужой земле они! И нету у них с нашей землей никакой связи, разве что могильной… Мы их теперь здорово лупим, ба–а–альшую юшку пускаем!
Рана у него сильно болела («две ночи из–за проклятой не сплю!»). Он позвал сестру, попросил снотворного и вскоре уже спал, лишь стонал иногда во сне.
На другой день Владимир Эммануилович сделал лейтенанту операцию.
– Теперь долго не залежусь, – сказал Василий Ахнин Петьке. – Только вот пугает хирург: говорит, кость после скоблежки тоньше лепестка стала, отвоевался, мол. Ну да это мы еще посмотрим!
Василий поправлялся быстро – рана затягивалась, температура спала, его больше не лихорадило.
А Петькииа нога по–прежнему «не хотела» разгибаться, и в больнице не было гипса…
– Что же делать с тобой, герой? – спросил во время очередного обхода Мануйлов. – Кажется мне, у тебя нечто нервное. А откуда у тебя, у мальчишки, это? Ну-с, разденься–ка: посмотрим тебя еще разик – снизу доверху и наоборот!
Петька послушно снял кальсончики и рубашонку. Василий Ахнин подшучивал:
– Вот это по–солдатски! Не ломайся, не стесняйся…
Владимир Эммануилович вертел Петьку и так, и сяк, и вдруг скомандовал:
– Замри, мальчик! Не крутись!
Прохладные пальцы его побежали по Петькиной спине, остановились чуть ниже правой лопатки.
– О! Я так и подумал!.. Больно тебе? – И хирург нажал большим пальцем на припухлость на тощей мальчишечьей спине.
Петька охнул. Ему стало дико больно в том колене, которое «не хотело» разгибаться, и в то же время нога дернулась, распрямилась на миг и снова вернулась в прежнее полусогнутое состояние.
– Теперь все понятно, дорогой Петя! – обрадовался Владимир Эммануилович. – Я сделаю тебе небольшой разрез под, лопаткой, и будет полный порядок. Радуйся, Петя!..
Петьку бил озноб. Значит, резать? Операция?
Но он быстро взял себя в руки, подумал: «Василию вон как больно было, и то ничего – стерпел. Как–нибудь и я выдюжу…» '
– У тебя, молодой человек, – говорил между тем Мануйлов, – бо–о–олыпущий жировик под правой лопаткой. Даже не жировик, а… ну… вроде фурункул, который растет вниз. Тебе понятно? Он давит на нервный узелок – и весь тут секрет. А от этого узелочка идет нерв к твоей ноге. Вот причина и следствие! Наконец–то все стало ясно!.. Резать! Только резать этот дурной бугорок, молодой человек!
Петьке от этих восклицаний хирурга совсем холодно стало и противно заныло, занудило в коленке больной ноги.
Утром Василий Ахнин подбадривал:
– Ты же, дружок, ленинградец. Ну чего трусишь, как заяц? Не косой, чай, и не трясогузка! Эка невидаль! Подумаешь, по коже тебя чиркнут! Да и в самом деле: ни черта ты не увидишь – на спине ведь! Так чего ж ты боишься?
И Петька взял себя в руки. Нельзя бояться, стыдно будет перед лейтенантом Василием Ахниным, которому под Сталинградом осколок снаряда грудь пробил…
И настал Петькин час.
Перед обедом к нему подошла старенькая тетя Нюша, она же медсестра, легонько провела сухонькой ладошкой по голове и сказала: «Ну, пошли, Петух!..»
И Петьке Иванову стало тепло и ласково на душе. Он спокойно вошел в большую светлую комнату с белыми стенами, влез на белую высокую табуретку, а с ней перебрался на узкий, белый же стол – так велел Владимир Эммануилович.
Солнечный луч, проникший в окно, отразился от застекленной дверцы маленького шкафчика с какими–то пузыречками и «зайчиком» прыгнул на Петькико колено. Петька попробовал поймать «зайчика», но услышал строгое: «Сиди смирно!» – и замер, напряженно.
Владимир Эммануилович стоял за Петькиной спиной. Он потер чем–то холодящим под угловатой мальчишеской лопаткой, и вдруг резкая боль полоснула Петьку по спине и вонзилась в колено; нога часто и мелко–мелко задергалась. «И–и–и-ах!» – взвизгнул он и ухватил колено обеими руками.
Боль утихала, сердечко успокаивалось, и Владимир Эммануилович засовывал Петьке под кожу, в ранку, кусок стерильного бинта – тампон. Операция была закончена.
– И это всё? – удивился Петька.
– Всё! – радостно улыбнулся Мануйлов. – Тампончик вскоре вынем, сделаем две–три перевязочки – и забудешь про больницу. Оставляю тебе и язык, и голову, и ноги, – пошутил он.
В палату Петька вернулся пошатываясь (силенки все же изменили ему), но молодцом.
– Полный порядок! – небрежно, здорово храбрясь, сказал он Ахнину. – Устал малость, – и с головой залез под одеяло. Там хоть не видно было, что защипали, потекли запоздалые слезы.
Вечером лейтенант настраивал гитару. Она была больничная, но совсем новая, потому что и больных было мало, и играть никто не умел, а кто умел, так тому часто бывало не до гитары…
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре утра,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война… —
мурлыкал баритончиком Василий, когда Петька, окончательно придя в себя и во сне потеряв боль, высунулся из–под одеяла на свет божий.
– А, привет героям! – воскликнул Ахнин. – Уже чаёк приносили! Попросим свеженького, или как?
И неожиданно Петька вспомнил умирающего деда Илью. Измученное лицо, тяжелое, хриплое дыхание и сиплый, хлюпающий голос: «Пи–и–вка бы…»
* * *
Еще через две недели Петьку Иванова выписали из больницы. Нога работала – хоть бегай, хоть пляши. Лейтенант Василий Ахнин записал ему свой домашний адрес и подарил широкий офицерский ремень. Кожаный. Подарок этот и сам Василий накрепко остались в памяти мальчишки. Навсегда.
…Когда Петька в сопровождении воспитательницы Серафимы Александровны Овцыной выходил с больничного двора, туда завернули сани–розвальни, в которых, закутанный в розовое ватное одеяло, лежал Боря Колгушкин.
– А он чего? Совсем плох? – спросил Петька.
– Совсем, – сказала Серафима Александровна. – Ты ведь понять должен был давно, с Нерехты еще…
Борька Колгушкин умер к весне, и похоронили его на кладбище за элеватором, возле интернатского картофельного поля.
Сразу за картофельным полем и кладбищем тихо шумел пригорюнившийся лес.