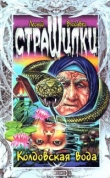Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
На новом месте
Лето тысяча девятьсот сорок четвертого выдалось жаркое. Даже очень. Гольяны в Становом и то задыхались: вода слишком теплой стала.
Чубатый подросток, лихо гикая, весело подогнал черную лошадь, запряженную в телегу, к самому крыльцу. Звали чубато–чернявого Юркой Талановым, и был он из другого, окраинного интерната, впрочем тоже ленинградского.
Теперь оба интерната объединялись: война шла к концу, и незачем было на полторы сотни мальчишек и девчонок держать полтора десятка нужных стране людей – педагогов, учителей, воспитателей. Тем более, что в школе преподавали в основном учителя из местных.
– Э-эй! Быстрей–веселей, грузи–погружай! – крикнул паренек. – Осталось что? Ерунда: доски да козлы, да пара бочек, да десяток подушек!
Рудька Шестакин, с трудом взгромождая на телегу бочку для питьевой воды, спросил:
– Конь–то хорош? И давно ты с ним управляешься? Вот у нас бык был – Соколом звали. Да на мясо забили…
– «Бы–бы», – подразнился Талан. – Был бык и нет быка? Смехота! На мясо? Надо же! Да я свою Ночку чтобы под нож позволил!
Огольцы нахмурились. Ребят из чужого интерната они знали, в школе одной учились, но всегда чурались их, потому что были те очень уж культурненькими, тихонькими, да и голубей не держали, и гольянов не ловили, и сок березовый не пили.
– Ты зря говоришь так, – сказал Вовка Рогулин. – У нас тоже Ночка была – корова. Да и ее зарезали. На мясо. Между прочим, слыхали, что половину туши вам отправили. По бедности или жадности вашей. Или чтобы ты эту Ночку, кобылу то есть, сберег, дурак!
– Но–но! – обиделся Талан.
– На кобылу свою нокай! – заругался Валька Пим. – А то толку не будет! Теперь вместе нам жить, а как тогда мириться с твоим нахальством? А?
– Да что вы взъелись? – пошел на попятную Талан. – У вас была Ночка, а у нас есть Ночка! И не кобыла она, а конь. За темную масть так прозвали…
Мир был восстановлен.
Пара колхозных быков да мерин, по недоразумению названный Ночкой, за несколько ездок перевезли нехитрое интернатское имущество.
Юрка Таланов снова повеселел. – Н–но–о! – бодро покрикивал он на впряженного в расхлябанную телегу черномастного коня под кобылячьей кличкой Ночка.
Талан оказался добрым и веселым парнем, и ребята быстро с ним подружились. Особенно Рудька: он до безумия любил животных и сейчас, сидя в катившей по пыльной улице телеге рядом с Таланом, улыбался глуповато–счастливой улыбкой.
На новом месте устроились хорошо. Объединенный интернат размещался в старом, но еще крепком двухэтажном бревенчатом доме в центре села. Школа находилась совсем близко – рукой подать. Рядом были и баня, и Среднее озеро.
Ребята подружились на удивление быстро. Старожилы помогли новеньким набить свежим сеном тюфяки, рассказали о своем житье–бытье, объяснили свои порядки.
Петьке понравилось, что все здесь жили по возрастным группам: старшие – в одних комнатах, ребята среднего возраста – в других, младшие – в третьих, а дошколята – совсем отдельно.
Петька попал в средневозрастную группу, к ребятам пятого–шестого классов. Вместе с ним в комнате их было восемь: Толя Смирнов, Володя Филиппов, Леня Муратов, Жора Янокопулло, Вова Рогулин, Толя Дысин и Жан Араюм. Трое последних – из Петькиного интерната.
В первый же день, знакомясь с новенькими, Жора Янокопулло спросил:
– У вас есть прозвища? Выкладывайте. А то мы окрестим вас по–своему.
– А у вас? – поинтересовался Петька.
– У нас есть. Мое, например, Грек. Фамилия у меня греческая, – пояснил Жора. – А у них, – он показал на своих товарищей, – прозвища немецкие. У Тольки уши большие, поэтому он дэр Эзель, у Вовки глаз косит – отсюда дас Аугэ, у Леньки носорыга здоровая – значит, он ди Назэ…
– А почему их по–немецки?.. – удивился было Толя Дысин.
– Потому что трудно давался им этот язык в школе, вот и прозвали их по–немецки, чтобы для начала хоть несколько слов назубок затвердили.
– Здорово! – восхитился Петька. – У нас все проще. Вовка Рогулин все молчит да покряхтывает. Поэтому прозвище его – Дед. Тольку Дысина Зубом прозвали. Это потому, что, когда сердится сильно, то зубы скалит. Острые у него зубы. У Жана Араюма имя интересное, поэтому, наверное, он и остался без прозвища, просто Жан…
– Ну а ты?
– А он богатый у нас! У него целых два прозвища, – сказал Жан Араюм. – Одно – Сказочник, другое – Поэт: сказок он и разных историй много знает и стишки иногда сочленяет…
– Сочиняет, – поправил Иванов.
На этом первое знакомство закончилось, потому что всех позвали на общий сбор, на котором новый директор Анна Аркадьевна говорила о том, что теперь их большая семья стала еще больше, и должны они жить еще дружнее, помогать друг другу и особенно своим младшим товарищам, так как те еще не всегда понимают, что хорошо, а что плохо. Старшие должны быть примером для малышей. Поэтому дисциплина – сейчас главное. Анна Аркадьевна верит, что дети героического Ленинграда ничем не огорчат своих мужественных отцов и многострадальных матерей, встреча с которыми не за горами…
Вечером, уже лежа в постелях, ребята, продолжая знакомство, вели длинный разговор о жизни в том и этом интернатах. Спорили, сравнивали, где лучше.
– У вас, видать, строго тут, – сказал Петька.
– Порядок – есть, строгости – нет, – возразил Леня Муратов. – Главное: не хватай двоек, не лазь в огороды, не опаздывай в столовую, не груби… А в остальном ты свободен, как птица, – гуляй сколько влезет. Малышам дальше двора уходить не разрешается, а нам можно. Только надо сказать, куда идешь.
– А старшие вас не бьют? – спросил Вовка Дед.
– Чего мелешь! – возмутился дэр Эзель. – Старшие за порядком–то и следят. Натворишь что серьезное – сами тебя к Марье Владимировне сведут… А драться – нет, не трогают. Разве что Васька Дадаев. Этот может всякое выкинуть.
– А Мария Владимировна – это кто? Воспиталка ваша, да?
– Угадал. Но теперь она и вашей будет. Тетка строгая, но справедливая. Зря не придерется. Бывает, правда, иногда…
– Поживем – увидим! – философски и несколько скептически заметил Анатолий Дысин.
В комнате было темно, лежать на пышных, набитых свежим сеном матрацах – одно удовольствие, но сон не шел. Ребята еще долго болтали бы о том, о сем, но дверь неожиданно распахнулась и раздался строгий женский голос:
– Это что за говорильня?! Кому не спится? Новеньким? Спать, мальчики! Сейчас же спать!
Легка на помине оказалась Мария Владимировна. Когда дверь закрылась, Дысин ехидно хмыкнул и напомнил забывчивым:
– Я же говорил: все они хороши!..
Белена
Ровно в восемь утра Мария Владимировна появилась снова.
– Мальчики, вы еще не встали?.. Быстро, быстро! Делайте зарядку, застилайте постели, умывайтесь. На все – двадцать минут. Завтрак уже готов.
Она вышла, и ребята, позевывая, начали вылезать из–под одеял. Дысин недовольно сморщил нос:
– А говорили: делай что хочешь, никакой строгости. А это что?
– Привыкай, привыкай!.. Все на пользу! – весело прокричал Жорка Грек и, выплеснув на себя ковшик воды, стал растираться жестким полотенцем.
Ребята оделись, застелили постели и по скрипучей деревянной лестнице с полустертыми ступенями спустились на первый этаж в столовую. На завтрак им дали по три картофелины в мундире, соль, по куску хлеба и по стакану морковного чая, на сахарине опять–таки. На добавку тоже давали чай, но несладкий – сахарина не хватало на такую ораву.
Никаких полевых работ на сегодня не намечалось, и ребятам разрешили до обеда погулять. Небольшими группками разбрелись они кто на озеро, кто в рощу, а Петька отправился проведать Матвея, которого давно не видел.
– Г|ошли на коноплю, – позвали его Рудька, Талан и Толька Лопата, но Петька отмахнулся от них: идите, мол, сами, и зашлепал босыми ногами по дорожной пыли в другой конец села.
…Лохматый, давно не стриженный, Мотька сидел на старом березовом чурбаке посреди двора, на самом солнцепеке, и занимался серьезным мужицким делом – провощенной дратвой подшивал толстым войлоком пимы на зиму. Исподлобья глянул он на входящего во двор Петьку и сказал приветливо–коротко: «Однако, пожаловал…» – но работы своей не бросил:
– Здорово, Матвей! – Петька присел на валявшееся рядом поленце. – Ты чего не приходил долго?
– Г-гы! – осклабился, повеселев, Матвей. – Аль заскучал?
– Обеспокоился. Не случилось ли чего…
– Ну, спасибо. Вспоминал, значит, – совсем обрадовался Мотька.
Он вскочил с чурбака, отнес в избу пимы, воск, дратву и, снова вылетев во двор, крикнул:
– Айда в бабки играть!
Петька помялся, переступил с. ноги на ногу, почесал пятерней в затылке.
– Не умею я, – сказал он. – Пробовал, но все проигрываю.
– Научу! – не отставал Мотька. – Сейчас хлопцы придут. Ты вначале погляди, как я играть буду. Замечай только, где пуста, а где свинцом залита…
– Пойдем лучше на болото, за Становое, – предложил Иванов. – Там вчера дымище был – ого–го! Говорят, болото горело. Посмотрим, что там…
– Знаю! Сильно горело. Сухо, чай, и жарища! Уток и всякой птицы носилось – тьма!
– Так пошли?
– Пойдем, раз в бабки не хошь…
Они шли долго, около часа. Сначала мимо Среднего озера, потом, не доходя до Станового, повернули влево, миновали березовую рощу и через небольшое просяное поле на взгорке спустились к болотистому кочковатому лугу.
Огонь давно уже заглох, но гарью еще пахло. Босые ноги захлюпали по мелкой воде – тут идти стало легче: обгорелая, сухая и жесткая болотная трава на мокрове кололась меньше.
Вокруг было много черных обгоревших кочек.
– Яйца! Глянь! – вскрикнул Мотька и нагнулся, сунув руку за пожухлую кочку.
Яйца были утиные, крупные, грязно–бело–серые. В крапинку. Пропащие яйца – насиженные уже и погубленные вчера огнем. Разбил Петька одно, разломал Мотька другое, а там утята дохлые, непроклюнувшиеся…
– Ах ты беда! – охнул Матвей. – Сколь погибло–то всего! Нету вокруг живой радости! Пошли отсюда, однако. Лучше уж в бабки играть. —
И ушли они с этого болотного пожарища…
Муторно стало Петьке и в груди защемило. Гарь напомнила ему пепелища сожженных деревень и разрушенных городов, которые он видел в кинохронике, показанной недавно в сельском клубе: на освобожденной от врага родной земле мрачные силуэты печных труб, чадящие развалины, виселицы…
И когда на экране появились вдруг слова «Смерть фашистским оккупантам!», в зале ответно загремело: «Смерть! Смерть фашистам!..»
Он шел, как лунатик, не глядя под ноги, но и вокруг ничего не видел. Он уже забыл о болоте со сгоревшей в нем живностью, мысли его были теперь не здесь, не в Бердюжье, а за тысячи километров отсюда – в далеком и родном Ленинграде.
Петька вспоминал свой дом, двор, улицу. Дом был большой, серый, семиэтажный; двор – просторный, светлый, с молодыми тополями, которые летом весело шумели на ветру зеленой листвой. И квартиру, и каждый предмет в ней он помнил хорошо, даже увидел мысленно свой самокат с красными колесами, который, оставшись без хозяина, одиноко притулился к стене в углу комнаты…
– Эй, спишь ты на ходу, что ли? – услышал он вдруг Мотькин голос. – Аль оглох?
Как во сне: было видение, и нет его. Мысли вернулись из далекого далека, и все снова встало на свое место. Опять Бердюжье, знойное солнце над головой, горячая пыль под ногами, тащится по улице коровенка, запряженная в телегу с сеном, хрюкает свинья за чьим–то забором.
Петька окончательно пришел в себя и увидел, что он уже возле элеватора, недалеко от Мотькиной избы, и Мотька рядом стоит.
– Разморило меня что–то, – сказал Иванов, – солнце, что ли, напекло?..
– Тебя, может, и солнце, а эти–то чо кособлудят? – Матвей показал рукой в сторону элеватора. – Глянь, как их мотает. Одного знаю, Рудька это. Других не припомню, да тоже ваши – ишь порточки–то, хаки!
«Хаки»… Теперь это словечко знали все – и стар, и млад. А интернатовцы особенно, потому что давно уже одели их всех в казенное: мальчишкам – брючки и гимнастерочки на военный лад, девчонкам – юбчонки, такие же зеленые.
– И что же это творится такое с ними? – растерянно развел Мотька руками. – Чего это они комедь ломают? Может, кто брагой напоил?
Петька глянул попристальней и тоже удивился: вывернув откуда–то из–за угла элеватора, навстречу им шли, спотыкаясь и что–то выкрикивая, Рудька, Юрка Талан и Толька Лопата; Лунатика и Тольку мотало из стороны в сторону. Особенно плох был Рудька: глаза выпучены, зрачки громадные, на посеревшем лице идиотская улыбка. Он шел, поддерживаемый Таланом, и бормотал слюнявым ртом нечто невразумительное: «Пять гусей на одно ведро… Три хвоста, полтора копыта», – разобрал Петька, когда ребята подошли и остановились напротив. «И–и–и-их! Во да–ет!.. Во дает!» – восторженно взвизгивал Толька Лопата.
Юрка Талан выглядел вполне нормально. Он был спокоен, и его почти не шатало.
– Вы что, конопли объелись? – пошутил Петька, вспомнив, что утром они приглашали его с собой по коноплю.
– К-конопли нет, – сказал Талан, – е-есть дикий мак! – и достал из кармана горсть мелких округлых коробок–семянок. Они были сухие, чуть продолговатые. Разломав одну, он высыпал в рот мелкие серо–черно–коричневые семена, а остальные протянул Петьке и Матвею: – Угощайтесь!
– Дурачье! – заорал вдруг Мотька. – Нету здесь никакого дикого маку. Белены они нажрались, вот что! Как ты–то еще разум не потерял? – повернулся он к Талану. – Двое дружков–то твоих уже поотравились, соображай!
– Они еще маковый корень ели, но мне он не понравился, хоть и сладкий, белый такой…
Матвей ахнул:
– Какой маковый! Беленячий! В ём же самый яд!
Рудька уже не бормотал, а мычал что–то, свалившись в бурьян под забором; Толька перестал выкрикивать «во дает!», сидел рядом на земле и, закрыв глаза, мерно раскачивался из стороны в сторону.
С Юркой Таланом тоже стало твориться что–то неладное: взгляд у него потускнел, лицо из добродушного сделалось злым, он пристально всматривался в Матвея и Петьку и, было похоже, перестал их узнавать.
– Что же делать? – спросил Петька. Он был напуган и растерян. – В интернат бежать?
– Беги! В больницу их надо–ть. У вас лошадь есть!.. Живо беги! – приказал Мотька.
– Стой! – раздался вдруг голос Юрки Талана. – Не убежите! – Он больно лягнул Петьку в живот и с криком «Бей фашистов!» остервенело вцепился опешившему Матвею в горло.
И откуда только такая сила взялась! Прежде чем Талана удалось, сбив с ног, прижать к земле и, вывернув ему руки за спину, связать их Мотькиным сыромятным ремешком, он успел обоим наставить синяков и раскровянить носы.
– И этот готов, – тяжело отдуваясь, заключил Матвей. – Вот что такое белена, паря! А теперь – дуй за подводой. Я тут покараулю…
Новый друг
Незадачливые любители «мака» вернулись из больницы через две недели бледные и осунувшиеся. Несколько раз промывали им желудки, а потом выдерживали на строгой диете, пичкали всякими порошками. Ребята словно повзрослели, долгое время ходили тихие и задумчивые: понимали, что еще легко отделались. Правда, не так уж и легко и не все трое – Толька Лопата, например, стал плохо видеть.
Воспитатели их не ругали, не упрекали – жалели. Да и поздно после драки кулаками размахивать.
Однажды Талан подошел к Иванову и спросил робко:
– Говорят, что я от той белены действительно взбесился и тебе попало немного… Тебе и одному местному. Правда это?
. – Ничего себе «немного»! Чуть глаза не повыцарапал да и нос набок. А Матвея задушил почти. Еле мы тебя скрутили.
– Ты вот что, Петя: прости меня. Хочешь – тоже по носу дай. И дружку своему скажи, местному: просит, мол, Юрка Талан прощенья.
– Да ты что, Талан! Какое прощенье! Если б я белены нажрался, то неизвестно еще, чего бы натворил! Тут у каждого в голове затмение получится. И как это вас угораздило?
– Откуда мы знали, что это белена? Попробовали – есть можно. Рудька говорит: наверное, мак дикий, сибирский. И коробочки, и семена в них на мак похожи, только в уменьшенном размере. Ну мы и…
– Ладно, Талан, хватит про эту отраву. Одного не пойму: чего тебе фашисты примерещились?
Юрка помрачнел, потер лоб и сказал тихо:
– Не знаю… Оттого, может, что думаю о том, что они творят на земле нашей! Подушил бы их всех своими руками!.. Мать в блокаду умерла, а недавно они отца убили… Даже во сне ненавижу их!
– А у меня брат погиб. В танке сгорел, – сказал Петька. – Я этих гадов тоже бы… Только не руками – противно….
С этого разговора началась дружба Петьки Иванова с Юркой Талановым. И крепла она день ото дня.
На правах старшего Талан взял Петьку под свое покровительство. Он вступался за него не только перед ребятами, но и перед воспитателями. Он был трудолюбивым парнем, честным, с открытым сердцем, и если кого о чем просил, ему не отказывали.
Как–то утром, когда ребята толклись в коридоре и на лестнице в ожидании команды на завтрак, Талан отозвал Иванова в сторонку:
– Сегодня после завтрака большой аврал намечается. Слышал?:
– Слышал. Клопов будем кипятком шпарить.
– А мне велено сено из колхоза возить. Десять возов нам дают. Хочешь со мной? За один день, конечно, не управиться. И учти: работенка не из легких, вилами намахаешься. Зато на приволье!
Петька обрадовался. Клопы – гадость, а сделать десяток ездок за душистым сеном и каждый раз возвращаться, сидя на самой верхотуре воза, – разве это не удовольствие?
– Спасибо, Талан, – сказал он. – Но отпустят ли меня?
– Отпустят. Я уже договорился.
…Генеральная уборка началась часов в десять. Работали здорово. И весело. Смех, шутки разносились по всему интернату. С хохотом и грохотом тащили мальчишки деревянные топчаны, расставляли их по двору, бегали на кухню за крутым кипятком и щедро выплескивали его на свои дощатые ложа.
– Да не носитесь вы как угорелые! Ошпаритесь! – беспокоилась Мария Владимировна.
Девчонки тем временем, вооружившись голиками и тряпками, усердно терли и мыли полы в коридорах и комнатах.
Когда Талан и Петька привезли первый воз сена, генеральная уборка была еще в разгаре; когда сваливали пятый, ребята уже вносили топчаны обратно, а посудомойка – мать Жана Араюма – кричала из дверей кухни: «Мальчики-и! Убедать!..» – она всегда так смешно звала на обед.
Талану и Петьке предстояло сделать еще пять ездок. Наскоро пообедав, они снова забрались в телегу и отправились в путь.
Мерин неторопливо трусил по мягкой от пыли наезженной дороге, пригревало солнце, и все вокруг было тихо и спокойно. Клонило в дрему.
Подъехав к стогу, с которого брали сено, решили с полчасика соснуть, а уж потом со свежими силами взяться за вилы.
Выпрягли коня, спутали ему ноги, надергали сена и улеглись под стогом с теневой стороны.
Назойливо стрекотали кузнечики, два степных орла величаво плыли в высоком небе, то расходясь в разные стороны, то вновь сближаясь; от земли шел пряный дух, и ребятам было хорошо и блаженно.
– Тишь–то какая! – воскликнул Талан. – Даже не верится, что война где–то…
– «Рвутся снаряды, строчат пулеметы…» – вполголоса пропел Петька.
– Ты чего?
– Так. Вспомнилось… – Иванов зевнул, повернулся на бок и закрыл глаза. Сон теплой волной накатывал на него. – А войне скоро конец. Фашистов–то повсюду погнали, – пробормотал он, засыпая. – Вон уже и Белосток наши взяли, и Брест…
– А Гитлера, наверно, в клетку посадят, – мечтательно, сонным голосом проговорил Талан. – Или как, по–твоему?
Но Петька ему не ответил. Он уже спал, и легкий ветерок тихонько шевелил его выгоревшие на солнце волосы.
Вскоре уснул и Юрка.
Черный мерин появился из–за стога, глянул на спящих ребят умными, добрыми глазами, постоял–постоял, словно обдумывая что–то, затем лениво обмахнулся хвостом, тяжело скакнул два раза в сторону и тоже лег.
Проснулись друзья, как и заснули, почти одновременно. Глянули на небо – и ахнули: солнце уже садилось. Сена старались взять побольше: понимали, что сегодня им уже сюда не возвращаться – поздно будет. Работали так, что, несмотря на предвечернюю прохладу, изрядно взмокли.
Пока впрягали в телегу Ночку, совсем свечерело, на потемневшем небе проклюнулись первые звезды.
Устроившись поудобней на душистом сене, Талан подобрал вожжи, причмокнул и весело крикнул: «Н-но, родимый!»
Хорошо отдохнувший мерин чуть напрягся, тронул воз с места и уверенно потянул его знакомой дорогой к дому.
Темнело все больше. Небо из серо–синего стало сине–черным, и уже не отдельные звездочки, а целые звездные миры смотрели сверху на припозднившихся ребят. Всходил месяц, в селе полаивали дворняги и тусклыми огоньками керосиновых ламп светились окна изб.
Сорвалась и покатилась по небу звезда, потом еще одна, еще…
– Звездопад, – сказал Петька. Голос его прозвучал тихо и глухо. – Старые люди говорят: когда человек умирает, то с неба падает звезда, а когда рождается – загорается новая. Только я ни разу не видел, как появляются звезды, а эти вот падают и падают… Наверное, где–то гибнут сейчас наши солдаты в бою, гаснут их благородные сердца…
– Красиво ты говоришь, – отозвался Талан, – будто легенду рассказываешь. Только заупокойно как–то.
– Не спеши! Я не договорил еще. – И Петька продолжал: – Падают звезды, но их не становится меньше. Смотри, сколько их сияет! Значит, встают новые бойцы и нет им числа!..
– Я с призывниками говорил, – сказал вдруг Талан, – из местных. Сейчас берут в армию семнадцатилетних. А мне семнадцать через два года только будет… – Он вздохнул, натянул вожжи и крикнул: – Тпррру! Слезай, приехали!
Разгружать сено в темноте не стали – могли друг друга вилами задеть, а свалить воз, перевернув телегу, самим было не под силу.
Выпрягли лошадь, поставили в конюшню и направились на кухню: хотелось есть, а на ужин опоздали.
В коридоре встретили Марию Владимировну.
– Где вы пропадали, мальчики? Почему так поздно? – спросила она встревоженно. – Вас уже искать хотели!..
– Колесо в колдобину попало, воз опрокинулся, – сочинил на ходу Петька.
– Пришлось повозиться, – горячо поддержал его Талан.
– Вы не все сено перевезли?
– Не успели, Мария Владимировна. Завтра надо будет еще раза четыре съездить.
– Ну ничего, ничего… Завтра я других пошлю. Вам и сегодня досталось. Идите в столовую, ужин вам оставлен.
В столовой было непривычно тихо и полутемно, – из кухни через открытую дверь падал неяркий свет пятилинейной лампы. Повариха была еще на месте. Дежурные девочки – Валя Куландина и Тамара Трегудова – помогали ей расставлять по полкам вымытые и вычищенные чугунки, кастрюли и миски.
– Тетя Ася, сеновозы пришли, – сказала, словно пропела, Валя Куландина, первая заметившая ребят, и, как показалось Петьке, кокетливо улыбнулась ему. Именно ему, а не Юрке Талану.
– А, работнички! Сейчас мы их покормим, – заулыбалась тетя Ася.
Она дала Петьке и Талану по два толстых блина из гороховой муки, по морковной котлете и большой кружке чаю. Чай был еще горячий, очень ароматный и на удивление сладкий.
– Хороший чай, – сказала тетя Ася. – Всем с сахарином давала, а вам с настоящим сахаром! Так директор велела, вы больше всех работали.
Ребята смутились. «Больше всех работали…» Проспали почти полдня – вот как они работали!
Расправившись с ужином быстрее обычного, они поспешили уйти.
– Может, еще чаю? – спросила повариха.
– Жарко у вас тут, – сказал Талан, вставая. – И так взмокли. – Щеки у него горели.
– Спасибо за ужин, – поблагодарил Петька. – Мы пойдем.
Поднявшись на второй этаж, где жили подростки, Петька сразу почувствовал: интернатский народ чем–то взбаламучен. По коридору туда–сюда шныряли пацаны с лицами заговорщиков; девчонки, собравшись группками, о чем–то шептались и тихонько хихикали. Прошла Адель Григорьевна: «Марш, марш по комнатам, дети. Давно пора спать…»
Талан флегматично посмотрел по сторонам и ушел в свою комнату, к старшим, а Петька, удивленный непонятным шмыганьем и перешептыванием в коридоре, пожал плечами и отправился к себе. Ему чертовски хотелось поскорее завалиться в постель: все–таки устал сегодня по–настоящему, хоть и поспал днем на сене.
В комнате все ребята были в сборе. И уже пододеялами. Но не спали.
– Явление последнее! – громко хохотнул Жорка Янокопулло. – Как тебе это нравится? Подумаешь, расквакались!
– Кто? – спросил Петька, плюхаясь на топчан. – Кто расквакался и что мне должно нравиться?
– Да все эти фигли–мигли…
– Он же не в курсе, – сказал Ленька Муратов. – Он сено жевал!
– Ну вас к черту. Петька начал раздеваться. – Шебуршите, как тараканы, а у меня руки болят и спина тоже. Что у вас тут – всеобщее сумасшествие? Или незнакомый клоп укусил?
– Они по–о–пались! – ехидно проблеял из–под одеяла Жорка и задрыгал ногами, отчего оно сбилось ему на голову и он заглох.
– Влипли, – уточнил баском Жан Араюм. – Не повезло, – буркнул Вовка Рогулин.
– Трепачи, – разозлился Иванов. – О чем вы? Кто влип и во что? Ничего не понимаю. Можете вы объяснить по–человечески?
– Юрке Смирнову уже с полчаса у директрисы шею мылят. Говорят, он Юльку из девятого «А» целовал… Кто–то увидел и разболтал. Вот и влип Смирнов. Теперь попробуй вылипни!..
В комнату вошел Володька Новожилов – одноглазый паренек из комнаты старших. Видел он неважно, зато слух имел отменный и хорошо играл на шестиструнной. Вот и сейчас у него в руках была гитара.
– Умолкни, Грек! – сказал он строго, – Не звони, когда не знаешь, в чем дело.
Новожилов прислонился спиной к прохладному железу круглой печки, взял тихий аккорд и запел грустно и чуть слышно:
Луна озарила зеркальные воды…
– Э-эх, темнота! – вздохнул он затем. – Целовались они – это верно. Так у них же любовь! Как у Ромео и Джульетты, только без смертельного исхода… Лю–бовь, – повторил он по слогам нежно и осторожно, будто боялся забыть это слово. – А. вы «ха–ха» да «го–го». Понятия у вас нет!
У Петьки «понятие» было. «Я ведь тоже люблю, – думал он, засыпая, – только мне никогда не приходило в голову попробовать поцеловать ее. Мне всегда было уже хорошо оттого, что она рядом и разговаривает со мной. Наверное, это совсем не обязательно – целовать, когда любишь…»