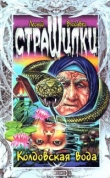Текст книги "Вдалеке от дома родного"
Автор книги: Вадим Пархоменко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Ух, и холодная же вода была в тот день в Становом! Сводило не только мышцы рук и ног, но даже челюсти. «Ужасть!» – сказал Миллер.
Но, окунувшись несколько раз, ребята к холодной воде привыкли, а точнее – притерпелись.
Окунаться – почти нырять – надо было потому, что «сладкий корень» оказался не чем иным, как длинным «корневищем» (донным продолжением) тростника, растущего только на Становом. Это «продолжение» представляло собой сочные, хрустящие, бело–розовато–желтоватые, полые, внутри трубки с перемычками, как у бамбука. Надо было лишь набрать в легкие побольше воздуха, присесть в воду и минуту или полторы, пока хватит духу, поковыряться в песке, подкапывая сладкий тростник; потом следовало высунуть голову из воды и, отдышавшись, снова погрузиться в воду и потянуть за корень. Все это не представляло большого труда, так как дно Станового озера было песчаное и, подкопав тростник, можно было сравнительно легко тянуть этот метроводлинный бело–хрустящий «хвост».
Ребята ликовали: Мотька не обманул. Тростник действительно оказался сладким.
Ура Мотьке, лохматому гению! Белые трубки–корни вкусно хрустели на молодых зубах, ребята блаженствовали, и сердца их таяли, как почти забытый сахар… Ура Мотьке!
– А то я вам говорил! – радовался Матвей. – Голодать не будете! Лук–от полевской ели? Ели. За милую душу. Саранки – тож. Ну да просо – не в счет! Теперь вот солодкий корень… Хрупайте! Будьте ласковы! Это же наше Станово, не я, угошщат!
– Вкуснотища, братцы! – взвизгнул, подпрыгнув, Петька и, пуская пузыри, снова скрылся под водой.
– Про то и толкую, что вкусно, – широко заулыбался Мотька.
Вскоре ребята почувствовали, что животы у них начали раздуваться от разной растительной пищи, и, набрав про запас сладких корней тростника, вернулись в свой шалаш на берегу Среднего озера – сторожить просо. Там, сытые и довольные, заснули они под тихо шуршавшими на ветерке просяными метелками. Матвей только руками развел и вздохнул:
– Э-эх, слабые, однако! – и неторопливо пошел в село.
Голуби
Было похоже, что Мотька не только заинтересовался интернатовцами, но и взял над ними самодеятельное шефство: подарил Бобика, а наутро явился с парой голубей – маленькой сизой голубкой и крупным коричнево–бело–пестрым голубем.
– Не спариваются чегой–то. Дайте ему белую – толк–от будя, – объяснил Матвей.
Так оно и получилось. Выменяли братья Шестакины у заядлого здешнего голубятника по прозвищу Клоп белую голубку, Белянку, за два брючных ремня, и пришлась она Рябчику (так назвали коричнево–пестрого) в пару, А маленькую сизарку отдали тому же Клопу за кринку ржи – надо же было с чего–то начинать голубиное хозяйство!
Начали с того, что Белянке и Рябчику туго перевязали маховые перья и пустили эту великолепную парочку на крышу – пусть осмотрятся, ознакомятся и с крышей, и с домом, и с двором, да и со всем прочим вообще – связанные маховые не дадут улететь.
День за днем ворковали Рябчик и Белянка на крыше. То замрут рядышком, то пригладят друг другу клювами перышки на шее, то завистливо застонут, глядя в ясное небо, где другие голуби вытворяли черт знает что в прохладной голубизне: кувыркались через голову, падая почти до самой земли, потом снова взмывали и, звонко–звонко похлопав сильными крыльями, шли корабликом на приземление, но вдруг, словно раздумав, опять поднимались к солнцу и затевали головоломные игры в сияющей лазури неба.
Грустно было Рябчику и Белянке в такие минуты. Птицы отворачивались друг от друга, прятали головы под крыло и замирали, чутко прислушиваясь к тому, что творится наверху – там, в высоте. А когда совсем уж становилось горько и обидно за связанные крылья, поворачивались Рябчик и Белянка спиной ко всему белому свету и уходили через слуховое окно на чердак, туда, где зимой спал когда–то у теплой печной трубы Юрка Шестак, а Шахна вырезал из осиновых сухих чурбашек танкетки и самолетики.
Вскоре Белянку и Рябчика на несколько дней поместили в деревянный ящик – их спаривали, а потом им снова предоставили свободу.
Шли дни. И вот однажды в гнезде у Белянки появились три бело–голубеньких яичка. К тому времени ребята заимели еще пару голубей – это были сизари. Их тоже подержали на крыше дней пять–шесть со связанными маховыми перьями, но трижды в сутки тугие шпагатные узлы распускали, чтобы не попортить летунам крылья.
Сизарей скоро начали гонять. Выше их, лучше их, красивее их, а главное – вернее летал только Рябчик. Теперь он никуда не мог уйти: Белянка высиживала его потомство.
Как только где–то в поле зрения появлялась чья–то стая, сизарей швыряли вверх. Они соединялись с чужаками и начинали водить в небе хоровод. Ребята замирали: кто кого уведет? И если чужие голуби начинали уводить к своей голубятне интернатских сизых, тогда Николай Шестаков, признанный голубиный командир, легко и спокойно выбрасывал в небо Рябчика. Тот быстро и прямо настигал стаю, играючи рассекал ее, словно сокол, и начинал свое воздушное соло: то коснется в полете крылом красивой и молодой голубки, то, как бы нечаянно, собьет с пути вожака стаи, то закружит всех в бешеном хороводе, а сам незаметно, потихоньку да полегоньку, ведет стаю все ниже, все ближе к дому, туда, где ждала его Белянка.
За какие–нибудь десять дней Рябчик посадил на интернатскую крышу или приземлил прямо на утоптанный двор шесть чужих голубей. И притом не худших. Заманивать их на чердак, служивший временной голубятней, или в сени, дверь которых распахивали заранее, было делом второстепенным, хотя и трудным.
Помогало зерно. А голуби, как правило, были голодные.
Когда чужаки, ведомые Рябчиком, шли на посадку, Колька Шестаков снимал с гнезда Белянку и, держа голубку в ладони, распускал бело–черное крыло ее и помахивал им. Рябчик, завидев любимую, резко пикировал. В этот миг кто–нибудь из ребят по команде Кольки быстро и резко бросал свою шапку или сложенную пополам кепку в распахнутую дверь сеней. Наверное, голубям казалось с высоты, что это – голубка, и один или двое из них, подняв над спиной крылья, стремительным корабликом неслись следом.
Когда же они оказывались в сенях, дверь захлопывалась…
За каждого уведенного голубя хозяин платил выкуп – кринку пшеницы, или полторы кринки ржи, или две кринки гороху..
Рябчик оказался чудо–голубем. Он создал ребятам стаю, стал ее вожаком, дал ей корм и был неуводимым. Царь–птица.
Вместе с тем Рябчик был и верным другом Белянки, заботливым отцом своих будущих голубят. Когда Белянке надо было немного размяться, порезвиться в небе и зажечь в янтарно–желтых глазах солнечный лучик, она взмывала высоко–высоко, становилась крохотной снежинкой в голубом просторе, а Рябчик садился в гнездо, согревая своим телом то, что должно было вскоре стать его детьми, пока еще незнакомыми, но уже дорогими отцовскому сердцу.
За Белянку ребята не беспокоились, так же как и за Рябчика: голубка, у которой вот–вот должны появиться птенцы, никогда не уйдет с чужой стаей. Разве что это будет очень плохая голубка…
Морковь деда Баяна
Приближалась осень. Давно уже отошла в лесу земляника, даже костяника попадалась редко, а на интернатском поле отцвела картошка – скоро уже ее надо будет копать. Жесткой стала трава на лугах, зажелтели березы в роще, холодней: стала вода в Становом озере. Заметно подрос Бобик и потучнел Кабыздох.
Ребята ходили довольные: кругом огороды – ближние и дальние, еды много. Правда, от обильной растительной пищи, к тому же сырой, у мальчишек иногда болели животы. Но ведь пустой желудок – самое распоследнее дело!
Так думал Тарас, загибая ударами камня гвоздь в длинной жердинке, чтобы удобней было протаскивать через щели в огородном тыне ядреные луковицы. Похожую жердинку ладил и Петька Иванов, только к концу ее он привязал накрепко нож, сделанный из обломка косы. Это орудие предназначалось для того, чтобы срезать на расстоянии молодые капустные кочаны.
Вскоре все было готово. Но лишь только Тарас сунул жерде–гвоздевое устройство в огород Тарасенковых, как раздался голос Мотьки:
– А на кой ляд?
– Тьфу, черт, – ругнулся Петька. – Чего мелешь? Чужого жаль?
– Чужое–то оно не свое, – ухмыльнувшись, сказал Матвей. – Просо–то вы стерегли…
– Ну и что? Вали отсюда! – разозлился Бульдог. – Из–за тебя весь интерес пропадает!
– Чего уж тут интересного! – вздохнул Мотька. – Воровство это.
– Чего ты? Луковичку пожалел? Это ж самые наиразбогатеи!
– Дурные вы що! Лук–от – он рядом, везде. Не жаль! И заедливые они, Тарасенковы. Что верно – то верно. Только–от ворами обзовут вас такие. У них не берите и не просите ничего. Другой народ–от есть. Люди сами дадут иль сменяют на что… Скорее – так.
– Пошел ты откуда пришел! – взвинтился Петька. – Думаешь, подарил щенка да голубей пару, так и мешаться тут будешь?
Однако он оттолкнул Тараса от забора, показывая всем своим видом, что, рассерженный, отступает, но не сдается. Мало ли огородов вокруг!
– Не обижайтесь, ребята! – сказал Мотька. – Я ж как лучше!
– Уйди ты, благодетель сараночный! – крикнул Бульдог.
Матвей ушел. И так муторно стало вдруг Петьке, так тошно, что бросил он Тарасу под ноги свою жердинку и побрел к Буту, где когда–то пас Кабыздоха поочередно то с Пимом, то с Миллером.
– Подумаешь! – истерично взвизгнул вслед Бульдог. – Психи ненормальные! – И поскакал куда–то на своей одной ноге.
А Мотька в это время брел домой и думал: «Однако, глупые… И чего–от ум набок вертеть? Скажи им дело – ишшо обижаются!»
На осклизлом грязном берегу почти высохшего Бута, растоптанном и размазанном многочисленными свинячьими копытцами, Петька остановился и осмотрелся. Кругом были тыны, плетни, огороды. И он один…
Петька почувствовал себя таким одиноким и разнесчастным, что лег под чьим–то огородом в пожухлую траву и заплакал.
– Не могу больше, убегу, все равно убегу, – всхлипывая, повторял он.
Постепенно Петька успокаивался, и его чуткий мозг начал улавливать ритмичное и закономерное: «Не могу… убегу, убегу… блокада… Ленинграда…»
104
«Ну, конечно же, я убегу! – возникло решение, – Вот окрепну как следует и обязательно убегу! Я же об этом только и думал – и когда работал, и когда учился, и когда сказки рассказывал, и даже во сне… Добраться бы только лишь до железной дороги, а там – военный эшелон, и сильные солдатские руки втянут тебя в рыжую теплушку: «Здравствуй, браток! Ты куда – фашистов бить? И мы туда же!..»
Петька окончательно успокоился, последний раз шмыгнул носом, утерся грязным кулаком и встал. Он был очень зол на себя, на Бульдога, но не на Мотьку.
Остаток дня прошел нудно и скучно. Малыши рано легли спать, а ребята постарше о чем–то долго шептались в углу комнаты. Среди них был и Рудька. Вот он глянул на Петьку и тихонько позвал его.
* * *
…Рудьку Шестакина Лунатиком называли не зря. Он и был им. Но был он и вездесущим, и многое из деревенской жизни знающим. Он–то и сообщил ребятам, что самая великолепная, самая красивая, самая крупная, самая длинная и самая–самая сладкая морковь – у деда Баяна. Как доказательство, выложил перед ними десяток узких длинных морковин. Каждая сантиметров тридцать в длину.
– Всякая там каротель – желтенькая, розовенькая да прозрачненькая – пустяк перед этим сладким ве–ве–великолепием! – Рудька даже зазаикался от охватившего его волнения и пустил слюну.
Ребята спорить не стали, попробовали морковь и оценили: «Ого!»
Было решено: ночью навестить морковные гряды деда Баяна. Правда, Рудька все равно схлопотал по шее от брата за то, что перед этим действовал самостоятельно: «А если б-там капканы или стекло битое было понавтыкано меж гряд, дурья твоя башка!» – ругал его Юрка Шестак.
И он был прав: огороды свои сельчане охраняли довольно строго.
…В двенадцатом часу ночи почти весь интернат уже спал. Десятые сны видели дошколята, вторые, наверное, девчонки в Доме колхозника, первые – младшие мальчишки, не посвященные в предстоящую «операцию» старших. Уставшие за день, укладывались спать воспитательницы и строгая, но добрая Надежда Павловна – директор. Они, взрослые, думали о своих мужьях и братьях, идущих, может быть, сейчас в бой; думали о том, сколько детей осталось и еще останется без отцов и матерей, кому сказать, а кому нет о том, что они уже сироты (Да и как сказать!); думали о девчонках и мальчишках, жизни и судьбы которых им доверили…
А группа ребят в это время напряженно рассуждала: воспиталки уже улеглись, малыши спят, луна, как фонарь на Театральной, светит ярко. Даже очень… Пора, однако. Морковные гряды деда Баяна неблизко. Ползти надо по–пластунски через чужие огороды метров триста…
Первым откинул одеяло Юрка Шестакин. Он потянул за ухо задремавшего было брата Рудьку: пошли, мол, веди – ты знаешь куда.
Следом выскользнул через сени во двор Николай Шестаков. Дальше – как уговорились: Аркашка Шахна, Костя Луковников, Толька Губач, Яшка Линдан, Сашка Цыбин, Юрка Янюк, Петька Иванов и никакими планами не предусмотренный Валька Ним.
Предосенние ночи холодноваты, но все мальчишки были в трусах и майках, босиком: одеваться некогда да и нельзя – не будить же шумом того, кому знать ничего не положено. Но рубашки с собой прихватили, а кое–кто и наволочки – под морковь.
У Николая и Шахны были перочинные ножи, а у Вальки Пима даже электрический фонарик, который он только вчера получил в посылке от своего дяди, эвакуированного с заводом за Урал.
– Ты, Пим, фонариком баловаться забудь! – приказал ему Николай Шестаков. – Из–за фонарика тебя и взяли. Будешь светить, если в какую дырку лезть придется…
– Пош–шли, – прошипел Рудька, и ребята, перекарабкавшись через невысокий плетень за сараем, рухнули меж картофельных грядок. Немного отлежавшись в бороздах, прислушались к тишине и поползли…
Было удивительно тихо, ярко светила полная луна, и поэтому приходилось плотнее прижиматься к холодной огородной земле. «Шур–шур» – шелестела о бока картофельная ботва.
Иногда Рудька вскакивал, делал длинную перебежку и снова падал меж борозд. Его маневр повторяли вре – Лунатик был проводником.
Вскоре наткнулись на большие, но, к счастью, неширокие – всего три–четыре ряда – старые посадки подсолнуха. Это был последний рубеж перед морковными грядами деда Баяна.
– Тш–ш–ш… – прошипел в последний раз Рудька, и все, как ужи, заскользили между толстьми стеблями растений, на которых еще совсем недавно болтались тяжелые круги, утыканные семечками.
И вот она, баяновская морковь! С приятной холодноватой упругостью шла она из земли – длинная, увесистая, набухшая сладкими соками.
Ребята торопились, совали морковку за пазуху, в майки, заворачивали в рубашки, хотели взять побольше, но много унести было нельзя: тридцать – сорок штук наполнили бы ведро – такую крупную морковь выращивал старый дед Баян!
Тяжело нагруженные, ребята не могли возвращаться прежним маршрутом, потому что он пролегал через многие огороды, правда, внутри, меж собой, не разделенные заборами. Но тем более там надо было только ползти, чтобы не попасться в руки бдительному хозяину, а ползти сейчас было уже невозможно: мешала морковь. Поэтому решили выбираться на дорогу прямо с огорода деда Баяна, в десяти шагах от его избы – спит ведь старик, наверное!..
Все пока шло хорошо: собаки во дворе не было, бабка, очевидно, давно уснула, да и луна на небе задремала за набежавшей тучкой.
Ребята один за другим тяжело переваливались через высокую изгородь и плюхались на остывшую к ночи мягкую пыльную дорогу. Пойдешь вправо – попадешь домой, пойдешь влево – будешь у Среднего озера, что перед Становым.
– Кажется, полный порядок, – прошептал Николай Шестаков и вдруг выругался: Рудька, проклятый Лунатик, застрял на самой верхотуре забора, кое–где утыканного гвоздями…
Выкатилась из–за тучки полная луна, и почти одновременно раздались оглушительный грохот, истошный Рудькин вопль и грозный сиплый окрик: «Стой, язви тя в корень!»
Кубарем скатился Рудька со злополучного забора, на котором застрял, и, побросав морковь, дунул, как наскипидаренный, в конец ночного села, к озеру. Пацаны и опомниться не успели, как ноги понесли их туда же, следом за Лунатиком и подальше от греха. Страх вырывался у них из пяток и мчал вперед, в спасительную темноту, подальше от жилья, от баяновского огорода.
На берегу озера отдышались, осмотрелись.
Было тихо и не очень темно – снова ярко светила луна.
Глянули туда–сюда – Рудьки не видно.
– Э-эй! – вполголоса позвал его брат. – Где ты, заморыш?
В прибрежной куге что–то захлюпало, зашебуршило, потом кто–то застонал, заплакал…
– Чур меня, чур! Водяной! – ошалело ахнул Пим.
– Я, я это… – прохныкал из тростников Рудька. Ребята приблизились к воде и удивленно завертели головами: Рудька ныл совсем рядом, но нигде его видно не было.
– Где ты, зараза? – не выдержав, рявкнул Юрка. – Морду набью, отзовись по–человечески!
– Ту–у–ут, – простонало в озере. Наконец Рудьку обнаружили. Он сидел по шею в воде метрах в четырех от берега, у самой кромки тростниковых зарослей, и тихо плакал, поскуливая, как побитая собачонка. Оказывается, дед Баян стрелял не впустую, не в белый свет, и берданка его была заряжена не холостым зарядом, а крупной солью. Несколько таких соляных «дробинок» угодило Лунатику в мягкое место, когда застрял он на гвоздях забора, и вот теперь Рудька сидел в озере и ждал, пока растворится соль…
– Шахна, дай ножик, – сказал Шестак, когда за ухо выволок хныкающего брата из озера, – а ты, Пим, посвети: надо из этого идиота соль выковырять. Не до утра же ему в воде сидеть!
Он сдернул с Рудьки трусы, заставил его нагнуться, повернул задним местом к луне, чтоб видней было, и острым кончиком лезвия перочинного ножа стал выковыривать из неглубоких ранок застрявшие в них крупинки соли.
Пим подсвечивал фонариком. Рудька выл волком, а ребята тревожно озирались по сторонам. Один лишь Колька Шестаков похохатывал: «Вот это да! Вот это картинка! Не плачь, Лунатик. Ты же пострадал за общее дело! Зато морковь теперь еще слаще кажется!» – и сочно хрустел ополоснутой в озере морковкой.
Горох
Интернатское хозяйство было велико, а сам интернат – невелик. Поэтому дел хватало всем, особенно летом. Не работали только дошколята по причине своего малолетства, а все, кто ходил в школу – в пятый ли, в первый ли класс, – представляли собой реальную и единственную рабочую силу.
После того как вскопали поле и посадили картошку, ее надо было дважды «обугрить» – окучить; когда появились Ночка, Кабыздох и Сокол, прибавилась новая забота – пасти скотину; посеяли просо – еще забота: охранять посевы от потравы.
Ребята сами вязали сети, ловили рыбу, снабжали кухню лебедой и молодой крапивой, из которых тетя Ася варила им довольно приличный на вкус суп; они пилили, кололи, складывали в большие поленницы дрова, нарезали лопатами дерн для крыши хлева и делали еще много другой работы.
Они работали в охотку не только потому, что знали: за них никто не сделает – некому, но и потому, что в работе чувствовали себя нужными, сильными, самостоятельными. И старались не хныкать, когда болела спина или руки оказывались стертыми в кровь. Работа не пугала ребят. Для старших она была пробой сил, а младшие относились к ней как к большой и серьезной игре, которая к тому же приносит всем заметную пользу.
Поэтому, когда Надежда Павловна объявила однажды, что нужно идти на колхозное поле «крючить» горох, то есть выдергивать из земли его стебли со стручками и складывать в небольшие копны, все даже обрадовались: этим ребята еще не занимались.
Длинный и тощий Николай Шестаков, немного фиглярствуя, произнес перед мальчишками речь:
– Братья рыцари! Мы. идем сражаться за горох! Поработаем на славу!..
– Себя уговаривай!
– И чего разорался?
– А я хочу сказать, что работать надо не для пуза, а для дела…
– Чего ты кривляешься? – подошел к нему Шестак. – Сами знаем, что делать.
– Вот именно! – воскликнул умный и хитрый Колька. – Не будем кривляться. На правах старшего спрашиваю и говорю: часто вы бываете сыты? Нет. Но у вас каждый день есть кусок хлеба и миска супа. Это так? Так. А голуби, наши голуби! Они тоже кушать хотят. Неужели мы их погубим голодной смертью? Слушай, огольцы! Работать – на совесть. И чтобы каждый принес по карману гороха. Только не слопайте сами. Голуби ждут!
– Для голубей – принесем! – крикнул Валька Пим.
Николай будто и не слышал этого писка. Он только сердито зыркнул карими глазками, ухмыльнулся и закончил:
– Горох, который для голубей, ссыпаете мне или Шестаку в наволочку. Понятно, рыцари?
– Понятно. За голубей не думай!
– А Шестаку – фигу…
– Но–но!
Юрка хотел было растолкать пацанов и найти обидчика, да призадумался: Николай Шестаков, а то и Валерка Белов могли заступиться за огольцов. Тут лучше не рисковать.
На другой день, рано утром, все были на колхозном поле. Пожухлый, местами перезревший горох лежал спутанными лохматыми стеблями на сырой земле – накануне прошел дождь. Ребята двигались вдоль размытых борозд и выдергивали длинные, перепутавшеся грязно–коричневые плети, на которых многие стручки были уже пустыми или полупустыми – полопались и порастеряли свои горошины.
Ребята выдирали горох пучками, охапками относили его в сторонку и складывали небольшими копенками. Когда никого из взрослых рядом не оказывалось, они подсовывали под копенку рубаху и начинали топтать стручки ногами. Потом отбрасывали в сторону сухие стебли–плети и горстями рассовывали по карманам чистый, «обмолоченный» горох. Карманы в штанах были самосшитые – до колен, а то и ниже. Самим есть – время не пришло: сперва думали о голубях, а потом – уж о себе. Однако кинуть в рот горсточку–другую гороха все же никто не забывал.
Но вот наконец–то и «скрючили» горох. Теперь и отдохнуть можно.
Две старухи подвезли на телеге громадный бидонище парного молока (коровье стадо паслось неподалеку), и разомлевшие от работы, набившие горохом не только карманы, но теперь уже и животы, ребята накинулись на лакомое питье.
– Молоко! У-ух, в сам–деле молоко! – воскликнул Машка Бахвал. – Свежайшее! Ешь–пей, подходи! Хошь не хошь – все одно пей! Ведь забыли почти, какое оно и на вкус–то! А тут – бидон! Агромаднейший! Пей, хоть залейся!
– Я восемь стаканов выпил, – похвастал Рудька.
– А я одиннадцать! – : блаженно сообщил Шахна и погладил ладошкой свой заметно раздувшийся живот.
– Бо–о–льше шести в меня не влезло, – тихо сказал Миллер. – Худой я, желудок маленький…
– Желудок! Культурненький ты очень! А в мое пузо пятнадцать влезло! – хохотнул Николай.
– Так ты ж вон какой длинный, хоть и тощий, – ласково пропел Гришка. – Тебе можно!
– Я тебе дам сейчас по «можно»! Вот погляжу, сколько ты гороху приволок!
Домой шли тяжелые, грузные, уставшие, немного одуревшие от обильной еды.
Несколько дней ребята проклинали и горох, и молоко, и свою жадность – у многих разболелись животы. Ольга Ермолаевна и Серафима Александровна посадили мальчишек на строгую диету – чай и сухарики. Фельдшерица пичкала их горькими порошками. Но все неприятное проходит, и вскоре ребята уже со смехом вспоминали свое молочно–гороховое обжорство, а некоторые даже начали клянчить у Шестакова «немножко гороху» из припасенного для голубей. Однако Николай был неумолим.
– И не тошнит вас от гороху? Недавно же пообъедались! – резонно замечал он и добавлял: – А голубей кормить чем? Зима впереди до–олгая! Зерна вот еще раздобыть надо – хоть пшеницы, хоть ржи…
– Достанем зерна, – уверяли Губач и Толька Лопата. – Голубей не меньше тебя любим.
– Вот когда достанете, тогда и разговор будет. Зерно скоро появилось.
…Шли последние дни лета, когда колхоз снова обратился в интернат за посильной помощью – подобрать в поле колоски, оставшиеся после уборки хлеба. Урожай надо было взять весь, до последнего зернышка, а рабочих рук не хватало: мужики на фронтах, а бабам одним не управиться – они и на уборке, и на молотьбе, и при коровах, и при свиньях. Овощи вот еще не убраны. Словом, дел невпроворот.
Несколько дней, с. утра и пока не начинало темнеть, ходили мальчишки и девчонки с большими мешками, в которых уместились бы сами с головой, по свежей стерне и подбирали с земли колоски. Искололи. руки, исцарапали ноги и натрудили поясницу, но поле оставили после себя чистым. Немало хлеба сберегли они колхозу, а значит, и Родине!
Нашелушили немного и для себя зерна из колосков. Губач и Лопата принесли Кольке Шестакову по полкепки чистой пшеницы и сказали: «Давай меняй на горох, как обещал». Николай отсыпал им по две горсти гороха: «Хватит пока с вас. А за пшеницу – спасибо…»
Как–то незаметно наступил сентябрь, и теперь по утрам, наскоро проглотив по паре вареных картошин да по куску хлеба, выпив по чашке несладкого чая, ребята снова отправлялись в школу. С обувью было туго, поэтому до самого сентября они бегали босиком. Теперь же всем выдали ботинки – кому новые, а кому и старые, ношенные в прошлом году, но еще целые.
Новую выдавали только тем, кто свою прежнюю обувь износил вдрызг.
Мальчишки и девчонки старались учиться на «отлично» и «хорошо». Правда, не всем это удавалось, но старались все.
Петька Иванов и в этом году учился только на «отлично», хотя домашние задания зачастую приходилось готовить среди невообразимого шума и гвалта в общей полутемной комнате при тусклом свете коптилки или старой, закопченной керосиновой лампы. Учебник – один на пятерых. Выручали хорошая память и то, что объяснения учителя на уроках он всегда слушал внимательно.
Сегодняшнее домашнее задание Петька постарался приготовить пораньше, засветло, чтобы до ужина успеть побродить по окрестным огородам. Теперь это было безопасно: стоял октябрь, урожай был снят, и местным жителям не приходилось бояться за свою морковь или брюкву. А мальчишки, ковыряясь в голых и черных грядках и междурядьях, иногда находили в земле случайно оставшуюся там морковину или свеклину, которые считались лакомством.