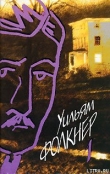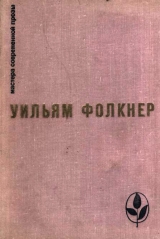
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Он сейчас же засыпал ее снова. И не стал искать вторую могилу, куда они с Маккаслином, майором де Спейном и Буном в воскресное утро два года назад опустили Сэма, положив ему охотничий рог его, нож и трубку, – искать было незачем. Она рядом, возможно, он топчет ее. Но это не важно. «Сэм, наверно, все утро знает, что я здесь в лесу», – подумал он, подходя к дереву, на котором они с Буном укрепили погребальный помост, где Сэм лежал до прихода Маккаслина и майора де Спейна; вот и вторая жестянка, прибита к стволу, ржавая, потускневшая, не оскорбляющая уже глаз, как те столбы, тоже чуждая, но прижившаяся к лесу – и давным-давно пустая, ни еды, ни табака, что он тогда оставил; он вынул из кармана плитку табаку, цветной новый платок, пакетик любимых леденцов Сэма – но и этого всего не станет, он и отойти не успеет, как оно исчезнет – нет, преобразится, воспринятое несметной жизнью, что испещрила колдовскими тропками темную почву этих скрытых от солнца мест, жизнью, что притаилась, дышит, смотрит из-за каждой ветки и листа, как он поворачивается, шагает прочь с холма.
Мешкать он не стал, здесь не усыпальница, ни Сэм, ни Лев не мертвы, не скованно почиют они под землей, а свободно движутся в ней, с ней, входя неисчислимо дробной, но непогибшей частицей в лист и ветку, присутствуя в воздухе и солнце, в дожде и росе, в желуде, дубе и снова желуде, в рассвете, закате и снова рассвете, бессмертные и целостные в своей неисчислимости и дробности – и Старый Бен, Старый Бен тоже! Они вернут ему лапу, непременно вернут – и снова бросят вызов, и долгой будет охота, но ни сердца рвущегося, ни тела израненного… Он остановился как вкопанный. Оторвал уже ногу от земли для следующего шага и так застыл, замер не дыша, в мозгу пронеслось предостережение Эша, в ушах ясно прозвучал его голос, и нахлынул, остро ударил знакомый страх, идущий с тех времен, когда его, Айзека Маккаслина, на свете не было, – древний страх, но не испуг, не трусость, – при взгляде на змею. Она не свилась еще кольцом, не застучала гремушкой, только выбросив вбок для опоры толстую быструю петлю (тоже без испуга, с тихой пока лишь угрозой) на уровень колен, взнесла чуть назад отведенную голову меньше чем в шаге от него – длинная, футов шесть с лишним, и старая: яркая когда-то расцветка молодости потускнела на ней, стерлась, не режет уже глаз на фоне леса, где ползает и таится она, тварь обособленная, издревле проклятая, гибельная; и запах ее даже слышен ему – слабый, тошнотный запах гниющих огурцов и чего-то еще безымянного, чего-то от усталого всеведенья, отверженности, смерти. Змея наконец шевельнулась. Все так же высоко и косо неся голову, заскользила прочь, и казалось, что голова вместе с поднятой третью туловища составляет отдельное существо, движущееся двуного вопреки законам тяжести и равновесия, – не верилось, что и вся эта тень, струящаяся по земле за уходящей головой, что все это одна змея, уползающая, уползшая; бессознательно он кончил шаг и, стоя с поднятой рукой, повторил индейские слова, что вырвались у Сэма в день посвящения его в охотники шесть лет назад, когда Сэм вот так же стоял и смотрел вслед оленю: «Родоначальник. Праотец».
Трудно сказать, когда именно до него впервые донесся звук, не сразу им воспринятый, – тяжело и звучно лязгающие удары, словно где-то ружейным стволом били по рельсу, не слишком часто, но с некой злостью, как если бы стучавший – человек крепкий и взявшийся за дело всерьез – был выведен чем-то из себя. Стучали шагах в трехстах и, значит, не на линии, которая проходила по меньшей мере в двух милях отсюда, хотя и в той же стороне. И сейчас же он понял, где стучат: кто б ни был стучавший и что бы ни означал стук, но раздавался он на опушке, по соседству с деревом, где назначил ему встречу Бун.
До сих пор он шел неспешным и бесшумным шагом охотника, шаря взглядом по земле и деревьям. Теперь же, разрядив ружье и держа его прикладом вперед и вниз, чтоб легче было проносить сквозь заросли, он двинулся через гущу подлеска навстречу непрестанному, злобному, странно истерическому лязгу металла о металл и вышел на поляну, прямо к тому одинокому дереву. С первого взгляда ему почудилось, что дерево ожило. Оно кишело беснующимися белками, штук сорок или пятьдесят их носилось и прыгало с ветки на ветку, обратив крону в сплошной зеленый вихрь обезумевших листьев; то и дело оттуда вырывались два-три зверька, но, мотнувшись вниз по древесному стволу, на лету изворачивались и бросались назад, словно всосанные обратно яростным беличьим водоворотом. Затем он увидел Буна. Бун сидел прислонясь к дереву спиной, нагнув голову и остервенело стуча. Колотушкой был ствол разъятого на части дробовика, и колотил им Бун по казеннику, зажатому в коленях. Кругом валялись прочие разобранные части, числом до полудюжины, а Бун, нагнув багровое, облитое потом корявое лицо, сидел и стучал стволом о казенник исступленно, как помешанный. Он и не поднял голову взглянуть, кто идет. Колотя, задыхаясь, хрипло заорал:
– Катись отсюда! Не трожь ни единой! Они мои! Все мои!
Осквернитель праха

Intruder in the Dust
Перевод М. Богословской-Бобровой
Редактор Н. Кристальная
Глава первая
Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека.
Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид, укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу, напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через Площадь, или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через Площадь, может, и не заметит его.
Потому что он тоже знал Лукаса Бичема – так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И пожалуй, даже если не считать Кэрозерса Эдмондса, в поместье которого в семнадцати милях от города жил Лукас, лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад; ему тогда было только двенадцать лет, и вот как это случилось. Эдмондс дружил с его дядей; они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительные правовые вопросы после того как вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда, и вот за день перед тем Эдмондс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмондс сказал ему:
– Едем со мной завтра утром, пойдешь охотиться на зайцев. – И тут же его маме: – А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы. – И, повернувшись к нему, добавил: – Собака у него очень хорошая.
– У него свой есть парнишка, сверстник, – сказал дядя, а Эдмондс спросил:
– А он что, тоже охотится на зайцев?
И дядя сказал:
– Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему.
И вот на следующее утро он и Алек Сэндер поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было холодное, первые зимние заморозки, зеленые изгороди застыли недвижные, заиндевевшие, стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом, и даже быстротечный рукав реки на Девятой Миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей и хрупкой, словно волшебное стекло, а как только они проехал первую ферму, а потом еще и еще, на них дохнуло без ветра едкой горечью дыма, а позади домов на дворах видны были уже окутанные паром чугунные котлы, и женщины, все еще в летних соломенных или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто, подкладывали под них дрова, а мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поверх комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне, где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застигнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный неминучий удел; к ночи все дворы будут увешаны их призрачными цельными, лоснящимися от сала полыми бледными тушами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге к центру земли.
И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмондса, постарше и много выше Алека Сэндера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти черно-пегой, с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью пойнтера, где-то у предков, сразу видно – хватала, негритянская собака, у которой есть что-то родственное, что-то общее с зайцем, так же вот, как некоторые говорят, что у негра есть что-то общее с мулом; а у Алека Сэндера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженный на отпиленный конец толстой палки от метлы, и Алек так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу; и вот они все втроем – Алек Сэндер и мальчик Эдмондса с болтами, а он с ружьем – пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рукав в том месте, где сын фермера знал переход по бревну, и он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться ну разве с девчонкой, ей это было бы простительно, но уж никак никому другому, он шел по бревну, нисколько не думая об этом – мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна, – и вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел стремглав не от земли, а от ясного неба, он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынырнул на воздух. А ружье он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которой он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда – сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка – вовсе не чувствовалась в воде как тяжелый груз, а только стесняла в движениях, и он поднял ружье и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега – по-видимому, мальчик Эдмондса, потому что в этот самый миг Алек Сэндер ткнул его концом длинного шеста, толстого, как кол, и сшиб с ног, и он опять ушел с головой в воду и чуть было не выпустил из рук и ветку, за которую держался, но тут чей-то голос сказал:
– Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть, – просто какой-то голос, не потому, что это не мог быть ничей другой, кроме как Алека Сэндера или Эдмондсова мальчика, а потому, что сейчас было все равно; цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеня и хрустя, осыпаясь ему на грудь, одежда его теперь была словно свинцовая обертка, он не двигался в ней, а был завернут) в нее, как в пончо или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алека Сэндера и не Эдмондсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, в толстой овчинной куртке и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка, – он стоял и смотрел на него; так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичема, и, наверно, это было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают; едва переводя дух, трясясь всем телом и только теперь чувствуя знобь от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления; просто глядело, ведь тот, кому принадлежало это лицо, не двинул даже пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды, напротив, даже велел Алеку Сэндеру убрать кол, что как-никак было единственной попыткой оказать ему помощь; лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть даже не больше сорока, если бы не эта шляпа и не глаза, и человек этот был чернокожий, негр, но это было все равно двенадцатилетнему, продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения, и оттого, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого, – оно не было ни заносчиво, ни презрительно: просто неподатливо и спокойно.
Тут мальчик Эдмондса что-то сказал этому человеку и произнес имя – что-то вроде мистер Лукас, и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да никто, пожалуй, не знал так, как его дядя: как этот человек был сыном одного из рабов прадеда Эдмондса, старого Кэрозерса Маккаслина, и раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Кэрозерса; и вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся и сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага, не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли:
– Идем ко мне.
– Я к мистеру Эдмондсу пойду, – сказал он.
Человек этот даже не обернулся. Даже ничего не возразил.
– Возьми его ружье, Джо, – сказал он.
Итак он, и мальчик Эдмондса, и Алек Сэндер пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти; он только чувствовал, что продрог и промок насквозь, да и это, наверно, скоро прошло бы, надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмондса. До него оставалось примерно с милю; наверно, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и, даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмондс – хотя Эдмондс был холостяк и у него в доме не было женщин, – сам Эдмондс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме, и так он и продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может ослушаться этого человека, так же как он не мог ослушаться своего деда, и вовсе не из какого-нибудь страха и не оттого, что ему потом за это достанется, а потому, что, как его дед, вот так же и этот человек, шагавший впереди, не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмелится прекословить ему или не послушаться его.
Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо, и вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов или дворовой прислуги и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли рытвина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый – не подступись, – и тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмондса сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав в вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял, – продолговатый клочок, навечно вклинившийся в середину плантации в две тысячи акров, точно почтовая марка, налепленная на середину конверта, – некрашеный деревянный домишко, некрашеный забор-частокол; все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Алек Сэндер и мальчик Эдмондса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки, совсем голый – ни листика, ни стебелька, каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал здесь метелкой из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом, испещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре (так ему теперь вспомнилось в шестнадцать лет) в эру гигантских ящеров, и они все четверо пошли по какому-то не то что проходу – собственно, это была просто утоптанная глина, – узенькая, прямая как стрела дорожка между высившимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками вела к некрашеному крыльцу и некрашеной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше, пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть, краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина того, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты (наверно, Эдмондсовой) – оторванная вдоль, как кожура с банана, – прошлым летом сквозь нее проросли цветы, и сейчас еще торчали мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки, а за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный и не то что некрашеный, а какой-то неподатливый, не приемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта на капителях греческих колонн.
Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, а за ним следом – он, мальчик Эдмондса и Алек Сэндер; полутемная передняя, даже совсем темная после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови, так же как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом, и тут они вошли в спальню: голый, истертый, совершенно чистый, некрашеный пол без всяких дорожек, в одном углу – покрытая ярким лоскутным одеялом большая кровать под балдахином, наверно стоявшая в доме Маккаслина, и старый, дешевый, обшарпанный буфет из мебельного магазина в Грэнд-Рэпидсе – и в первую минуту как будто все или почти все; только потом уже он заметит или вспомнит, что видел заставленную каминную полку и на ней керосиновую лампу, расписанную от руки цветами, и вазу, набитую свернутыми в трубку обрывками газет, а над каминной полкой – цветную литографию с календарем трехлетней давности, на которой Покахонтас в мокасинах и украшенном перьями и бахромой одеянии вождя племени сиу или чиппьюа стоит у мраморной балюстрады и смотрит в сад с чинными кипарисами, а в полутемном углу, напротив кровати, на золоченом мольберте в толстой деревянной золоченой раме – цветной портрет, на котором изображены двое. Но портрета он пока еще не видел, потому что был к нему спиной, а сейчас он видел только камин – камин из неотесанного камня, промазанного глиной, в котором чуть тлело наполовину зарытое в серой золе большое обгорелое полено, а рядом с камином в качалке сидела девочка, так ему показалось сначала, пока он не увидел лица, а тогда он даже остановился, чтобы разглядеть ее, потому что ему вдруг показалось, вот-вот он сейчас вспомнит что-то еще, что ему рассказывал дядя о Лукасе Бичеме или, во всяком случае, в связи с ним, и, глядя на нее, он только теперь подумал, какой он, должно быть, на самом деле старый, потому что это была крохотная старушка, чуть ли не кукольных размеров, гораздо темнее, чем он, в фартуке, в накинутой на плечи шали, а голова ее была повязана белоснежной косынкой, поверх которой была надета цветная соломенная шляпа с какой-то отделкой. Но он так и не мог вспомнись, что такое ему рассказывал или говорил дядя, а потом ему даже стало казаться, что он просто все спутал и никто ему ничего не рассказывал; и он сидел в кресле прямо перед камином, в котором мальчик Эдмондса разводил огонь, пихая туда чурки и сосновые щепки, а Алек Сэндер, присев на корточки, стаскивал с него мокрые сапоги и штаны, а потом он встал, и его высвободили из куртки, и свитера, и рубахи, и им обоим приходилось приседать и изворачиваться, чтобы не задеть человека, который стоял у камина, спиной к огню, расставив ноги все еще в резиновых сапогах и даже не сняв шляпы, а только скинув толстую овчинную куртку, а потом перед ним снова эта старушка, такая маленькая, меньше даже, чем он и Алек, а ведь им только двенадцать, и на руке у нее другое пестрое лоскутное одеяло.
– Снимай все! – сказал человек.
– Нет, я… – начал было он.
– Снимай все, – повторил человек.
И он стащил с себя мокрое белье и сейчас же снова очутился в кресле, теперь уже перед ярко полыхавшим огнем, закутанный в одеяло, как кокон, и весь обволокнутый этим безошибочно различимым среди всех других запахом негров, запахом, о котором ему никогда и в голову не пришло бы задуматься, не случись того, что должно было с ним случиться через какой-то небольшой промежуток времени, который теперь уже исчислялся минутами, так бы он и в могилу сошел, не удосужившись подумать, а не является ли этот запах вовсе не прирожденным запахом расы и даже не нищеты, а, скорее, состояния, сознания, убеждения, приятия, пассивного приятия ими самими вот этого убеждения, что им, неграм, вовсе и не положено иметь какие-либо удобства, чтобы мыться как следует, или мыться часто, или хотя бы просто позволить себе полоскаться и размываться даже и безо всяких удобств, и, что, в сущности, оно даже предпочтительней, чтобы они этого не делали. Но ни тогда, ни даже теперь еще этот запах ровно ничего не значил для него; до того, что с ним тогда произошло, еще должен был пройти час, и пройдет еще четыре года, прежде чем он поймет, во что все это разрослось и как повлияло на него, и только уже совсем взрослым он по-настоящему поймет и признает, что и он считал, что так оно и должно быть. А сейчас он сам просто вдохнул этот запах и тут же перестал его замечать, потому что он свыкся с ним, ведь он всю жизнь нюхал его изо дня в день и будет нюхать и дальше; а жизнь его до сих пор в значительной мере проходила в хижине Парали, матери Алека Сэндера, жившей у них во дворе, там они с ним играли в плохую погоду, и Парали, готовя еду для дома, в промежутке между завтраком и обедом пекла им лепешки, и они с Алеком ели вместе – и тот и другой с одинаковым аппетитом; он даже не мог представить себе такого существования, которое вдруг раз и навсегда лишилось бы этого запаха. Он вдыхал его испокон веков и всегда будет вдыхать; этот запах был частью его неотвратимого прошлого, ценной частью его наследия как южанина; ему не надо было даже отгонять его от себя, он просто давно уже перестал замечать его, как старый курильщик не замечает запаха своей прокуренной трубки, который стал такой же принадлежностью или частью его одежды, как пуговицы и петли; так он сидел и даже немножко дремал в теплой, окутывавшей его вони одеяла, один раз он чуть-чуть насторожился, услышав, как мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, сидевшие на корточках у стены, поднялись и вышли из комнаты, – но только чуть-чуть – и сейчас же снова провалился в теплую одеяльную вонь, а над ним, по-прежнему спиной к огню, заложив руки за спину и совсем такой же, каким он увидел его, когда только что вылез из речки, если не считать того, что он был сейчас без своей овчинной куртки и без топора и держал руки за спиной, стоял человек в резиновых сапогах и вылинявшем рабочем комбинезоне, в каких ходят негры, но с солидной золотой цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана; еще когда они только вошли в комнату, он заметил, как этот человек, повернувшись к заставленной каминной полке, достал с нее что-то и сунул себе в рот и только потом он уже разглядел, что это такое: золотая зубочистка, точь-в-точь такая же, какая была у дедушки, и шляпа на нем была поношенная, но касторовая, ручной выделки, такие вот заказывал себе дедушка и платил за них тридцать
– сорок долларов, и она не была плотно надета на голову, а словно едва держалась, сдвинутая чуть-чуть набок над темным, как у негра, лицом, но с прямым и даже с горбинкой носом, а то, что глядело из этого лица или проступало на нем, было не черным, не белым, не надменным и даже не презрительным, а просто непреклонно-неподатливым и невозмутимым.
Тут Алек Сэндер вернулся с его одеждой, уже высушенной и еще горячей от плиты, и он оделся, притоптывая, с трудом влез в свои зажухлые сапоги, а мальчик Эдмондса опять уселся на корточки у стены и что-то доедал с руки, и он сказал:
– Я пойду обедать к мистеру Эдмондсу.
А тот человек ничего не возразил и не поддакнул, он даже не шевельнулся, даже не посмотрел на него. Он только сказал непререкаемо и спокойно: – Она уж все положила. – И он прошел мимо старушки, которая посторонилась в дверях, чтобы пропустить его в кухню; перед залитым солнцем квадратом окна, выходящего на юг, за покрытым клеенкой столом, где только что ели мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, – а откуда он это знал, он и сам не мог бы сказать – никаких следов этого, ни грязных тарелок и ничего такого не было, – он сел и стал есть, по-видимому, обед Лукаса – салат из капусты, кусок мяса, зажаренного в муке, большой плоский увесистый кусок бледного недопеченного пирога и стакан пахтанья – пища негров, с которой он тоже свыкся и не думал об этом, потому что это было как раз то, чего он и ожидал, это было то, что ели негры, наверно, потому, что они это любили, выбрали по своему вкусу; не потому, что за всю долгую историю их существования, если не считать тех, кто ел на кухне еду, которую стряпали для белых, это все, что они имели возможность приучиться любить, но (так думал он в двенадцать лет, и только уж совсем взрослым он в первый раз с удивлением задумается – а так ли это?) потому, что они выбрали это изо всего другого сами, по своему вкусу и своему обмену веществ; потом через каких-нибудь десять минут – и с тех пор на протяжении четырех лет – он будет стараться уверить себя, что вот с этой еды все и началось. Но в то же время он знал, что это не так. Исконное его заблуждение, предвзятость была заложена в нем с самого начала, ее не требовалось даже и подстрекать запахом дома и одеяла, ведь он и так с трудом выдерживал то, что глядело (не на него даже: просто глядело) из лица этого человека; поднявшись наконец из-за стола с уже зажатой в руке монетой в полдоллара, он пошел обратно в комнату, и только теперь, очутившись как раз напротив, он увидел портрет в золоченой раме на золоченой подставке и, сам не зная почему, подошел и нагнулся разглядеть его, потому что он стоял в темном углу и видно было только, как поблескивает позолота. Его, по-видимому, недавно подновили; из-под круглого, слегка преломляющего свет выпуклого стекла, словно из магического кристалла гадалки, на него снова глядело невозмутимое, неподатливое лицо под сдвинутой набок шляпой, накрахмаленный воротничок без галстука, пристегнутый к белой накрахмаленной сорочке запонкой в виде змеиной головки чуть ли не в натуральную величину, и цепочка от часов, выпущенная петлей на черную из тонкого сукна жилетку, виднеющуюся из-под черного сюртука, недоставало только зубочистки, а рядом – маленькая, с куколку, женщина, но в другой цветной соломенной шляпке и шали; она, конечно, вот эта самая женщина, хотя совсем непохожая, и вдруг он понял, что даже не в этом дело – в ней, в этой женщине на портрете, было что-то страшное, что-то дико несообразное, и тут она что-то сказала, и он поднял глаза, человек этот по-прежнему стоял у камина, широко расставив ноги, а старушка снова сидела в кресле-качалке на старом месте, в углу, и она не смотрела на него, и он знал, что она ни разу не взглянула на него после того, как он вернулся, но она сказала:
– Это все Лукаса выдумки.
– Что? – спросил он, и человек этот сказал:
– Молли не нравится, что тот, кто делал этот портрет, снял у нее эту обмотку с головы. – И правда, на портрете видны были ее волосы, и ему показалось, он смотрит через герметически завинченную стеклянную крышку гроба на бальзамированный труп, и он подумал: «Молли. Ну конечно», потому что теперь ой вспомнил, что рассказывал ему дядя о Лукасе или о них обоих.
– А почему он снял повязку? – спросил он.
– Я велел ему, – сказал этот человек, – я не желал иметь у себя в доме портрет негритянки-батрачки.
И тут он подошел к ним и, сунув в карман кулак с монетой в пятьдесят центов, подцепил и зажал десятицентовик и еще две монетки по пять центов, все, что у него было, и сказал:
– Вы раньше в городе жили. Мой дядя знает вас – адвокат Гэвин Стивенс.
– Я вашу матушку тоже помню, – сказала она. – Она тогда звалась мисс Мэгги Дэндридж.
– Это бабушка моя, – сказал он. – Моя мама раньше была тоже Стивенс. – И он протянул свои монеты; и в ту самую секунду, когда он почувствовал, что она сейчас возьмет их, он понял, что вот только на эту одну-единственную секунду он опоздал навсегда, и уже непоправимо, и медленно горячая кровь – медленно, как ползут минуты, – приливала к его щекам и шее, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока наконец этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость.
– Это еще зачем? – сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони, и опять целая вечность, и только густая горячая недвижная кровь прихлынула и стоит, пока наконец яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах и тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь и не то что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатились по голому полу, а один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала, и тут же голос:
– Подбери это!
И опять ничего, человек этот ни на что не глядел, руки по-прежнему за спиной, даже не пошевельнулся, только горячая кровь хлынула волной и застыла, и сквозь нее голос, обращенный ни к кому:
– Подберите его деньги! – и он услышал и увидел, как Алек Сэндер и мальчик Эдмондса бросились куда-то в темень и заерзали по полу. – Отдайте ему, – сказал голос, и он увидел, как мальчик Эдмондса бросил две его монетки на ладонь Алеку Сэндеру, и почувствовал, как рука Алека Сэндера старается всунуть все четыре монеты в собственную его опущенную руку и наконец всовывает их. – Ну а теперь идите стрелять зайцев, – сказал голос.