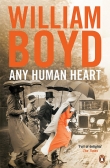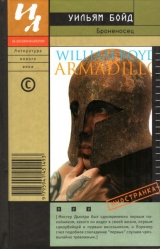
Текст книги "Броненосец"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
– «Торквил-хелл-вуар-джейн», – прочел Лоример вслух, словно малограмотный, и только тут все понял. – Извините, здесь так шумно, я никак не мог…
– Это произносится «хивер», – презрительно проговорил его собеседник. – Не «хеллвуар», а «хивер».
– А, теперь ясно. Торквил Хивер-Джейн. Очень приятно…
– Я ваш новый директор.
* * *
Лоример протянул Димфне ее рюмку, думая только о том, как бы поскорее выбраться из этого места. Димфна не выглядела пьяной, но он знал – каким-то чутьем знал, – что она мертвецки пьяна.
– Где ты пропадал, mein Liebchen? [2]2
Милый мой (нем.).
[Закрыть]– спросила она.
Шейн Эшгейбл покосился на него:
– Тебя тут уже Хогг разыскивал.
Раздался энергичный стук молотка о деревянную доску, и чей-то запыхавшийся голос прокричал:
– Э-э-леди и э-э-джентльмены, прошу тишины, будет выступать сэр Саймон Шерифмур.
Люди, столпившиеся вокруг помоста, зааплодировали с искренним энтузиазмом. Лоример видел краешком глаза, как сэр Саймон поднимается на подиум, надевает тяжелые черепаховые очки и смотрит поверх них. Подняв одну руку жестом, требующим тишины, другой он извлек из нагрудного кармана маленькую шпаргалку.
– Итак… – произнес он, затем выдержал паузу – театральную паузу, – без Торквила это место уже не будет таким, как прежде. – В ответ на его скромную шутливую реплику раздался энергичный смех. Под раскаты этого смеха Лоример начал проталкиваться к двойной двери «Порткаллис-Суит», и вдруг – уже во второй раз за сегодняшний вечер – кто-то ухватил его за локоть.
– Лоример?
– А, Димфна. Я ухожу. Нужно бежать.
– Хочешь, поужинаем вместе? Вдвоем – я и ты.
– Я обещал быть у своих родных, – быстро солгал он, продолжая пробираться к выходу. – Давай в другой раз.
– А я завтра улетаю в Каир. – Она улыбнулась и вскинула брови, как будто только что нашла ответ на смехотворно легкий вопрос.
Сэр Саймон принялся говорить о заслугах Торквила Хивер-Джейна перед «Фортом Надежным», о годах его неустанной службы. Лоример, почувствовав отчаяние, улыбнулся Димфне грустной, понимающей («Что ж, такова жизнь») улыбкой и пожал плечами:
– Извини.
– Ничего, в другой раз, – вяло бросила Димфна и отвернулась.
* * *
Попросив таксиста сделать еще громче и без того надрывавшееся радио, передававшее репортаж с футбольного матча, под этот громовой, рокочущий шум Лоример помчался по ледяному и пустынному Сити, над беспокойно метавшейся в своем русле черной Темзой, а потом к югу от реки. В его голове отдавался эхом и резонировал хриплый тенор комментатора, кричавшего про вбрасывание из-за боковой, мастерство иностранцев, преграждающие путь мячу маневры, ослабевающий накал игры и про то, что все равно наши – молодцы и выкладываются на сто десять процентов. Лоример чувствовал себя встревоженным, обеспокоенным, глупым, смущенным, ошеломленным и до тошноты голодным. Еще он понял, что выпил слишком мало. В подобном состоянии, он знал это по опыту, погруженный в унылое молчание салон черного такси – отнюдь не лучшее место пребывания. А затем в его сознание воровато просочилось какое-то новое и благоприятное ощущение – будто пески времен уже смыкались и манил финальный свисток: дремота, утомление, вялость. Может быть, сегодня подействует, может быть, и в самом деле. Может быть, ему удастся поспать.
114. Сон.Как его звали, того португальского поэта, который страдал расстройством сна? Если я правильно помню, он называл свою бессонницу «несварением души». Может, это и есть моя беда – несварение души, пусть у меня и не настоящая бессонница? Жерар де Нерваль [3]3
Жерар де Нерваль (наст, имя – Жерар Лабрюни; 1808–1855) – франц. поэт-романтик.
[Закрыть]говорил: «Сон отнимает у нас треть жизни. Он умеряет скорбь наших дней и горечь наших наслаждений; но я никогда не отдыхал во сне. На несколько мгновений я впадаю в оцепенение, а затем начинается новая жизнь, свободная от условностей времени и пространства и, несомненно, сходная с тем состоянием, что ожидает нас после смерти. Как знать, нет ли связи между этими двумя существованиями и не способна ли душа уже сейчас объединить их?» Мне кажется, я понимаю, что он имеет в виду.Книга преображения
– Мне нужно к доктору Кенбарри, – сказал Лоример недоверчивому вахтеру. Он всегда очень тщательно произносил эту фамилию, хотя сам не привык так обращаться к Алану. – К доктору Алану Кенбарри, он должен сейчас быть в институте. Я мистер Блэк, он ждет меня.
Вахтер педантично сверился с какими-то затрепанными списками и дважды куда-то позвонил, прежде чем наконец пропустил Лоримера внутрь Отделения общественных исследований Гринвичского университета. Лоример поднялся на изношенном и грязном лифте в Аланову «вотчину» на пятом этаже. Алан уже поджидал его в холле, и они вместе направились по сумрачным коридорам к двустворчатой двери, на которой красовалась надпись (строчными литерами, шрифтом а-ля Баухауз): «Институт прозрачных сновидений», – и дальше, через затемненную лабораторию, к занавешенным кабинкам.
– Мы сегодня в одиночестве, доктор? – спросил Лоример.
– Нет, не в одиночестве. Пациент Д. уже явился. – Алан распахнул дверь в кабину Лоримера. – После вас, пациент Б.
Всего кабинок было шесть, они располагались в два ряда, по три в каждом, в конце лаборатории. Провода, тянувшиеся из каждой кабинки, были собраны посредине на металлической балке, откуда свободно заплетенной косицей бежали по потолку к контрольной зоне с ее комплектами магнитофонов, рядами мигающих мониторов и ЭЭГ. Лоример всегда пользовался одной и той же кабиной и ни разу не сталкивался ни с кем из остальных «лабораторных крыс». Алану такое положение вещей нравилось: никаких разговоров о симптомах, никакого обмена всякими плацебо или особыми приемами. И никаких сплетен о милом докторе Кенбарри.
– Ну, как мы? – осведомился Алан. Полоска света от горевшей где-то одинокой лампы на миг превратила линзы его очков в две белые монеты, когда он повернул голову.
– По правде сказать, мы очень устали. Целый день в аду.
– Бедный ребенок. Твоя пижама готова. Нам надо в уборную?
Лоример разделся, аккуратно развесил одежду и натянул чистые полотняные пижамные штаны. Немного погодя вновь появился Алан, держа в руках тюбик с мазью и рулон прозрачной клейкой ленты. Лоример терпеливо стоял, пока Алан управлялся с электродами: по одному к каждому виску, один пониже сердца, еще один на правое запястье, возле пульса.
Алан прикрепил электрод к его груди.
– Думаю, перед следующим разом тут еще нужно будет подбрить. Немного колется, – сказал он. – Ну, вот и все. Сладких снов.
– Будем надеяться.
Алан сделал шаг назад.
– Я часто подумываю о том, что надо бы прикреплять электрод и к члену пациента.
– Ха-ха. Леди Хейг говорила, что ты разбудил ее сегодня утром.
– Да я только мусор выносил.
– Она сердилась. Обзывала тебя шалопаем.
– Вот Иезавель! Это потому, что она тебя любит. Ну, все в порядке?
– Все прекрасно. – Лоример улегся на узкую кровать, а Алан, сложив руки, стоял у ее изножья и улыбался, как любящий родитель. Портил картину только его белый халат – полное жеманство, подумал Лоример, совершенно излишнее.
– Какие-нибудь пожелания?
– Морские волны, пожалуйста, – ответил Лоример. – Будильник мне не понадобится. Уйду часов около восьми.
– Спокойной ночи, малыш. Спи спокойно. Я пробуду здесь еще час.
Алан погасил свет и ушел, оставив Лоримера в кромешной темноте и почти полной тишине. Каждая кабинка была обособлена, а те шумы, что как-то просачивались, были глухими и неразборчивыми. Лоример лежал в этом слепящем мраке и ждал, пока пропадут фотоматические вспышки, еще мерцавшие у него перед глазами. Он услышал, как начала звучать запись океанического прибоя: убаюкивающий шелест пены, бьющейся о скалы и песок, плеск воды и шум гальки, утаскиваемой отливом. Он поглубже утопил голову в подушке. Как же он устал, что за злосчастный день… Он попытался отогнать назойливые картинки с телом мистера Дьюпри, но на их место тут же явилось неулыбчивое лицо Торквила Хивер-Джейна.
Вот это уже что-то новенькое. Директор, сказал он, большие надежды, важная пора, волнующие достижения впереди, и так далее. Ушел из «Форта», чтобы перейти к нам. А он-то всегда полагал, что единственный директор – это Хогг, что он – самая крупная рыба, по крайней мере единственная заметная. Почему же Хогг на это пошел? Получилось Хоггово шоу: зачем ему терпеть кого-то вроде Хелвуар – виноват, «хивер» – Джейна? Все в нем не так. Это и смущает. Разговаривает с ленцой, требуется исправить дикцию – да еще с таким-то имечком. Торквилхиверджейн. Говнюк самодовольный. Сопля. Надутый эгоист. Странно будет видеть в офисе человека вроде него. Совсем не наш тип. Черт знает кто. Торквил. Кто-то навязал его Хоггу? Как такое могло произойти?.. Надо это прекращать, понял он, иначе не засну. Нужно сменить тему. Вот зачем он здесь. О чем же думать. О сексе? Или о Жераре де Нервале? О сексе. Значит, секс. Димфна – крепкая, широкоплечая Димфна с ее маленькой грудью и откровенным приглашением. Вот уж не думал не гадал. Даже в мыслях не было. Попытался вообразить ее обнаженной, их вдвоем в постели. Эти нелепые туфельки. Сильные коротковатые ноги. Он уже начал потихоньку ускользать, забываться, – как вдруг Димфну вытеснил другой образ: скользящая диорама на глянцевой дверце такси, а над ней – девичье лицо. Бледное, совершенно овальное лицо девушки – полное нетерпения и надежды, длинная шея и широко распахнутые глаза…
Грубый стук в дверь – два резких, будто лязг железа, удара – разбудил его, заставив подскочить. Он остался сидеть в непроницаемой тьме с колотящимся сердцем, под звук воображаемых волн, разбивающихся о воображаемый берег.
Через минуту зажегся свет и вошел Алан, со смиренной улыбкой на лице и распечаткой в руке.
– Тпру, – произнес он, показывая Лоримеру зубчатый горный хребет. – Чуть ребро там не сломал.
– Надолго я выключился?
– На сорок минут. Что это было – стук в дверь?
– Угу. Чей-то кулак ударил вон в ту дверь. Бабах!Очень громко.
Лоример снова откинулся на подушку, задумавшись о том, что все чаще и чаще – непонятно почему – его будил посреди ночи громкий стук, или звонок в дверь, или нечто подобное. Опыт подсказывал, что такого рода пробуждение было бесцеремонным намеком на то, что и сну конец; кажется, после этого ему никогда не удавалось снова забыться, как будто шок от такой побудки настолько сотрясал и будоражил организм, что для восстановления ему требовались целые сутки.
– Совершенно очаровательно, – заметил Алан. – Потрясающие гипнопомпические мечтания. Обожаю. Два удара, ты сказал?
– Да. Рад, что тебе понравилось.
– Сны были? – Алан махнул в сторону дневника сновидений, лежавшего возле кровати. Все сны, пусть даже обрывочные, следовало записывать.
– Не было.
– Ладно, продолжим наблюдение. Постарайся снова уснуть.
– Как скажете, доктор Кенбарри.
Накатили волны. Снова наступил мрак. Лоример лежал в своей тесной каморке и старался думать на сей раз о Жераре де Нервале. Это не помогало.
Глава вторая
Свернув за угол и оказавшись на Люпус-Крезнт, Лоример увидел Денниса Раппапорта: тот проворно выскочил из машины и принял нарочито непринужденную позу – прислонился к фонарю, как будто хотел уверить его, что это всего лишь случайная встреча, ничего официального. День был особенно серый и холодный, небо низко нависало, и при таком мертвенно-бледном свете инспектор полиции сержант Раппапорт, при всей его неправдоподобно нордической внешности, выглядел бледным и нездоровым. Он с радостью принял приглашение войти в дом.
– Итак, сегодня вы не ночевали дома, – весело заметил Раппапорт, принимая от Лоримера кружку с дымящимся и очень сладким растворимым кофе. Лоримеру удалось удержаться от колкости по поводу непостижимых дедуктивных способностей инспектора.
– Верно, – ответил он. – Я участвовал в одном исследовательском проекте – это связано с нарушениями сна. Я очень плохо сплю, – добавил он, предвосхищая следующий вопрос инспектора. Как оказалось, напрасно.
– А, так вы страдаете бессонницей, – подхватил Раппапорт. Лоример отметил, что тот наконец перестал употреблять слово «сэр», и задумался – плохой это или хороший знак.
Раппапорт сочувственно ему улыбнулся:
– А вот я сплю как сурок. Как настоящий сурок. Никаких проблем. Стоит только свет погасить. Головой в подушку – и моментально выключаюсь. Засыпаю, как бревно.
– Завидую вам.
Лоример говорил искренне – Раппапорт даже представить себе не мог, насколько искренне. Раппапорт принялся перечислять случаи из своей жизни, когда ему удавалось подолгу проспать богатырским сном: например, однажды, в каком-то байдарочном походе – в течение триумфальных шестнадцати часов. Не без некоторого самодовольства он заявлял, что обычно спит положенные восемь часов в сутки. Лоример и раньше замечал, что, сознаваясь в дисфункции сна, провоцирует собеседника на подобную добродушную похвальбу. Мало какое еще заболевание вызывало у людей сходную реакцию. Например, пожаловавшись на запоры, едва ли можно было ожидать хвастливых откровений об исправной работе кишечника. Жалобы на мигрень, угри, геморрой или боли в спине обычно вызывали у собеседников сочувствие, но отнюдь не хвастливые доклады об отличном состоянии собственного здоровья. А вот упоминание о нарушениях сна действовало почему-то именно так. Это простодушное бахвальство походило на какой-то талисман, на заклинание, защищавшее от глубоко затаенного страха перед бессонницей, угрожавшего любому – даже абсолютным здоровякам, даже всем раппапортам в мире. Инспектор уже рассказывал о своей способности задремывать в любое время суток, если случалось так, что служебный долг лишал его возможности спокойно и безмятежно проспать всю ночь напролет.
– Могу я чем-нибудь быть вам полезен, инспектор? – деликатно прервал его Лоример.
Раппапорт достал из кармана куртки блокнот и быстро пролистал его.
– Какая у вас тут уютная квартирка, сэр.
– Благодарю вас. – Снова за работу, подумал Лоример. Раппапорт нахмурился, увидев какую-то запись.
– Сколько раз вы наносили визиты мистеру Дьюпри?
– Всего один раз.
– Он отвел на встречу с вами два часа.
– Это вполне нормально.
– Неужели вам нужно было беседовать так долго?
– Это связано с существом нашей работы. Она поглощает много времени.
– Теперь уточним некоторые детали, сэр. Вы ведь работаете в страховой компании, так?
– Нет. Да. Можно и так сказать. Я работаю на фирму, которая оценивает размер убытков и возмещает их.
– То есть вы – оценщик убытков.
«А ты – гордость полиции», – подумал Лоример, но вслух сказал лишь:
– Да. Я оценщик убытков. После пожара мистер Дьюпри предъявил иск своим страховщикам. А страховая компания…
– Какая именно?
– «Форт Надежный».
– «Форт Надежный». А я пользуюсь услугами «Солнечного союза». И «Шотландских вдов».
– Тоже превосходные фирмы. В «Форте Надежном» заподозрили – а это случается постоянно, это почти рутинное дело, – что требования мистера Дьюпри завышены. Нас же нанимают для того, чтобы выяснить – так ли в действительности велики убытки, как заявлено, и, если нет, договориться об их возмещении, снизив сумму выплаты.
– Отсюда и должность такая – «оценщик убытков».
– В точности так.
– И ваша фирма – «Джи-Джи-Эйч лимитед» – независима от «Форта Надежного».
– Не независима, но беспристрастна! – Это было сказано, будто высечено на скрижали. – В конце концов, «Форт Надежный» выплачивает нам проценты.
– Замечательная у вас работа. Спасибо вам огромное, мистер Блэк. Вы нам очень помогли. Не буду вас больше беспокоить.
* * *
«Раппапорт или слишком глуп, или слишком умен, – размышлял Лоример, стоя у эркерного окна и из своего укрытия рассматривая блондинистую голову инспектора, который в это время спускался по наружной лестнице, – и я никак не могу решить, что он собой представляет на самом деле». Лоример наблюдал, как на улице Раппапорт останавливается и закуривает сигарету. Затем сержант, нахмурившись, принялся разглядывать дом, словно его фасад скрывал какую-то улику, имевшую касательство к самоубийству мистера Дьюпри.
Из своего подвального этажа выбралась леди Хейг с двумя блестящими пустыми бутылками из-под молока, чтобы поставить их рядом с мусорным баком на лестничной площадке, и Лоример увидел, как Раппапорт вступает с ней в беседу. По тому, как энергично и утвердительно кивает головой леди Хейг, он понял, что разговаривают о нем. И хотя Лоример отлично знал, что, кроме самой положительной характеристики, инспектор ничего о его персоне от леди Хейг не услышит, тем не менее это обсуждение – а оно продолжалось, теперь старушка сердито махала в сторону огромного мотоцикла, припаркованного напротив, – было ему почему-то неприятно. Он отвернулся и отправился на кухню – мыть после Раппапортова кофепития кружку.
37. Жерар де Нерваль.В мое первое посещение «Института прозрачных сновидений» Алан спросил, что за книгу я сейчас читаю, и я ответил – биографию Жерара де Нерваля. Тогда Алан подсказал мне сознательный прием, который должен был вызывать засыпание: мне нужно либо сосредоточить все мысли на жизни Нерваля, либо предаться сексуальным фантазиям – или одно, или другое. Эти две темы, на выбор, должны были стать для меня «спусковыми механизмами сна», и в ходе моего лечения в институте мне не полагалось отклоняться от них: либо Нерваль, либо секс.
Жерар де Нерваль, Гийом Аполлинер или Блез Сандрар. Любой из них подошел бы. Я питаю преувеличенный интерес к этим французским писателям по одной простой причине: все они поменяли имена и заново сотворили себя под новыми. Они начинали жизнь, соответственно, под именами Жерар Лабрюни, Вильгельм Аполлинарий Костровицкий и Фредерик Заузер. Впрочем, Жерар де Нерваль оказался ближе всех моему сердцу: у него были серьезные проблемы со сном.
Книга преображения
Лоример купил для матери здоровенную баранью ногу и пару дюжин свиных сосисок в придачу. Его семья больше всего ценила мясные подарки. Выйдя из лавки мясника, он помедлил у цветочного лотка Марлоба: недолго, но, как выяснилось, достаточно, чтобы тот перехватил его взгляд. Марлоб болтал с двумя корешами и курил свою жуткую трубку с чубуком из нержавеющей стали. Заприметив Лоримера, он прервал разговор на полуслове и, протягивая какой-то цветок, крикнул ему:
– Во всей стране не найдете лилии душистее!
Лоример понюхал, кивнул в знак согласия и послушно попросил завернуть ему три цветка. Марлобов цветочный лоток представлял собой небольшое, но сложное приспособление на колесах, со складными дверцами и створками, за которыми открывалось несколько рядов ступенчатых полок, уставленных ломившимися от цветов цинковыми ведерками. Марлоб всегда заявлял, что верит в качество и количество, однако сам толковал свой лозунг как изобилие при ограниченном выборе. В результате те цветы, которыми он торговал, разочаровывали скудным и даже банальным диапазоном сортов и оттенков. Гвоздики, тюльпаны, нарциссы, хризантемы, гладиолусы, розы и георгины – вот и все, что он готов был предложить покупателям, независимо от сезона, зато поставлял их в поразительных количествах (у Марлоба можно было купить шесть дюжин гладиолусов и при этом не истощить его запасов) и всех мыслимых цветов. Его единственной данью экзотике были лилии, которыми он особенно гордился.
Лоример очень любил цветы и постоянно покупал их для украшения квартиры, но ему почти никогда не нравился выбор Марлоба. Да и цвета у него были примитивные или слишком кричащие (Марлоб громогласно ругал всякие пастельные тона) – очевидно, яркость оттенка была для продавца главным мерилом при оценке «хорошего цветка». Та же система ценностей определяла и цену: алый тюльпан стоил дороже розового, оранжевый ценился выше желтого, желтые нарциссы приносили больше прибыли, чем белые, и так далее.
– Знаете, – продолжал Марлоб, одной рукой нашаривая в кармане мелочь, а другой придерживая лилии, – если б у меня был «Узи», если б у меня был паршивый «Узи», я бы отправился в это паршивое место и поставил всех этих паршивцев к стенке.
Лоример знал, что Марлоб толкует о политиках и о палатах парламента. Это был его постоянный рефрен.
– Тратататата, – затарахтел воображаемый «Узи» в руках цветочника, когда Лоример наконец взял у него лилии. – Я б их всех, гадов, всех до одного расстрелял.
– Спасибо, – поблагодарил Лоример, принимая полную ладонь теплых монеток.
Марлоб улыбнулся ему:
– Всего хорошего.
По непонятной причине Марлоб питал к нему симпатию и всегда делился с ним какими-нибудь горестными замечаниями по поводу той или иной стороны современной жизни. Это был низенький толстяк, совершенно лысый – не считая жидких остатков желтовато-рыжих волос возле ушей и над затылком, – с неизменно невинным, слегка удивленным выражением глаз, какое часто бывает у белобрысых. Лоример знал его фамилию, потому что она была написана на боку передвижной кабинки. Обычно, пока не было покупателей, Марлоб занимался громким и грубым трепом со своими странноватыми дружками – старыми и молодыми, состоятельными и нет, которые периодически выполняли для него какие-то загадочные поручения или приносили ему кружки с лагером из пивной на углу. Конкурентов-цветочников не было в радиусе полумили – и Марлоб (Лоримеру было это известно) отлично зарабатывал и проводил отпуск где-нибудь на Большом Барьерном Рифе или на Сейшелах.
* * *
Лоример поехал на автобусе в Фулэм. Сначала по Пимлико-роуд до Ройял-Хоспитл-роуд, вдоль Кингз-роуд, а затем по Фулэм-роуд до Бродвея. По выходным он избегал метро – оно казалось неуместным: ведь метро существует для того, чтобы добираться до работы, – а машину ему все равно негде было бы поставить. Он вышел у светофора на Бродвее и зашагал по Доз-роуд, стараясь воскресить в памяти подробности детства и юности, проведенных среди этих узких улиц, запруженных автомобилями. Он даже сделал небольшой круг, пройдя лишних четверть мили, только чтобы взглянуть на свою бывшую школу, Сент-Барнабас, с высокими кирпичными стенами в грязных разводах и выщербленной асфальтовой площадкой для игр. Это бесценное упражнение в колкой ностальгии и являлось, в сущности, основной причиной, по которой Лоример изредка принимал настойчивые приглашения матери на субботний (но никогда – воскресный) обед. Это походило на отдирание струпа с болячки; по сути, ему требовалось образование шрама: было бы совершенно неправильно пытаться все забыть, изгладить из памяти. Ведь любое воспоминание из тех, что всплывали здесь, когда-то сыграло свою роль: все, чем он стал сегодня, являлось косвенным результатом той жизни, которую он вел тогда. Это подтверждало правильность каждого его шага с тех пор, как он улизнул в Шотландию… Ну, это уж слишком, это, пожалуй, перебор, подумал он. Несправедливо взваливать на Фулэм и на свою семью всю ответственность за то, чем он является сегодня: то, что случилось в Шотландии, тоже ведь оставило свой неизгладимый след.
И все же, свернув с Филмер-роуд, он почувствовал знакомый жар и жжение в пищеводе: снова несварение, снова сердце в огне. Оставалась какая-нибудь сотня ярдов до дома, до его родительского дома – и вот, пожалуйста, желудочные соки начали бродить и пузыриться у него внутри. Иных людей – большинство людей, наивно предположил он, – о приближении к родному дому, наверное, оповещало знакомое дерево (излазанное в детстве), или звон церковных колоколов откуда-то из гущи зелени, или дружелюбное приветствие старичка-соседа… С ним все не так: ему пришлось пососать мятную пастилку и слегка поколотить себя в грудину, прежде чем свернуть за угол, к узкому ряду стоявших клином построек. Небольшая процессия скромных заведений – почта, винный, пакистанская бакалея, закрытые, с опущенными ставнями, мясные лавки, агентство по недвижимости, – и, наконец, на острие клина, дом № 36 с его пыльной гордостью – припаркованными не по правилам седанами и матовыми стеклами первого этажа, где размещалась контора «Мини-такси и Международные перевозки, Би-энд-Би».
Над дверным звонком была прибита какая-то новая – в прошлый раз Лоример ее не видел – разукрашенная табличка с черными буквами, оттиснутыми по дымчатому золотому фону: «СЕМЬЯ БЛОК». На гербовом щите семейства Блок – если вообразить себе такой – должен был бы красоваться девиз: «Конечное „джей“ не произносится», или же: «Под „си“ ставится точка» [4]4
В оригинале фамилия пишется «Bloçj».
[Закрыть]. Казалось, он снова, спустя много лет, слышал голос отца – терпеливый, низкий, с акцентом, – произносивший у бесчисленных почтовых окошек, регистрационных столов в гостиницах, в пунктах аренды автомобилей эту фразу: «Конечное „джей“ не произносится, а под „си“ ставится точка. Семья Блок». В самом деле, сколько раз за свою жизнь сам Лоример с оправдывающимся видом бормотал те же самые пояснения? Но задумываться над этим было невозможно: все это давно осталось позади.
Лоример нажал на звонок, подождал, снова надавил на кнопку и вскоре услышал топот маленьких ножек, ритмично отбивавших по ступенькам нечто вроде анапеста. Дверь открыла Мерси, его маленькая племянница, совсем крошечная девчушка в очках (как и все женщины в этой семье). На вид ей можно было дать года четыре, хотя на самом деле Мерси уже исполнилось восемь. Лоример постоянно тревожился за нее – из-за ее миниатюрного сложения, из-за ее имени (Мерси было уменьшительным от Мерседес, и он всегда произносил его на французский лад, стараясь забыть о том, что малышку назвал так ее отец, его шурин, партнер по семейному бизнесу) и из-за ее неопределенного будущего. Повиснув на двери, девочка глядела на него со смесью робости и любопытства.
– Здравствуй, Майло, – сказала она.
– Здравствуй, милая. – Мерси была единственным существом, кого он когда-либо так называл, и то лишь если никто не слышал. Он расцеловал ее дважды в обе щеки.
– Что-нибудь для меня принес?
– Славные сосиски. Свиные.
– Вот здорово!
Она затопала вверх по лестнице, и Лоример устало последовал за ней. В квартире стоял какой-то едкий, липко-соленый дух, пахло чем-то вареным и пряным. Одновременно работали телевизор и радио, и еще откуда-то доносились звуки рок-музыки. Мерседес привела его в длинную треугольную переднюю комнату, залитую светом и звуками. Она располагалась в угловой части дома, прямо над офисом «Мини-такси и Международных перевозок, Би-энд-Би» и загончиком для отдыха водителей. Здесь из черной подмигивающей аудиосистемы лилась музыка (умеренный кантри/рок-фьюжн), а слева, из кухни, доносились звуки радио (выкрикивавшего рекламу), сопровождавшиеся звоном и энергичным грохотом посуды.
– Майло пришел! – прокричала Мерседес, и тогда лениво обернулись три его сестры: три пары глаз без интереса поглядели на него сквозь три пары очков. Моника шила, Комелия пила чай, а Драва (мать Мерси) – поразительно, ведь через десять минут они должны были обедать! – поедала шоколадно-ореховую плитку.
В детстве он придумал шутливые прозвища трем старшим сестрам: «Пышка», «Дурочка» и «Злючка», соответственно; а еще он звал их «толстушкой», «худышкой» и «коротышкой». Забавно, что с возрастом эти грубоватые клички становились все более уместными. Так как он был младшим ребенком в семье, то обычно всегда во всем слушался этих, сколько он их помнил, взрослых женщин. Даже младшая и самая симпатичная из них, угрюмая и миниатюрная Драва, была на шесть лет старше. Одна только Драва вышла замуж, произвела на свет Мерседес, а потом развелась с мужем. Моника и Комелия всегда жили дома, то участвуя в семейном бизнесе, то работая неполный день где-то на стороне. Сейчас они всё свое время посвящали заботе о доме, а если у них и имелась любовная жизнь, то протекала она скрытно и где-то вдалеке.
– Доброе утро, милые дамы, – вяловато-шутливо приветствовал их Лоример. Все они выглядели гораздо старше его: он видел в них скорее своих тетушек, чем сестер, не желая верить в столь близкое кровное родство и тщетно стремясь установить между собой и ими некую родственную дистанцию, некое разделительное пространство.
– Мам, это Майло пришел, – проорала Комелия в сторону кухни, но Лоример уже сам туда направился, прихватив увесистую сумку с мясом. Загородив своей коренастой фигурой проход, в дверях стояла его мать. Она вытирала руки о полотенце и улыбалась ему, мокрые глаза лучились светом из-за затуманенных стекол очков.
– Миломре, – вздохнула и проговорила она дрожащим от любви голосом. Потом четырежды его расцеловала, по два раза коротко ударив его в каждую скулу пластмассовой оправой очков. За спиной матери он заметил бабушку, рубившую лук у шкворчавших и дымившихся кастрюль. Та махнула в его сторону ножом, потом приподняла очки, чтобы смахнуть слезы.
– Гляди-ка, Майло, – как тебя увижу, так от радости плачу, – сказала бабушка.
– Привет, бабуля. Тоже рад тебя видеть.
Мать уже выложила на стол мясо и сосиски, сперва с восхищением взвесив в заскорузлых красноватых руках баранью ногу.
– Ну и кусище, Майло. А это что – свинина?
– Да, мама.
Его мать обернулась к своей матери, и они залопотали на своем языке. Бабушка, осушив глаза, устремилась к нему с поцелуями.
– Я ей говорю – ты у нас такой красавчик, Майло. Ну не красавчик ли он, мама?
– Да, красавчик. И богач. Не то что некоторые дойные коровы.
– Иди-ка, наведайся к папе, – сказала мать. – Он будет рад тебя видеть. Он у себя в гостиной.
Перед дверью, ерзая на коленках, Мерси играла в компьютерную игру, и Лоример попросил ее посторониться. Пока та не торопясь передвигалась, Драва воспользовалась случаем под шумок подойти к нему и раздраженным, неприятным голосом попросить у него сорок фунтов взаймы. Лоример протянул ей две двадцатки, но она заметила, что в бумажнике осталась еще одна тоненькая бумажка.
– А шестьдесят не можешь дать, Майло?
– Драва, мне самому деньги нужны – выходные все-таки.
– У меня тоже выходные. Давай-ка еще.
Он протянул ей еще одну банкноту, получив взамен кивок – и ни слова благодарности.
– Ты всем раздаешь, Майло? – крикнула Комелия. – Мы бы хотели новый телик, спасибо.
– И стиральную машину, пожалуйста, пока не забыл, – добавила Моника. Обе громко рассмеялись, вполне искренне – так, подумал Лоример, словно не воспринимали его всерьез, как будто тот человек, которым он стал, для них был всего лишь уверткой, одной из забавных шуток Майло.
В холле он испытал короткий шок, но быстро взял себя в руки. Из отцовской «гостиной», находившейся дальше по коридору, тоже орал телевизор. В этом доме жили шестеро взрослых и один ребенок. («Шесть женщин в одном доме, – пожаловался как-то его старший брат Слободан. – Для мужика это чересчур. Потому-то мне и пришлось сбежать отсюда, как и тебе, Майло. Мое мужское начало задыхалось».) Он задержался у двери; внутри надрывались крикливые голоса австралийцев – спортивная программа по спутниковому каналу (он и за это заплатил?). Лоример опустил голову, дал себе слово, что выдержит, и осторожно отворил дверь.