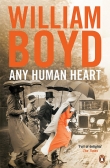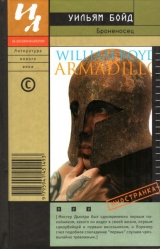
Текст книги "Броненосец"
Автор книги: Уильям Бойд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
– И что же это?
– Буду сниматься в кино, – протяжно проговорила-пропела она. – Два дня работы, тысяча фунтов. – Она изобразила изумление, вытаращив глаза: – «Но, Ти-мо-ти,мамочка говорила мне, что ты биржевой маклер!» – И на секунду залилась слезами. – Видишь, я даже свою роль разучила.
Они чокнулись шампанским. Лоример заметил, что рука у него все еще дрожит.
– Давай за твою работу.
– Давай за твою машину. Бедняжка. А как она называется?
– «Тойота».
– Да нет, я имею в виду – как тыее зовешь?
– Никак не зову.
– Как скучно. Нужно давать вещам имена. Адамова задача, и все такое. Отныне, Лоример Блэк, давай имена вещам, которые тебя окружают в жизни, – я настаиваю! Ведь тогда все становится более… более настоящим.
– Меня не интересуют машины.
– Но кто-то же ее подпалил! Это самое гадкое, что с тобой случалось из-за работы?
– Ну, бывают угрозы расправы. Чертовски неприятно.
– Еще бы. Боже мой, подумать только. Это пока ты там оценивал убытки?
– Люди иногда чертовски злятся. – Пора прекратить говорить «чертовски».
– Надеюсь, хотя бы без убийств обходится?
– При таком исходе хоть беды заканчиваются.
– Заканчиваются?
– Adios, планета Земля.
– Поняла. Выпей-ка еще. – Она подлила ему и подняла свой бокал. – До дна за настоящих донов, а подонкам – дно! Откуда вы взялись, мистер Лоример Блэк?
Они принялись за обед (гаспачо, спагетти-примавера, фруктовое мороженое), и Лоример изложил ей свою краткую отредактированную автобиографию: родился и вырос в Фулэме, затем университет в Шотландии, несколько лет «метаний», а потом потребность в твердом доходе (нужно было помогать престарелым родителям) привела его в ту область страхового дела, где он обретается до сих пор. Он дал понять, что эта профессия – нечто временное, что страсть к скитаниям еще жива в его душе. Как здорово, заметила она. И, в свой черед, рассказала ему кое-что о своих попытках работать актрисой и моделью, о пробах в новый фильм, – однако главной темой ее рассказа, к которой они то и дело возвращались, был «Гилберт» – «невозможный, себялюбивый и отвратительный, причем не обязательно в таком порядке».
– А кто этот Гилберт? – осторожно спросил Лоример.
– Ты же его видел в прошлый раз.
– Мне казалось, его зовут Нун.
– Это его сценическое имя. А настоящее имя – Гилберт, Гилберт Малинверно.
– Да, звучит иначе.
– Вот именно. Поэтому я называю его Гилбертом, когда сержусь на него. Такое жалкое имя.
– А что… Э-э… Что он делает?
– Он жонглер. Причем блистательный.
– Жонглер?
– Но теперь он это забросил и начал сочинять мюзикл.
– Он что – музыкант?
– На гитаре сказочно играет. Но в итоге вот уже много месяцев он не зарабатывает ни пенни, вот почему я зову его Гилбертом. У него множество талантов, но при этом он страшно туп.
Лоример проникся к Гилберту Малинверно глубоким омерзением.
– Давно вы женаты? – спросил он так, словно этот вопрос только что пришел ему в голову.
– Года четыре. Думаю, на самом деле я за него вышла из-за фамилии.
Я вот тоже поменял имя, хотел было сказать Лоример. Для этого совсем не обязательно вступать с кем-то в брак.
– Флавия Малинверно, – произнес он. – А как тебя звали до этого?
– Вовсе не так красиво. А ты не знаешь, что «Малинверно» по-итальянски – это «дурная зима» – mal'inverno? И по этому поводу, – добавила она, взглянув на снег за окном, а потом дотянувшись до него и сжав его руку, – давай выпьем граппы.
Они выпили граппы, после чего наблюдали, как на улице дневной свет сгущается в синеватые сумерки. Снег постепенно унимался: в воздухе порхали одинокие шальные снежинки, слетавшие вниз по спирали. На тротуаре остался лежать двухдюймовый слой, а проезжая часть, изборожденная колесами, окрасилась в шоколадный цвет.
Попросив счет, они затеяли дружескую перепалку, а затем договорились, что Флавия заплатит за шампанское, а Лоример – за еду и вино. На улице Флавия по-новому замотала шарф на шее и поплотнее запахнула замшевую куртку.
– Холодно, – пожаловалась она. – Какой же холодный этот снег из Пимлико. Господи, я, похоже, надралась.
Она сделала полшага и, казалось, собиралась прильнуть к боку Лоримера, будто хотела погреться, и Лоример невзначай – что тут удивительного? – обнял ее, почувствовал, как она дрожит, а потом – опять-таки, что тут удивительного? – они как-то повернулись лицом друг к другу. И вот уже они целовались – хотя и не так, как это было в прозрачном сновидении, зато ее язык глубоко проник в его рот, и Лоример был на грани взрыва.
Оторваться друг от друга их заставила дружная овация персонала «Соле-ди-Наполи»: все, как один, они стояли у окна, одобрительно вопили и хлопали в ладоши.
– Счастливо, Лоример Блэк! – прокричала Флавия. – Я тебе позвоню.
Она скрылась за углом, пропала из виду, прежде чем его губы успели вымолвить ее имя. Он медленно побрел к своей обожженной и изуродованной машине, удивляясь, отчего вдруг вокруг сердца сгустилась какая-то тяжесть.
Глава двенадцатая
– Что-то он раскис немножко, – сказала Моника. – В понедельник совсем из постели не вылезал, даже не шелохнулся. Ну, я и поняла – чувствует себя неважно.
Моника с Лоримером стояли в коридоре, перед дверью в отцовскую комнату, переговариваясь тихими голосами, точно консультанты в больничной палате. Лоример дрожал: квартира совсем вымерзла. На улице стояла промозглая стужа, снег не таял и даже покрылся голубоватой коркой льда.
– Здесь же настоящий морозильник, Моника, – заметил Лоример. – Что-то не так с центральным отоплением?
– Оно включается в шесть часов. Так таймер установлен.
– Измени таймер. Глупо же мерзнуть. Ты хоть об отце подумай.
– Таймер нельзя изменить, Майло. А папуле там в постели тепло и уютно – у него электрическое одеяло.
– Отлично, – сказал Лоример. – Можно с ним повидаться?
Моника распахнула дверь и впустила его в комнату.
– Только недолго, – попросила она. – Мне нужно за покупками сходить.
Лоример тихонько закрыл за собой дверь. Комната была маленькой и узкой – там умещались односпальная кровать, прикроватный столик, телевизор и небольшое кресло. Стена напротив кровати была увешана фотографиями семейства Блок в дешевых рамочках: бабушка, мать, дети в разном возрасте – Слободан, Моника, Комелия, Драва. И малыш Миломре – последыш.
Лоример осторожно подошел к кровати, придвинул поближе кресло. Отец скосил на него свои синие глаза.
– Привет, папочка, это я, – произнес Лоример. – Неважно себя чувствуешь, да? А что у тебя болит? Наверное, вирус какой-нибудь. Погодка – хуже некуда. Правильно, лучше лежать в теплой, уютной постельке. Ты поправишься… – Он еще некоторое время продолжал говорить подобные утешительные банальности, как и советовали ему мать и сестры, уверявшие, что тот все понимает. Однако в этом можно было усомниться: слабая улыбка отца оставалась неизменным и единственным откликом на все, что происходило в мире. Зато сегодня, по крайней мере, выразительными оставались его глаза, то и дело моргавшие. Лоример дотянулся до отца и взял его за правую руку, которая покоилась поверх одеяла на груди (конечно же, ее поместила туда Моника – она всегда хотела, чтобы все было опрятно, все «как надо», вплоть до этой инвалидской позы). Лоримеру было непонятно состояние отца: ведь он не парализован – просто очень бездеятелен. Он способен ходить, способен двигать руками и ногами, если его к этому легонько понуждать, но без такого понуждения он предпочел бы пребывать в почти полном покое и бездействии. Но только во внешнем бездействии: внутри-то, по-видимому, все работало, как обычно: дыхание, насыщение кислородом, шлюзование, фильтрация, выделение и так далее. Однако окружающие заставляли ленивца суетиться и чем-то заниматься. Может быть, он находится в постоянной спячке – вроде питона, свернувшегося кольцами в скальной расщелине, или полярного мишки, заснувшего в пещере среди льдов? Лоримеру казалось, что существует какой-то медицинский термин, описывающий нечто подобное, – «вегетативное состояние», или «растительное существование». Но он бы, скорее, сравнил отца со спящим медведем, чем с каким-нибудь овощем.
– Ну вот, пап, как оно все вышло, – говорил он. – Ты просто от всего устал, вот и решил все выключить. Ты же не морковка и не картошка. – Он сжал отцовскую руку и вдруг, как ему показалось, почувствовал слабое ответное пожатие. Отцовская ладонь была сухой и гладкой, без мозолей, с подстриженными и отполированными ногтями, с россыпью пигментных пятнышек на тыльной стороне. Такую руку было приятно держать в своей.
– Ты поправишься, папа, – повторил Лоример, и вдруг у него прервался голос: в комнате, будто привидение или призрак, материализовалась мысль о предстоящей смерти отца, – и глаза ему защипали слезы. Он понял, что боится остаться в мире, где больше не будет Богдана Блока – пусть даже Богдана Блока, низведенного до нынешнего состояния.
Чтобы прогнать мрачные мысли, Лоример стал с раздражением вспоминать почти невыносимые вечера, проведенные в обществе Торквила Хивер-Джейна, его нового «лучшего друга». Казалось, Лоример только и делает, что прислуживает ему на разные лады: все время за ним прибирает, пополняет запасы провизии, поглощенные им (между тем выпито уже три бутылки виски), и без жалоб выслушивает его литании из стенаний, сетований и монологов, исполненных жалости к самому себе. Сделался он, против своей воли, и слушателем нескончаемого жизнеописания Хивер-Джейна – этаким смертельно скучающим Босуэллом при Торквиле в роли неутомимого доктора Джонсона; Торквил будто постоянно просеивал свое прошлое, выискивая причины несправедливости к нему всего мира, пытаясь понять, что произошло и отчего его жизнь и карьера приняли столь катастрофический оборот. Лоример слушал его бесконечные рассказы о живущих вдалеке престарелых родителях, о несчастных десяти годах в школе-пансионе, о неудачных попытках стать солдатом (два года в чине младшего офицера в непрестижном полку), о вхождении – безо всякой охоты – в мир страховщиков, о бесчисленных подружках, об ухаживании за Бинни и женитьбе на ней, о ее жутких родителях и братьях, о ее непримиримости, о его скромных, заурядных неудачах и, наконец, о его мечтах о новом блестящем будущем.
– Оно на востоке, – втолковывал он Лоримеру, имея в виду свое будущее. – Венгрия, Румыния, Чешская Республика – вот твои новые рубежи. – Таков был единственный совет, исходивший от его многочисленных дружков, от корешей из Сити, которых он обзвонил. – Мне бы только хоть какой-нибудь капитал наскрести. Тогда бы я купил офисный квартал в Будапеште, супермаркет в Софии, станцию техобслуживания в Моравии. Там все дешево, как грязь. Ясно, что люди там – ну, британцы, вроде нас с тобой, – целые состояния сколачивают. Кучи деньжищ – успевай только выгребать. – От боли и тоски в его голосе сердце надрывалось. Лоример предложил ему немедленно произвести разведку. – Но я же совсем разорен, Лоример, – я по миру пущен, я – нищий. Бабок – ни гроша. Я по уши в долгах. – А потом радужные ожидания снова сменялись знакомыми жалобами: мерзавцы-адвокаты, та-еще-сука Бинни, дьявол-во-плоти Хогг, корыстные и эгоистичные так называемые друзья, которые и пальцем не хотят шевельнуть, когда в них возникает нужда («Разумеется, речь не о тебе»). Торквил перечислял их всех – этих Рори, Саймонов, Хьюи и какого-то американского предпринимателя, которому когда-то он оказал некую весьма важную услугу. Американца этого звали Сэм М. Гудфорт, и Торквил твердил его имя будто мантру: «Гудфорт, Гудфорт, где же теперь этот чертов Сэм Гудфорт?» Когда уровень виски в бутылке опускался ниже середины, Лоример обычно уходил спать и потом лежал с открытыми глазами в постели, думая о Флавии Малинверно и слушая, как Торквил звонит по телефону и смотрит телевизор, постоянно переключая каналы.
Прошло уже три дня после незабываемого обеда в ресторане, а Флавия все не звонила. «Счастливо, Лоример Блэк, я тебе позвоню», – прокричала она ему тогда на занесенной снегом улице. Закрыв глаза, Лоример мог мысленно услышать ее голос, увидеть ее высокую фигуру, исчезающую за углом…
– Зачем ты держишь его руку? – спросила Драва, неслышно войдя в комнату.
– Я подумал, это его успокаивает, – ответил Лоример, а сам тут же подумал: «Это меня успокаивает».
– Что еще за бред! – возразила Драва, передернув плечами, и вернула отцовскую руку на покрывало.
В прихожей теперь ощущался едкий запах готовки. Лоример услышал, как на кухне гремят посудой, смеются и болтают на своем языке бабушка и мать. Малышка Мерси сидела в гостиной и смотрела по видео какой-то фильм с воплями и драками. Еще откуда-то доносились едва слышные звуки музыки.
– Эй, Майло, – любовно окликнула его бабушка. – Оставайся, пообедаешь. У нас свинина. Славная вареная свининка.
А, вот что это за запах. Лоример дошел до двери кухни и там остановился: еще один шаг – и он бы задохнулся от чада. Он стал осторожно дышать ртом. Его мать готовила клецки, раскатывая шарики теста между ладонями и бросая их в кастрюлю со шкворчащим жиром.
– Когда придет врач? – спросил Лоример.
– Сегодня, кажется, в шесть вечера.
– Кажется? Пусть обязательно придет, скажите ему. Пусть пропишет ему все самое лучшее. Все анализы я оплачу.
– А, да с ним полный порядок, просто загрустил немножко.
– Оставайся пообедать, Майло, – попросила Комелия, подойдя сзади и ткнув его в ребра. – Ты же совсем тощий. Тебе не помешает славная вареная свининка.
– И пельмешки, – воскликнула Мерси, выбежав из гостиной. – Пельмешки! Пельмешки! Пельмешки!
– Ну, не умница ли? – сказала его мать. – Целое море пельменей для тебя, дорогой. Когда же я от тебя дождусь новых умненьких внучат, а, Майло?
Лоример увидел, как Драва выходит из комнаты отца с ночным горшком, и понял, что пора уходить.
– У меня встреча, – сказал он вяло. – А где Слободан?
– А ты как думаешь? – переспросила Комелия с усмешкой. – В «Кларенсе».
* * *
«Кларенс» – или, точнее, «Герцог Кларенс» (таково было полное название паба), – находился ярдах в двухстах дальше по Доз-роуд. Направляясь к «Кларенсу», Лоример осторожно ступал по замерзшей снежной корке, и леденящий ветер тут же уносил прочь от его рта пар, который образовывался при дыхании. С севера проникал какой-то угрожающий, зловещий свет. Было только обеденное время, но казалось, что вот-вот наступит ночь.
Беда «Кларенса», подумал Лоример, в полном и откровенном отсутствии очарования, которое само по себе могло бы даже в наше время создать в вышеназванной пивной некую особую ауру, но даже самый ностальгирующий выпивоха, решил Лоример, и тот не мог бы испытывать настоящей любви к этой жалкой дыре. В ней были все минусы, все недостатки, какие только можно найти в пивной, не важно, старой или новой: скудный выбор шипучего пива, легкая музычка, отсутствие съедобной еды, множество грохочущих, мигающих и гудящих игровых автоматов, липкий ковер с узором, спутниковое телевидение, вонючий старый пес, угрюмые старики-завсегдатаи, пьяные юнцы-завсегдатаи, минимум отопления, лабораторно-яркое освещение. Это и было излюбленное местное заведение его брата Слободана.
Лоример толкнул вращающиеся двери, и в нос ему тут же ударила вонь от миллиона потушенных сигарет и пива, пролитого здесь за последние двадцать лет. За столиком в углу какой-то старикашка то ли помер, то ли упал в обморок: рот у него был широко раскрыт, сальная фетровая шляпа слетела с головы. Может, он нарочно решил тут помереть, подумал Лоример. «Кларенс» мог подействовать на посетителя и таким образом, – как будто они подмешивали в свое кислое пиво еще и дозу Weltschmerz [23]23
Мировая скорбь (нем.).
[Закрыть].
Слободан с Филом Бизли сидели возле бара, где молодой бармен с моржовыми усами и татуированной цепью вокруг шеи мыл стаканы в раковине с мутной серой водой.
– Майло, самый главный мужик, – произнес Бизли, наверное, в тысячный раз.
– Вот, Кев, это мой младший братишка. Он миллионер.
– Здорово, приятель, – поздоровался Кев, в котором за версту чувствовался австралиец. Последняя реплика не произвела на него никакого впечатления. Лоример только подивился, что заставило этого малого покинуть свою жаркую, солнечную страну, преодолеть такое колоссальное расстояние – перенестись через океаны и континенты, в другое полушарие, – чтобы очутиться в Фулэме, за стойкой бара в «Кларенсе». А еще он догадался, что нарочитое упоминание Слободаном его мифических миллионов следует толковать так: «Не требуй назад своих денег». А он как раз собирался осторожно выяснить, как обстоит дело с возвратом одолженной суммы: с утренней почтой пришла записка от Ивана Алгомира, где тот жаловался на «назойливые и несвоевременные запросы из налоговой» и интересовался, когда можно обналичить чек. Это напомнило ему и о другом: следует поторопить с выплатой премии за дело «Гейл-Арлекина». Во всем ощущалась некоторая напряженность.
– Чем будешь травиться, Майло? – спросил Бизли.
– Минеральной… – Нет, это не годится: вода в «Кларенсе» текла только из крана. – Пинту «спихока».
«Спихок», лагер особой крепости, предназначался для того, чтобы долгий день пролетал быстро. Лоример поднес к губам высокую кружку с пенной жидкостью, сделал глоток, – и ощутил, как мозг его сдается. Бизли и Слободан пили двойной джин с кокой. Лоример настоял, чтобы заплатить за троих.
– Отцу там… нехорошо, – пробормотал Лоример с отрыжкой. Потом икнул и закашлялся. Крепкое пойло.
– Все будет в порядке.
– Да у него конституция яка, – поддакнул Бизли и зачем-то довольно больно ущипнул Лоримера за предплечье. – Эй, Майло, рад тебя видеть.
– Как идут дела? – спросил Лоример.
– Хреново, – ответил Слободан, и лицо у него вытянулось. – Помнишь старого Ника и молодого Ника?
Отец и сын, водители из «Би-энд-Би».
– Да, а что?
– Их сцапали.
– За что?
– Торговали наркотиками возле станции «Эрлз-Корт». Оказалось, у них дома, в Танбридже, целое поле марихуаны. Полтора акра.
– И вот, – проговорил Бизли с отвращением, – мы лишились двух водил. Не хотелось бы, честно говоря, чтобы мои следы обнаружили у дома старикана Ника. Так и свихнуться недолго – правда, Лобби?
Лобби яростно закивал – еще бы, свихнешься тут.
И тут в уме Лоримера начала смутно вырисовываться одна мысль – опасная мысль, пивная мысль.
– Послушай, Фил, – начал он. – Тут один парень меня очень достает. Понимаешь, если б я захотел его припугнуть, как ты думаешь, ты бы не мог ему шепнуть словечко-другое на ухо?
– Хочешь разобраться с ним?
– Просто предупредить.
– Ладно, мы ведь тебе обязаны, – правда, Лобби?
– А что он тебе сделал? – спросил Слободан с искренним любопытством.
– Поджег мою машину паяльной лампой.
– Сто лет такого не видел, – удивился Бизли. – Это ж уйму времени отнимает.
– А на чем он ездит? – спросил Слободан.
– На «БМВ». Большой, новая модель.
– Я понял, о чем ты думаешь, Лобби, – сказал Бизли, по-настоящему воодушевившись. – Око за око, тачку за тачку. – Он доверительно склонился к Лоримеру. – Мы с Лобби подкатим к этому парню, лады? У нас есть парочка здоровенных дрынов – трах, бах, – и нас уже след простыл, а «БМВ» серьезно попортили личико. Справимся?
– Легко, – согласился Слободан. – Скажи только – когда, шеф.
Лоример пообещал и записал приметы Ринтаула, чувствуя легкую тревогу при мысли о том, что он затевает, но успокаивая себя тем, что это действие – чистая предосторожность с его стороны и что он только следует указаниям Хогга. «Устраивай „смазку“ сам», – так заявил ему Хогг. Раз уж Ринтаул начал эту глупую игру, то теперь пусть имеет дело с Бизли и Блоком – крепкими ребятами со здоровенными дрынами.
Он отхлебнул еще немного пузырящегося «спихока», чувствуя, что алкоголь почти мгновенно разливается по жилам. Потом поставил кружку на стол, пожал на прощанье руки брату и Бизли, кивнул Кеву и осторожными шагами выбрался из этой жуткой пивнушки. Проходя мимо покрытого пятнами зеркала у двери, он увидел отражение Фила Бизли, жадно допивающего его недопитый лагер.
Небо окрасилось в иссиня-багровый цвет, воздух кололся льдистыми кристалликами. Лоример зашагал к своей обугленной машине, сбросив с плеч меланхоличную тяжесть «Кларенса», как ненужный рюкзак.
* * *
К несчастью, место для стоянки Лоример нашел только рядом с Марлобовым цветочным ларьком.
– Это что же за машина такая? – спросил Марлоб. Его лоток слепил глаза разноцветно-пестрой массой гвоздик.
– Ее подожгли. Думаю, вандалы.
– Я бы их кастрировал, – с чувством сказал Марлоб. – Сперва бы кастрировал, а потом поотрубал бы правые руки. После этого не вандальничали бы так. Не хотите букетик белых гвоздик?
Отвращение Лоримера к гвоздикам еще не прошло, поэтому он купил букет из десяти нарциссов с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, почему-то чудовищно дорогой.
– Там двое парней в «роллере» сидят возле вашего дома. Уже несколько часов ждут.
Это был не «роллер», а «мазерати-даймлер», или «роллс-бентли», или «бентли-даймлер» – один из тех роскошных гибридов, сходящих с конвейера в ограниченном количестве, что обходятся владельцу не меньше чем в 200 тысяч фунтов. Наверняка это был самый дорогой личный автомобиль, какой только парковался когда-либо на гудронированном покрытии Люпус-Крезнт. За баранкой сидел толстяк Терри, фактотум – мальчик на побегушках, мажордом Дэвида Уоттса.
– Привет, – поздоровался Терри, как всегда весело. – Дэвид хотел бы с вами переговорить.
Тонированное заднее окно бесшумно опустилось, и за ним показался Дэвид Уоттс в спортивном костюме «вулвергемптон-уондерерс», сидевший на кремовом сиденье телячьей кожи.
– Можно с вами словом перемолвиться?
– Может, тогда подниметесь ко мне?
Войдя в квартиру Лоримера, Уоттс застыл как вкопанный и начал озираться, будто попал на выставку в Музее Человечества.
– Извините за беспорядок, – сказал Лоример, подбирая алюминиевые миски, сгребая в охапку брошенные рубашку и трусы. – У меня тут друг гостит. – Он затолкал в мусорное ведро миски, рубашку, трусы и нарциссы (какая теперь разница?). На полу перед плитой чернело какое-то засохшее пятно.
– Милая вещица, – заметил Уоттс, показывая на шлем. – Настоящий?
– Ему около трех тысяч лет, он древнегреческий. Хотите, я задерну шторы?
На Уоттсе были черные очки.
– Нет, спасибо. Да у вас тут целая куча компактов. Не так много, как у меня, конечно, но все равно очень много.
– Извините, я с вами до сих пор не связывался, но там все еще ведется консультация…
– Да вы не беспокойтесь об этой страховой фигне. Не торопитесь. Нет, я насчет той группы, которую вы упоминали, – Ачимоты. «Сущая Ачимота».
– Кваме Акинлейе и его «Achimota Rhythm Boys».
– Точно. Вы верите в серендипье, мистер Блэк?
– Не очень. – По правде говоря, он верил во что-то противоположное, как бы оно ни называлось.
– Это ведь самая мощная сила в жизни человека. В моей, например. Мне нужно обязательно отыскать тот диск, о котором вы говорили. Эту «Сущую Ачимоту». Я знаю – это будет для меня очень важно.
– Это импортный диск. Обычно я заказываю их по почте. Есть еще один магазин в Кэмдене…
Из спальни вышла Ирина. На ней была одна из рубашек Лоримера.
– Привет, Лоример, – поздоровалась она и прошла на кухню.
– Я тут не мешаю, нет? – вежливо поинтересовался Уоттс.
– Что? Нет. Гм. Я только…
– У этой девушки – самые белые ноги, какие я только видел в своей жизни. Могу я каким-то образом купить у вас этот диск? Назовите свою цену. Ну, двести фунтов.
– Я могу вам его одолжить. – Лоример услышал, как на кухне открываются и закрываются дверцы шкафа.
– Одолжить? – переспросил Уоттс, как будто такая мысль никогда не приходила ему в голову.
– Вы не могли бы подождать секундочку? – попросил Лоример. – Извините.
На его кровати валялся, откинувшись на подушки, голый Торквил и читал, насколько можно было разобрать издалека, мужской журнал – «мягкое порно». Слава богу, хотя бы между широко раскинутых ляжек у него была собрана в комок простыня.
– А, привет, Лоример. Угадай, кто здесь.
– Я уже ее видел. Что это значит, Торквил, хрен побери?
– Боже мой, а что же я еще должен был делать?
Ирина вернулась с бутылкой белого вина и двумя бокалами. Она села на край кровати, застенчиво скрестив ноги, и налила вина Торквилу. Тот уже вытянулся через весь матрас, демонстрируя голую задницу, и рылся в брючных карманах в поисках курева. В неожиданном «рыцарском» порыве он зажег сразу две сигареты и одну предложил Ирине.
– Лоример, – вопросительно проговорила Ирина, выпуская дым из уголка рта.
– Да?
– Человек в комнате. Это Дэвид Уоттс?
– Да.
– Я не верю, я в одном доме, в том же доме с Дэвидом Уоттсом, – возбужденно заговорила Ирина и вдруг совсем перешла на русский. Действительно, у нее поразительно белые ноги, отметил Лоример, – длинные и стройные, а голубые жилки похожи на… Он на секунду призадумался. Они похожи на реки под паковым льдом, если глядеть на них с высоты.
– Не тот Дэвид Уоттс – певец? – переспросил Торквил, тоже изумившись. – Здесь, в этой квартире?
– Да. Я ему одалживаю компакт-диск.
– Иди ты на фиг.
– Сам иди на фиг.
– Врун хренов.
– Иди и сам посмотри.
Лоример вернулся к Уоттсу. Тот, водрузив черные очки на лоб, уже сидел на корточках перед изготовленными на заказ стеллажами, где размещались все компакт-диски Лоримера. Уоттс уже нашел Кваме Акинлейе: Лоример хранил диски в алфавитном порядке, по странам.
– У вас тут столько классики, – заметил Уоттс. – И куча бразильцев.
– Раньше я слушал только центрально– и южноамериканскую музыку, – пояснил Лоример. – А года три назад переключился на Африку. Начал с Марокко и стал двигаться на юг – ну, по кривой.
Уоттс нахмурился.
– Интересно. И докуда добрались?
– До Ганы. Собираюсь двигаться к Бенину. Может быть, на следующей неделе.
– Это и есть то, что вы называете «жизненным», да?
– По сравнению с той дрянью, которую мы на Западе производим.
Тут появились второпях одевшиеся Ирина и Торквил, и Лоримеру пришлось их представить. Торквил указал пальцем на Уоттсов спортивный костюм и пропел: «Эй вы, Во-олки». Ирина попросила автограф, а потом то же самое сделал Торквил – для кого-то по имени Эми. Лоример с некоторым шоком осознал, что Эми – это четырнадцатилетняя дочка Торквила (которая учится в школе-пансионе); оставалось только надеяться, что она не станет расспрашивать отца, при каких обстоятельствах тот раздобыл ей автограф Дэвида Уоттса.
– Надеюсь, я вам не помешал, – сказал Уоттс, выводя свое имя на двух листках писчей бумаги. – Любовь средь бела дня, и все такое.
– Да нет, мы уже закончили, – ответил Торквил. – Кстати, Ирина, тебе ведь пора уходить? Да? Уходить пора, да? Уходить?
– Что? Ах да, мне пора уходить. – Она подобрала сумочку, робко попрощалась (Лоример отметил, что между ней и Торквилом больше не возникало никакого физического контакта) и ушла. Уоттс взял у Торквила предложенную сигарету.
– Меня потрясло, что она вас узнала, – сказал Торквил. – Я про Ирину. Она же русская.
– В России все знают Дэвида Уоттса, – сказал Дэвид Уоттс. – Я продаюсь там миллионными тиражами. Миллионными.
– Правда? А скажите, «Команда» когда-нибудь соберется снова?
– Только через мой труп, приятель. Они воры, грабители. Я скорее себе язык откушу. Скорее глотку себе вырву голыми руками.
– Значит, не больно-то вы по-дружески разошлись, да? А что случилось с Тони Энтони?
Уоттс не стал надолго задерживаться; видимо, ему не очень понравилось то, как Торквил принялся ворошить историю его бывшей группы. Лоример одолжил ему еще пару дисков – певца из Гвинеи-Бисау и духовой оркестр из Сьерра-Леоне. Уоттс обещал переписать их и вернуть на следующий день с Терри, а потом застенчиво – точно вдовица или старая тетушка-девица – попросил Лоримера проводить его до машины. Терри увидел, как они приближаются, и, вскочив с шоферского сиденья, распахнул заднюю дверцу.
– А эта фигня со страховой компанией, – проговорил Уоттс, отшвыривая окурок. – Я тут поговорил со своими ребятами. Думаю, если мне не заплатят, будет самая громкая тяжба. Двадцать, тридцать миллионов.
– Прекрасно, – сказал Лоример. – Мы любим, чтобы подобные дела решались через суд. – Это понравилось бы Хоггу, подумал он печально.
– Вы поймите, – продолжал Уоттс, – просто некрасиво будет, если Дэвида Уоттса затаскают по судам. Нехорошо как-то.
– Что поделаешь.
– Диски верну завтра, дружище, – сказал Уоттс, забираясь в машину. – Большое спасибо, Лоример, – можно называть вас Лоример? Из этого должно что-то выйти. Серендипье. До связи.
Машина тронулась: казалось, ее широкие шины вращаются совершенно беззвучно. Люди на улице останавливались и удивленно провожали ее взглядами. Лоример вспомнил, что недавно в воскресной газете был опубликован список богатейших людей страны, и Дэвид Уоттс значился в нем на 349-м месте.
В холле Лоримера поджидала леди Хейг. На ней был опрятный зеленый твидовый костюмчик, а на голове – тюрбан, зашпиленный шляпной булавкой с рубиновой головкой. Из-за ее ног выглядывал Юпитер, тяжело и ровно дышавший.
– Сегодня утром ваш друг привел к себе девицу.
– Могу только принести свои извинения, леди Хейг.
– Он ужасно шумит – все время грохочет и топает, и днем и ночью.
– Я попрошу его вести себя потише.
– По-моему, Лоример, он неотесанный мужлан.
– Совершенно с вами согласен, леди Хейг, совершенно с вами согласен.
389. Серендипье.Образовано от «Серендип» – бывшего названия Цейлона, ныне Шри-Ланка. Слово это придумал Хорес Уолпол; он отталкивался от одной народной сказки, персонажи которой все время набредали на что-то такое, чего нарочно не искали. Следовательно: серендипье – это способность случайно совершать счастливые и неожиданные открытия.
Что же тогда является противоположностью Серендипа – южной страны, теплой и солнечной, омытой морями и утопающей в пышной зелени, изобилующей пряностями и певчими птицами? Вообразим себе совершенно другой мир на крайнем севере – бесплодный, скованный льдами, морозный, мир из кремня и камня. Назовем его Зембла. Следовательно: зембланье – антоним серендипья, способность нарочно совершать злосчастные, неудачные и предсказуемые открытия. Серендипье и зембланье: два противоположных полюса той оси, вокруг которой все мы вращаемся.
Книга преображения
В тот вечер Торквил охотно и даже с некоторыми подробностями рассказал Лоримеру о том, что они с Ириной делали в его постели (простыни уже были снесены в прачечную). Они посмотрели (по желанию Торквила) какой-то жестокий научно-фантастический триллер по кабельному телеканалу, а потом Торквил заказал по телефону пиццу с чипсами. Торквил выкурил пачку сигарет и допил виски, после чего впал в пьяную плаксивость («О, Бинни, Бинни, Бинни»), а затем в злобное настроение, особенно понося Оливера Ролло. Бинни, оказывается, пригласили на свадьбу Оливера и Поттс, а Торквила – нет: это ясно указывало на Торквилово положение изгоя, и Лоример видел, как его это ранит. Торквил с вожделением заговорил о Южной Америке, – видимо, Восточная Европа больше не казалась ему достойным обсуждения предметом.