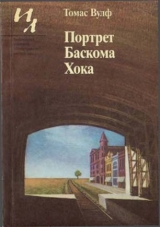
Текст книги "Портрет Баскома Хока"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– Можно, – почмокал он губами, – как-нибудь совершить неспешную прогулку. Мирная природа, как ничто другое, способствует размышлениям. Никакого сомнения!
– Угу, – сказала вдова.
– Завтра, – шепнул Баском.
– Угу, – из чрева мурлыкнула вдова.
Так дядя Баском и вдова начали свой променадный курс, в продолжение которого он широко излагал свои убеждения, а она, имея родственную с ним душу, подтверждала совпадение взглядов. Тетка Луиза видела их отлучки, всякий раз она пристально глядела им вслед белыми безумными глазами, злобно фыркая и привычно бормоча: – Старый дурак… Жалкий скряга… Жена раздетая, а он спускает состояние на них… Это родовое… Кровь сказывается, – хрипло шептала она. – Они все безумны… У них в семье все эротоманы.
Однажды Баском и вдова загулялись и на закате были еще в миле от поселка. Место было пустынное; дорога огибала заливчик, петляя в чахлом сосняке и реденьких пальмовых рощицах; был отлив, в вязком илистом ложе стояли лужицы воды, какие-то птицы с погибельным криком носились над сиротской мокрой сушей, пахло ракушечным сором, морской пеной – застойно, крепко, волшебно, пьяняще пахло морем. Воздух и небо были неправдоподобно чисты, благостны, оранжевый шар остывшего солнца скрашивал унылое одиночество западного небосклона. Вдова и Баском с минуту полюбовались на эту картину, и вдова победно сказала:
– Мистер Хок, теперь-то вы понимаете, что Кто-то должен был все это сделать? Что само собой это не может сделаться? Видя этот прекрасный закат, вы понимаете, что сотворить его мог только господь бог? Конечно, понимаете, мистер Хо-о-ок!
– Насколько красив солнечный закат, – сказал дядя академическим тоном, – вопрос спорный. Например, философ Гегель мало того, что не видел в нем красоты, но еще называл небесной оспой. – Баском закрыл глаза и фыркнул.
– Мистер Хо-о-ок! – укоряюще протянула вдова. – Я уверена, что вы так не думаете. Человек с такой головой не может разделять такие мысли.
– О! – воскликнул Баском, непонятно почему оживившись. – Никоим образом! Никоим образом! – И в пароксизмах непрошеного смеха он несколько раз с силой топнул ногой.
Воцарилось молчание. Безмерная, бурная радость, какая-то ликующая сила распирала дядю. Он поглядел на мелководье, поглядел на садящееся солнце, поглядел на вдову и от наплыва радости ничего не смог сказать.
– А что, если, – помолчав, начал он вопрошающе, но веселье снова обуяло его, он смолк, загримасничал, затопал ногой и рассмеялся в нос. – Что, если мы пойдем вброд? – К последнему слову он подключил выжидательный и искусительный носовой обертон.
– Вброд, мистер Хок? – нараспев удивилась вдова. – А ради чего?
– Ради… устриц, – ласково и искусительно пояснил дядя.
– Устриц! – вскричала вдова. – Разве тут есть устрицы?
Баском задумался, и чем дольше он думал, тем веселее ему становилось. Он закусил гуттаперчевую губу, зажмурил глаза и взрывно рассмеялся в нос.
– Ну конечно, – стонал он. – Еще бы! Устрицы всегда есть!.. Много!..
Вяло поупиравшись приличное время и не высмотрев в соснах и пальмах соглядатая, вдова опустилась рядом с дядей и сняла туфли и чулки. И, взявшись за руки, они пошли по мелководью, которое редко приходилось им выше колен: вдова ступала с опаской, балансируя корпусом и пугливо вскрикивая пищеводом, дядя же Баском шел смело и вселял уверенность. – Детка, – говорил он, пожимая ей руку, – это не опасно. Совершенно не опасно! – восклицал он. – Вы в такой же безопасности, как на руках у своей матери. Да, сэр! Будьте спокойны на этот счет! Никаких сомнений!
Вдова подобрала подол и узлом держала его в руке, наполовину открыв молочные ляжки, а дядюшка Баском закатал брюки выше колен, обнажив жилистые ноги, и мерил воду на манер аиста. Примерно на середине лагуны они ступили на плотную песчаную отмель и помешкали там, глядя на закат, разминаясь на своем пятачке, настолько поглощенные спускавшейся темнотой, уединенностью и самими собою, что оба не заметили, как начался прилив.
А он таки начался. Вода шла уверенно, напористо и помаленьку, вскипая буруном у края губы, приливная волна накатывала, откатывала, накатывала, откатывала, по шажку продвигаясь все дальше, и скоро ноги Баскома неприятно лизнула влага; он глянул вниз и увидел, как их земная твердь буквально тает на глазах; он тревожно вскрикнул, позвал на помощь, но никто не поспешил на его крики; он сгреб в охапку полноватую вдову, судорожным рывком поднял ее и нетвердо шагнул в воду. С первого шага вода дошла ему до колен, со второго до половины ляжек, а на третьем шагу он охнул и бросил ношу. Та завизжала, сразу погрузившись по пояс; она визжала, хватаясь за него, цепляясь, и Баскома прорвало – он начал богохульствовать. Он грозил кулаком бесстрастному вечернему небу, он поносил бога, в которого не верил, но оплошный шаг ввергнул его в пучину по горло; и он запросил пощады у провидения, взмолился о спасении. Ни он, ни она не умели плавать; возможно, особая опасность им и не грозила, но оба перепугались до смерти, ошалели, набрав в уши воды, и когда они наконец добрели до берега, силы оставили вдову: забыв в воде ноги, она простерлась, хрипло дыша, подобием измочаленной Фрины[12]12
Куртизанка, легендарная модель «Афродиты Книдской» Праксителя. Афродита родилась из морской пены.
[Закрыть]. И Баском стоял на ватных ногах, клацая зубами; с его понурых плеч, с длинных костлявых рук, по жилистым ногам безостановочно струилась вода; речь покинула его, он стучал зубами, натерпевшись страха, и струил по себе воду. Наконец вдова шевельнула замызганными, но безусловными прелестями и хрипло позвала;
– Мистер Хок! Мистер Хок! Возьмите меня, мистер Хок!
В ту же минуту страшная судорога перекосила лицо Баскома, он отверз уста, но слова не шли, он затряс обоими кулаками, но слона не шли. Он возвел хулу на небеса, но слова не шли. Собравшись с силами и не полагаясь на собственный арсенал, он, как упоминалось, истово и пламенно взмолился: – Если бы тут был Б. Т.! Мне бы его язык! Чтобы сказать похлеще!
Так завершился роман между дядей Баскомом и вдовой.
Мне было тогда двадцать лет, шел мой первый год в Новой Англии, и зима казалась бесконечной. В людской толчее я тосковал, на улицах жизни чувствовал себя неприкаянно. В тот год я часто бывал у дяди.
Иногда я приходил в его пыльный закуток, где он корпел над мудреной юридической бумагой: плотно сжав губы, заполнял пустые графы, с мучительной осторожностью ставя прямые, разборчивые буквы. Не поднимая головы, он ровно говорил мне: – Здравствуй, сынок. Садись. Через минуту я в твоем распоряжении. – И некоторое время тишину нарушили только рев Брилла за перегородкой, тихое поскрипывание дядиного мера и немолчный, приглушенный гул времени, встававший над городом, сплетавшийся из миллиона городских голосов, но почему-то казавшийся далеким, изначальным, непреложным и вечным, заданным навсегда и не принимающим в расчет, кто там, внизу, еще шумит, а кто отшумел свое.
Или я заставал его глядящим перед собой поверх арочно сцепленных пальцев, с печатью спокойной мысли на разгладившемся лице. В такие минуты он казался отрешившимся от всего, что мельчило и унижало его, – от нелепости и нескладности речи и жестикуляции, от постыдного скряжничества, от раздражительности по пустякам и еще от многого, от чего эта покойная сосредоточенность духа обращалась гримасой лица и души. В такие минуты его лицо было само раздумье. Порой он подолгу молчал – казалось, его мысль, отрясши будний прах, витает над краем времен.
Таким я и застал его однажды; помедлив, он расцепил пальцы, опустил руки на стол и еще немного посидел, расслабившись, – он до сих пор не взглянул на меня. Потом скачал: – «Что есть человек, что Ты помнишь его?»[13]13
Слова из Псалтыри (Псалом 8, стих 5).
[Закрыть]
Стояли первые весенние дни; весна припозднилась и нагрянула по-северному врасплох. Она в одну ночь выломилась из-под земли, и воздух стал смягченный и певучий.
В приходе той весны были победа и предвестие; она пела и бабочкой трепетала у моих глаз, но я верил, что она принесет мне славу и небывалое утоление.
Я алкал и жаждал несказанно; на меня нашло фаустовское наваждение – никакая пища не насыщала, никакое питье не утоляло; ненасытным, обезумевшим зверем рыскал я по улицам, кланяясь булыжнику за милосердие, вымогая утешение и мудрость у миллионоликого окружения; я перерыл завалы книг на бесконечных полках, терзаясь слепотой и незнанием, а прочитав и узнав – не прозревал, разуверивался и отчаивался. Я хотел все знать, все иметь, быть всем – самим собой и еще многими, я хотел, чтобы тайна этого огромного роящегося мира была так же постигаема и осязаема, как чеканный рельеф монеты в моей руке.
И вдруг эта весна. Меня переполняли ликующая уверенность и восторг. В пыльное окно дядиной клетушки я видел край Фэней-холла, до меня докатывался клубящийся рыночный гул. Рынки глухо отрыгивали в размягченный певучий воздух, и я всей грудью вдыхал тысячи крепких, загадочных запахов, исполняясь верой в себя, верой в чудо, верой в то, что пелена упала с глаз, – что вожделенный мир у моих ног, и искомое слово сказалось, и терзавший меня голод утолился. И бурливые, изобильные рынки, колыхавшиеся там, внизу, были как бы живым свидетельствам утоления. Тут-то, мнилось мне, только и дано почувствовать подспудный жар Новой Англии – той, что стелется грубой, каменистой почвой и чья красота сумрачна и неприветлива, чьи скалистые берега безлюдны, а рыбные места кишат ловцами; где белые, колючие, студеные зимы блистают алмазами звезд; там чернеют пихтовые леса и светится теплое жилье, при виде которого сразу воображаешь полные закрома, подвешенные окорока, сидр, скворчащее сало и теплое, белое, роскошное любимое тело.
Шуршит пестрядевое платье, во взгляде холодок – это днем; под низкой кровлей и при звездах снующе шелестят атласные бедра, не больно кусают белые зубы и душит свирепая женская ласка; но что днем, что ночью – отсутствует сердце, похерено чувство, стынет жар. А потом в эту долгую, по-могильному холодную зиму врывается весна – врывается, как было со мною, хватающим за душу вскриком, стуком дождя в оконное стекло и словно бы – откуда? – звуками клавесина; врывается, все будоража, и ночь напролет дребезжат ставни, лопаются почки, бурлит и беснуется расходившаяся вода, сияют цветы; весна врывается внезапная, скоротечная, ликующая.
И живое свидетельство в пользу такой догадки под рукой, в восьмидесяти ярдах от пыльного закутка, где трудится дядя Баском; ибо совершенно ясно, что таинственный этот люд довольствовался не только треской и горшком тушеных бобов: они ели мясо, и ели помногу, потому что в рыночном квартале весь день разгружались мясные фургоны, мальчишки тянули по мостовым огромные корзины с убоиной, в заляпанных кровью передниках и обязательных соломенных шляпах брели мясники, нагрузившись филеями, огузками или грудинами, и в мясных рядах с посыпанным опилками полом туши висели как на смотру.
Обставшие центральный рынок справа и слева строения тянулись к гавани, на запах кораблей; берег здесь насыпной, в стародавние времена корабли швартовались у тех вон булыжников, но пакгаузы тоже старые: потускневшие и благостно раскисшие, они удерживали аромат семидесятых годов, казались сошедшими с викторианских гравюр и приводили на память ветхие гроссбухи, конторщиков, спесивых толстосумов-купцов и негромкий колесный стук викторий[14]14
Легкий двухместный экипаж.
[Закрыть].
Днем в этом квартале настоящее столпотворение, Gewirr[15]15
Хаос (звуков), путаница, суматоха (нем.).
[Закрыть]: тычутся фуры, серые в яблоках битюги, изматерившиеся ездовые, тормошится погрузка, разгрузка, суетится посадка, там кончают, тут начинают – миллионы нитей прихотливо ткут жизнь и коммерцию.
Но если прийти сюда вечером, когда трудовой день кончился, и если будет та ласковая и негаданная весна, какие случаются в Новой Англии, если прийти в это исстари облюбованное одинокими юношами место, помнящее и паренька откуда-то из середки страны, и неоперившегося южанина, тоскующего по дому, по дивным холмам вдоль Старой Катобы, – то в такой вечер нашего паломника скорее всего снова пронзит горький юный восторг, исторгающий вопль, для которого не придумали слов, – заносчивый, неприкаянный, ликующий восторг, распаляемый радостью и ослепленный честолюбием и при этом колеблемый мыслью – в такие минуты она поднимает голову, – что неосязаемое не дано осязать, непостижимое не дано постичь, что божественный миг истек, но его посулы и догадки юноша уже порывается воплотить в живую красоту. Промелькнувший миг он жаждет облечь в бедра, грудь и лоно прекрасной возлюбленной, он жаждет величия, славы, побед; этот летучий восторг он сгустит в эликсир и будет вечно вкушать бодрящую радость; а питает все эти помыслы горькая правда смерти: умрет эта минута, умрет этот день, умрет и нечастая гостья-весна.
Вот это чувство радости, эта догадка о выжидающем чудесном утолении, что в такие дни сладким обещанием трепещет в воздухе, – они-то, видимо, и сообщают Новой Англии ее особую прелесть. И видимо, разгадка проста: эта мягкая и нечаянная весна, брызжущая минутной радостью и сбивающаяся на мираж, поющая об утраченном и сказочном не то своим голосом, не то голосом наших грез, – она тем и прекрасна, весна, что приходит после крутой, стыло оцепеневшей зимы с ее страшной опустошительной красой, с трескучими морозами на погибель живому телу; но тело борется, оно всегда борется с грубым насилием, и поэтому здешняя резкая, с подковыркой речь, скупые жесты, замкнутость и подозрительность, поджатые губы, красные носы и недобрый пытливый взгляд – это вынужденное: не зная пощады от природы, здесь не ждут ее и от людей.
Как бы то ни было, после окончания рабочего дня юноша приходит сюда не опустошенный и выпотрошенный, а распираемый восторгом, ожидающий утоления. В здешнем воздухе смешиваются благоухание рынка и запах моря; вышагивая по лысому булыжнику мостовой под жестяными гофрированными завесами пакгаузов и продовольственных складов, он обоняет сотни злачных запахов: чисто, пронзительно пахнет дранка, вечнозеленой тоской по родным местам исходят апельсины, лимоны и грейпфруты, смердят испорченная капуста и раздавленная мякоть сгнившего апельсина. Размягченно и тяжело пахнут лаймовым соком цыплята, шибает в ноздри чешуистый запах холодной рыбы и устриц, бодряще, промыто благоухает огородная зелень – салат, капуста, молодой картофель, попачканный жирной землей, великолепный хрусткий сельдерей и, конечно, дыни, спелые золотистые дыни, обложенные духовитой соломой, и еще тепло веет тропиками – бананы, ананасы, авокадо.
В ласковом весеннем воздухе все эти запахи свежели, восхитительно утончались, от мостовой потягивало дегтем, расслаивались перемешанные ароматы, которыми восемьдесят лет напитывались древние пакгаузы: тонкий сосновый душок тары, вязкое амбре компоста, полстолетия назад окаменевшего на дощатом настиле, запахи бечевки, дегтя, скипидара, пеньки, густой мелассы, женьшеня, виноградных лоз и корнеплодов, прелый дух мешковины; чистый, крепкий запах свежемолотого кофе, прожаренного, знойного; запахи овса, сена в тюках, отрубей, яиц в корзинах, сыра и масла; и слышнее всего запахи мяса – замороженных туш, лоснящейся свинины и телятины, мозгов, печенки и почек, огузка, рубца и подгрудка, – и не только сырые запахи: в этом густо закопченном квартале имелось верхнее помещение, где мясники в компании с булочниками, банкирами, брокерами[16]16
Посредник в сделках, специализирующийся по определенным видам товаров или услуг. В оригинале анафорическая аллитерация.
[Закрыть] и ученой братией наворачивали полновесные сочнейшие бифштексы, курящийся паром горячий хлеб, картофель в мундире.
Теперь – море, в него тут все упирается. Из этих закоптелых, почтенного возраста, состоятельных кварталов дома сбегают в доки, и не оставляет ощущение, что море когда-то было и здесь, что этот клочок суши у него отвоеван. Булыжным грохотом припоздавшей тележки напомнит о себе улица, что дозорно обегает порт, примечая закопченные мануфактурные лавчонки и закусочные, мощные связки товарных вагонов, сейчас выпотрошенных, пахнущих разомлевшей дощатой обшивкой и перемоловшими громадные пространства колесами.
К самой же воде подступают пирсы и склады, спокойно сосредоточенные после выполненных работ; громоздкие, кричаще уродливые, они несут отпечаток повелительной красоты больших дел и свершений; они не заносятся, эти кирпичные близнецы, они просто-напросто выполняют свое назначение: их прошивают железнодорожные нитки, они вмещают в себя огромные составы; закончив трудовой день, они сейчас переводят дух, как уставшие живые существа. Гулко отзовутся в их выжидательной глубине шаги, замрет тарахтенье припоздавшей тележки, отлетит голос рабочего, сказавшего «Спокойной ночи», – и спустится сосредоточенная волшебная тишина.
И теперь – само море, приберегшее свою прелесть и тайну для встречи с землей в порту, – море, разносящее с приливами и отливами земное благоухание, поигрывающее и бьющее в осклизлые сваи, прикрывшее свое лоно плетением пенистых водорослей, прибивающее к берегу мачту и опочистый запах ракушечной муки.
А где море, там корабли: лихтеры, промысловые шхуны, молочно-белые яхты, делающие ночной рейс в Нью-Йорк, сейчас тоже сосредоточенно притихшие; помигивают фонари, вспыхивает надраенная медь, освещаются огнем кают-компании – призрак радости и великолепия на темной морской глади, обещание любви под надутыми шелковыми парусами; и сверх этих видений и этих запахов май-чародей еще томит юношу невыразимыми грезами, несказанными прозрениями, и пусть он сейчас потерянно замкнулся – свои вожделения и чаяния он знает: это слава, любовь, власть, богатство, вольные просторы и каждое утро новорожденная земля и живое, телесное исполнение всех его страстных упований.
Разумеется, Новая Англия не скупа на обещания, но охотнее всех падок до ее подспудной радости наш одинокий полуночник – тем более если парень родом с Юга, потому что только сердце южанина, наверно, способно постичь сокровенную суть Севера: он угадал ее в своих снах и детских предчувствиях, она для него невстреченная Прекрасная Елена, и неважно, что жизнь ткнет его носом в другое: он всегда будет верить в то, сокровенное, он всегда к нему вернется. И разумеется, все это в полной мере относилось к коряжистому жалкому старику, сидевшему сейчас в своей закоптелой конторе на Стейт-стрит, откуда рукой подать до праздника жизни: ведь это мой дядя Баском Хок никому не нужным и до невозможности несчастным юнцом пришел сюда из Старой Катобы, хотя теперь, случается, на него покажут пальцем: исконный, дескать, новоанглийский тип, – и все, что полагалось, тот юноша пережил и перечувствовал, и сколько бы дядя ни бранил здешний люд, здешний климат и здешнюю жизнь, но жить-то он вернулся сюда, в Новую Англию, и этот край был ему единственно дорог.
– Что есть человек, что Ты помнишь его? – повторил он с тем особенным нажимом, что предвещал приступ гримасничания. – Что есть человек, что Ты помнишь его? – сказал он еще нажимнее, обжигаясь словом «помнишь». – Хм-хм-хм!
И тут же спокойную сосредоточенность его лица скомкала гримаса, он не к месту прыснул. Минута – и лицо разгладилось и величаво взошло над арочно сцепленными узловатыми пальцами; он заговорил веско, раздумчиво. Сейчас он являл собой действующий разум во всем его блеске, высказывал высокие, основательные суждения. И едва отшельный дух мысли преобразил дядин лик, как нескладность и безумие его жизни перестали иметь значение, потому что мысли его были не о себе и не о деньгах.
– Несомненно. Несомненно, – раздумчиво сказал он. – Лучшие страницы в книгах Ветхого и Нового заветов не уступят мировым шедеврам слова, однако число этих страниц обычно преувеличивают. Там есть места – больше того, – выкрикнул он сипловатой фистулой, – целые книги, полные гнуснейшего вздора!
Он помолчал и голосом издалека, тем дальним накаленным голосом, что, декламируя стихи, приводил мужчин в содрогание, – этим голосом продолжал: – «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний»[17]17
Слова из Апокалипсиса.
[Закрыть] – это, мой мальчик, победная песнь одного из могущественных земных поэтов, высокая речь человека, которому господь открыл тайны неба и ада, это могучие слова, великая поэзия. – И, ткнувшись лицом в костлявые кисти рук, он бурно, хрипло зарыдал: – Ах, господи! Господи! Какая красота, какая печаль… Ты меня прости, – шепнул он, промокая глаза вытертым и выцветшим рукавом. – Прости. Вспомнилось… Воспоминания.
И хотя это было вполне курьезное зрелище с маловразумительными словами в конце, но от всего повеяло какой-то муторной жутью, ведь мне было только двадцать лет, и я смешался, почувствовал стыд. А чуть погодя дядя Баском выглядел и вел себя как ни в чем не бывало, словно и не рыдал здесь минуту назад.
Не поднимая на меня глаз, он с ощутимой горчинкой в голосе ровно спросил: – Моих детей… ты кого-нибудь видел недавно?
Я удивился вопросу, в обычное время он словно забывал об их существовании, ему было безразлично, как они и что. Я сказал, что на прошлой неделе видел одну из его дочерей.
– Мои дети подло и гнусно… подло и гнусно покинули меня, – сокрушенно сказал он. Затем, как бы взглянув на положение вещей строже и терпимее, ровно и безразлично продолжал: – Я их никого не вижу. Ко мне они не ходят, и я к ним не хожу. Меня это не волнует. Да, сэр, не волнует. Мне безразлично. В высшей степени! Абсолютно! – И жестом руки он отмел эту тему. – Их мать, – добавил он, – та, видимо, их навещает… Она безусловно ходит к ним, когда ее позовут. – И снова я уловил в его голосе презрительную горчинку, точно жена предавала его, когда шла в гости к собственным детям; но в целом голос звучал пренебрежительно-равнодушно, о жене и детях он говорил как о чужих, он словно вчуже осознавал их на подступах к потаенному миру, в котором жил и действовал и где его душа стяжала свою блеклую участь.
Так оно и было: он пошел и родню и на своем веку прожил дюжину жизней – разделался с детьми, разделался с женой, забыл думать о них, забыл о них вообще, не нуждался в них. Но они-то, двое дочерей и двое сыновей, младшему из которых было под тридцать, а старшему за сорок, – они не смогли ни забыть его, ни простить. Он был их горькой живой памятью; и как эксперты ищут роковой изъян, подточивший хребет капитального моста, так они листали вспять мучительную хронику детства, перебирали годы разочарований и горечи под родительской крышей, и ни забыть те годы, ни освободиться от них, ни отречься они не могли. Его тень накрыла их: они не виделись с ним, но постоянно говорили о нем, пересмеивая его речь, жестикуляцию, манеры, и, значит, заново жили под его сенью и втайне чувствовали прежний страх перед ним, благоговейный трепет, ибо его жизнь исполнилась, как сама того желала, хотя и вышла крученая-перекрученная: она шла своей колеей – и всегда к новому горизонту. У них же, спохватывались они, годы горькой водой падали на колесо жизни; колесо вертелось – они старели.
И сейчас, словно он их тоже увидел, заговорив о них, он сказал: – Они сами могут о себе позаботиться. Каждый должен сам о себе заботиться. – Выдерживая паузу, он огромным своим пальцем постукивал меня по колену и опалял испытующим взглядом. – Разве кто-нибудь помогает тебе умереть? И кто-нибудь следует за тобой в твою могилу? Разве можно что-нибудь сделать для другого? Нет! – решительно объявил он и, помолчав, медленно, в раздумье выговорил: – Не сам ли я себе помощник?
Задумавшись, он устремил отрешенный взгляд в проем арочно сцепленных пальцев. Сказанное в следующую минуту прозвучало как бы без связи с предыдущим, ворвалось отголоском разобравшегося в себе прошлого, сверкнуло огоньком, похищенным из кромешно темных тайников сознания: – «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?»[18]18
Слова из Екклесиаста (глава 3, стих 21).
[Закрыть]
Он еще помолчал в забытьи и грустно добавил:
– Я старый человек. Я прожил долгую жизнь. Много перевидал. Порой все кажется таким далеким.
И потом он снова увел глаза в пустыню, к сгинувшей земле, к погребенным людям.
После недолгого молчания он сказал:
– Надеюсь, ты появишься у нас в воскресенье. Обязательно! Обязательно! Тетка, по-моему, рассчитывает на тебя. Да, сэр, она что-то такое говорила. Или она собирается проведать кого-то из своих детей? Не знаю, не имею ни малейшего представления об ее планах, – выкрикнул он. – И никогда, – с нетерпеливой досадой продолжал он, – никогда не ведал, что у нее на уме. Поэтому решительно ничего не могу тебе сказать. Я не вникаю, что она там говорит, – даже не слушаю! – Он отмахнулся рукой. – Скажи, – он больно уставил палец в мое колено, сверкнул паралитическим оком и ухмыльнулся, – тебе встречалась хоть одна, которая способна поддержать связный разговор? Внимает доводам рассудка, трезво мыслит – хоть одна?! Сынок! – кричал он. – С ними невозможно разговаривать. Уверяю тебя: невозможно. С тем же успехом можно перекричать ветер или заплевать Нил. В юности человек несет им сокровища своего духа, изводит на них нетленные накопления – мудрость, знания, философию, – только бы сделать их достойными своего общества, а в итоге, – горько молвил дядя Баском, – что выясняется в итоге? Что все свои силы он растратил на разговоры с идиоткой, – и он мстительно хмыкнул. В следующую минуту он перекосил лицо и гнусаво заныл якобы капризным женским голосом: – Ах, мне так нехорошо! Ах, бо-же-мой! Наверно, вот-вот буду нездорова! Ах, ты меня больше не любишь! Ах, я хочу умереть! Ах, у меня нет сил подняться! Ах, принеси мне что-нибудь из го-ро-да! Если бы ты меня любил, то купил бы новую шляпку! Мне совсем нечего надеть! – Тут он загундосил совсем безутешно: – Мне стыдно показаться людям!
Мгновение-другое поразмыслив, он крутанулся в мою сторону и снова потыкал пальцем в мое колено: – Познать людей поможет – кто? – лукаво шепнул он, жутко застыв лицом. – Может быть, поэт говорит: женщина? Женщина, я тебя спрашиваю?! Ничего подобного! – вскричал дядя Баском. – Он говорит: «человек». То есть муж-чи-на[19]19
Здесь приводятся строки из «Опыта о человеке» английского поэта А. Попа (1688–1744).
[Закрыть].
Он снова помолчал, потом с едким сарказмом проговорил: – Твоя тетка любит музыку. Ты мог убедиться, как она обожает музыку…
Действительно, музыка была отрадой в ее жизни, на маленьком патефоне, подаренном кем-то из дочерей, она постоянно слушала великих композиторов, чаще прочих Вагнера, одна-одинешенька в зачарованном лесу, хмельной призрак на широких и пасмурных гремящих просеках, где слабо полаивают хриплые валторны. Иногда и воскресенье – вообще-то день ее редких вылазок в свет, а тут дочки купили абонемент в филармонию – она сидела в смутноватом зале с мертвенно-бледными греческими гипсами на стенах, пряменькая, воробушком замерев перед обольщающим змеем, вникала в каждую новую тему, чутко различала осторожное вступление флейт, валторн, холодела спиной, когда вскидывались скрипки, и ее одинокая и опустевшая жизнь ниточкой впрядалась в воздушную, празднично играющую ткань.
– Твоя тетка обожает музыку, – в раздумье повторил Баском. – Ты мог подумать… тебе могло показаться, что это ее заслуга… у тебя могла возникнуть мысль, что у тетки исключительное право на музыку… В таком случае ты ошибся! Ах, сынок! – достигал меня его далековатый голос. – Возможно, ты так думал, но ты ошибался… Скажи! – Он медленно повернулся ко мне, въедливо-вопрошающе сверля глазом, охолаживающе иронический. – Скажи: Пятая симфония – ее женщина написала? Теткин кумир, Рихард Вагнер, – женщина? Ни в коем случае! – взревел он. – Где их шедевры – их могучие симфонии, великая живопись, эпическая поэзия? Разве в женском черепе зародилась «Критика чистого разума»? Разве женский гений грандиозно расписал своды Сикстинской капеллы? Может, тебе приходилось слышать о женщине по имени Уильям Шекспир? И «Короля Лира» написала женская рука? Или ты листал сочинения прелестной барышни Джон Мильтон? Брал в руки стихи очаровательной немочки фройляйн Гёте? Может, наконец, тебя просветили труды мадемуазель Вольтер или мисс Джонатан Свифт? Хм-хм-хм!
Он помолчал, вглядываясь во что-то поверх составленных рук, и потом медленно и отчетливо произнес: – «Жена дала мне от дерева, и я ел»[20]20
Библия. Бытие, гл. 3–4.
[Закрыть]. Так-то, сынок. В этом все их назначение. – Пылая одушевлением, он повернулся ко мне. – Соблазнительница, – сказал он севшим от напора чувств, надтреснутым голосом. – Подательница запретного плода. Посыльная дьявола. Испокон века они знают одно; помрачать разум, сбивать дух сына человеческого с высоких путей, развращать, совращать и губить! Тихой сапой проникают они и потайные уголки его сердца и разума, как плодожорки, внедряются в его святая святых, действуя с хитростью змея, по-лисьи, – для этого, сынок, женщина только и существует. И она не станет другой! – И, окутавшись тайной, он зловеще-проницательно шепнул мне: – Остерегайся! Остерегайся! Не обманись!
Уже в следующую минуту он имел спокойно-сосредоточенный вид и ровно, как о постороннем, даже поддразнивающе, словно бросая кость собаке, сказал:
– Твоя тетка, нужно признать, обладала порядочным интеллектом – в женских пределах разумеется. Сейчас-то ее соображение уже не то. Я не разговариваю с ней, – сказал он равнодушным тоном. – Не слушаю ее. По-моему, она говорила, что в воскресенье ты собираешься зайти. Не знаю. Не могу сказать, какие у нее планы. У меня свои интересы, у нее, надо полагать, свои. Музыка хотя бы… Да, сэр, музыка всегда при ней, – с презрительным равнодушием сказал он и, устремив взгляд поверх сцепленных пальцев, выбросил тетку из головы.
А ведь и он был молод, и он страдал и доходил до полного безумия. Ему тоже довелось испить горькую любовную чашу. Тетка сама мне это сказала, а он не стал отрицать. В разгар обильной трапезы она вдруг юрко, хищно дернулась ко мне через стол, ожгла безумным и ясным взглядом и бросила ту же острастку: – Берегись, Дэвид, берегись, мальчик: ты из их породы. Не хандри! Не хандри! Не надо все принимать к сердцу, – жарко шепнула она, вникая в меня безумно сверкавшими старческими лучистыми глазами. – Ты весь в них, это в крови, – обреченно выдохнула она.
– О чем ты толкуешь? – с безграничным презрением буркнул дядя. – Шотландская кровь! Английская кровь! Лучшие люди на земле, никаких сомнений!
– Рассеянное восприятие! Рассеянное восприятие! – залопотала она, получив любимый орех. – Мысли скачут во все стороны, минуты лишней не задержатся. Современные декаденты! Ты почитай Нордау, Дэйв, – у тебя глаза откроются! Все вы одинаковые, – пискнула она. – Все эротоманы – все!
– А-а, – отмахнулся дядя. – Какую чушь ты несешь! Видимо, – кольнул он, – испытываешь на нас новейшую психологию. Черная магия недоумков.
Он, разумеется, ничего не знал о сем предмете; время от времени он перечитывал Канта, и если в сфере чистых форм, категорий, стадий отрицания и дефиниций концепта он чувствовал себя как рыба в воде, то она до тонкости знала свое путаное хозяйство – фобии, комплексы, фиксации, подавления.








