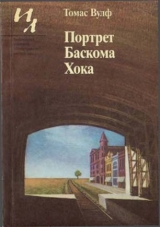
Текст книги "Портрет Баскома Хока"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Вы окидываете взглядом его комнату и не говорите ничего.
– Быть свободным! Жить, где хочешь, и видеть все это! Жить среди настоящих людей! Видеть настоящую жизнь, ничем не прикрашенную, не то что здесь… – говорит он, бросая утомленный взор на роскошную обстановку – на призрачный мир, в котором он должен влачить свои дни. – И главное – быть одному!
Вы спрашиваете, был ли он когда-нибудь один, известно ли ему, что такое одиночество. Вы пытаетесь ему объяснить, но, оказывается, он и сам все знает. Он невесело улыбается и выслушивает ваши наивные объяснения с усталой снисходительностью человека, умудренного жизнью.
– Я знаю! Знаю! – вздыхает он. – Но мы все одиноки, друг мой. Ведь истинное одиночество – оно вот тут, – и он постукивает себя чуть левее третьей пуговицы на рубашке, там, где, видимо, у него помещается сердце. – А вы! Молоды, свободны и весь мир перед вами! Прекрасная жизнь! Бог мой, чего же еще желать человеку?
Ну что тут скажешь? В висках у вас стучит кровь, сердитый, горький ответ готов уже сорваться с ваших губ, и, кажется, вы много могли бы ему сказать. Вы бы могли сказать ему, без риска показаться слишком учтивым, что на свете до чертовой матери всего, что может желать человек: хорошей еды и добрых приятелей, покоя, обеспеченности и красивых женщин, вроде той, что сидит с ним рядом, но что тут скажешь?
Потому что вы – это вы, вы знаете то, что знаете, и нет у вас слов, чтобы передать свое одиночество, горькое, черное, ноющее одиночество, гложущее по ночам корни безмолвия.
Что сказать? Да, там хватало жизни – хватало силы, величия, радости, красоты, но, видит бог, хватало и грязи, и нищеты, и убожества, хватало жестокости, ненависти, зверства и хватало одиночества, чтобы насытить вас серым крошевом ужаса, обметать ваши губы лихорадкой отчаяния.
И времени тоже хватало – даже там, в Бруклине, хватает его, непонятного, темного времени, темного тысячеликого времени, вечно текущего мимо вас, как река, – даже в слепых подвалах Бруклина хватает времени, но когда вы пытаетесь рассказать об этом, у вас ничего не выходит. Что тут скажешь?
Вы вспоминаете вдруг, как скорбный вечерний свет падает на исполинскую ржавую чащобу, что зовется Бруклином, и на лица людей с мертвыми глазами, на восковые, серые лица, и как даже в Бруклине прислоняются к вечерним подоконникам окутанные приглушенным, печальным светом люди. Вы вспоминаете, как лежали раз у себя в подвале в Бруклине, вслушиваясь в звуки вечера, в замирающую песню птицы на соседнем дереве, и вспоминаете, как распахнулись где-то два окна и два голоса – мужской и женский – зазвучали в тихих скорбных сумерках. И этот разговор опять возникает у вас в памяти, как неотвязный припев какой-то старой песни, слышанной и затерявшейся в Бруклине.
– Тебя вроде не было, – начинает один.
– Ага. Меня не было. Я только что приехала, – говорит другой голос.
– Ну? Я так и подумал, – говорит первый. – Я так и подумал, что ты уехала.
– Ага. Я была в отпуске. Я только что приехала.
– Да ну? Так я и подумал. Я вчера как раз подумал, что тебя вроде давно не видно. Похоже, думаю, что уехала.
И потом – молчание, слышны только замирающая песня птицы, голоса с улицы, отдаленные звуки и выкрики, чьи то короткие оклики и далекое, громадное, глухое бормотание в вечернем воздухе.
– Ну, чего нового с тех пор, как я уехала? – снова раздается в тихих скорбных сумерках голос. – Случилось чего-нибудь, пока меня не было?
– Нет! Ничего не случилось, – отвечает другой. – Все то же самое, знаешь? – произносит он напряженно, словно устав бороться с бессилием языка.
– Да. Знаю, – отрешенно отзывается другой, и снова тишина над Бруклином.
– Отец Гроган помер, пока тебя не было, – опять начинает голос.
– Да ну? – спокойно удивляется другой.
– Ага.
И наступает молчание.
– Жалко его, в? – произносит тихий голос.
– Ага. В субботу он помер. В пятницу, когда домой пришел, с ним ничего еще не было.
– Да ну?
– Ага.
И на мгновение голоса замирают, глохнут в густой тишине.
– Нехорошо-то как, а?
– Ага. Его нашли только на другое утро, в десять часов. Когда они вошли к нему, он лежал на полу в ванной.
– Ну?
– Ага. Они его нашли в ванной.
– Да-а-а. Нехорошо-то как… Видно, меня не было, когда он помер.
– Ага. Видно, тебя не было.
– Да. Похоже, что так. Похоже, что не было. А то бы я знала. Не было меня.
– Ну ладно, пока. До свидания.
– Ну ладно, пока.
Окно закрыто, и снова тишина кругом – вечер, далекий шум и отрывистые крики в Бруклине, Бруклин – бесформенный, ржавый, нескончаемый хаос.
И теперь красный свет быстро меркнет на старом кирпиче ржавых домов, и в воздухе слышны голоса, какая-то музыка, а мы лежим, слепые атомы, в наших холодных подвалах, серые, безгласные атомы среди людной земной пустыни, и память о нас стерлась, имена наши забыты, и силы уходят из нас, как руда из земли, пока мы лежим там вечером… а река течет… и темное время, как стервятник, рвет наши внутренности, и мы знаем, что пропали, но не можем пошевелиться… а там корабли плывут… корабли там!.. Господи Иисусе! мы все умираем в темноте… и тебя вроде не было… тебя вроде не было…
И это – одно из мгновений темного времени, один из тысячи его темных ликов.
Только мертвые знают Бруклин
Нет такого человека, кто знал бы Бруклин по-настоящему, – целой жизни не хватит, чтобы разобраться в этом треклятом городе.
Так вот, я и говорю: дожидаюсь я в подземке поезда и вдруг вижу рядом этого верзилу, раньше я его не встречал. Весь он взъерошенный, сразу видно, что насосался, но держится ничего, говорит складно и не качается. И вот подходит он к какому-то мозгляку, который тут же околачивается, и спрашивает:
– Как мне попасть на угол Восемнадцатой авеню и Шестьдесят седьмой улицы?
– Ну, брат, загадал загадку, – говорит мозгляк, – я сам здесь человек новый. А в каком это районе? Флетбуш?
– Нет, – говорит верзила, – это в Бенсонхерсте. Только я там ни разу не был. Как туда попасть?
– Да, загадал, брат, загадку, – говорит мозгляк с растерянным видом и почесывает в затылке. – Я о таком месте и не слышал. Может, кто из вас, ребята, знает, где это? – А сам смотрит на меня.
– Конечно, знаю, – говорю я. – Это в Бенсонхерсте. Садись на экспресс, который идет вдоль Четвертой авеню, сойдешь у Пятьдесят девятой улицы, там пересадка на местный, приморский, сойдешь на углу Восемнадцатой авеню и Шестьдесят третьей улицы, а оттуда пройти четыре квартала – и все.
– Ну и врешь, – ввязался какой-то умник, тоже мне незнакомый. – Сам не знаешь, что говоришь.
Вон какой умник сыскался!
А потом обращается он к тому верзиле.
– Ты, – говорит, – его не слушай, я тебе все объясню. У Тридцать третьей, – говорит, – пересядешь на Вест-эндскую линию. Сойдешь на углу Нью-утрехтской улицы и Шестнадцатой авеню. Оттуда пешком два квартала вперед и четыре в сторону, и как раз туда и попадешь.
Видали, какой умник сыскался!
– Разве? – говорю я ему. – Ты-то откуда знаешь? – Очень меня разозлило, что он таким умником себя выставляет. – Ты, – говорю, – давно ли тут живешь?
– Всю жизнь, – говорит. – Я, – говорит, – родился в Уильямсбурге. Я тебе про этот город такого могу порассказать, о чем ты в жизни не слышал.
– Разве? – говорю.
– Вот тебе и разве.
– Ну, – говорю, – значит, ты такого можешь порассказать, о чем не только я, а и никто не слышал. Небось сам все и выдумываешь из головы по вечерам, перед тем как спать ложиться, вон как другие кукол из бумаги вырезают.
– Разве? – говорит. – А ты, наверно, очень умный?
– Да не знаю, – говорю. – За статую Линкольна меня птички пока не принимают. Но на то, чтобы вруна распознать, у меня ума хватит.
– Разве? – говорит. – Ты, значит, умный? Смотри, как бы тебе кто-нибудь вскорости не дал по морде. Будешь тогда знать, как умничать.
Ну, тут показался мой поезд, а то бы я ему залепил как следует за такие слова. Но как я увидел, что поезд подходит, я ему только одно сказал:
– Ладно, образина ты этакая. Жаль, некогда мне позаняться с тобой. Ну, да не все пропало, я еще тебя, бог даст, увижу, когда тебя на кладбище поволокут.
А потом повернулся к тому верзиле – он так и стоял все время рядом – и говорю.
– Поехали, – говорю, – со мной.
Сели мы в поезд, я его и спрашиваю:
– А в Бенсонхерсте тебе куда нужно? Кого ты там разыскиваешь? – Я, понимаешь, так рассудил, что если он мне скажет адрес, я, может, сумею помочь ему.
– А я, – говорит, – никого не разыскиваю. Я там никого и не знаю.
– Так зачем же ты туда едешь?
– Просто, – говорит, – хочу посмотреть, как там и что. Мне название понравилось: Бенсонхерст. Вот я и решил, что съезжу и погляжу на него.
– Ты что болтаешь? – говорю. – Ты что, дурачить меня вздумал? – Я, понимаешь, решил, что он со мной шутки шутит.
– Да нет, – отвечает, – я тебе правду говорю. Я люблю смотреть всякие места, у которых названия красивые. Я, – говорит, – люблю всякие новые места смотреть.
– А как ты узнал, что есть такое место, раз ты там никогда не бывал?
– А у меня, – говорит, – есть план.
– План?!
– Ну да. У меня есть план, и на нем все названия написаны. Я его обязательно с собой беру, когда сюда приезжаю.
И надо же! Лезет в карман, и, вот честное мое слово, оказывается – не врал, у него и вправду есть план, да большущий, весь город на нем обозначен, и все районы – Канарси, Восточный Нью-Йорк, Флетбуш, и Бенсонхерст, и Южный Бруклин, и Высоты, и Бэй-Ридж, и Гринпойнт – ну, весь как есть треклятый город у него на этом плане.
– И ты уже где-нибудь тут бывал? – спрашиваю.
– А как же, – говорит, – почти везде бывал. Вот вчера вечером посмотрел Красный Мыс.
– О господи! – говорю. – Красный Мыс! Что ты там делал?
– А ничего особенного. Ходил, глядел. Раза два зашел пропустить стаканчик, а больше просто так ходил.
– Просто так ходил?
– Ну да, смотрел, что там и как.
– Куда же ты ходил?
– Да я точно не знаю, как это называется, но на плане найти могу. Сперва шел каким-то полем, там ни одного дома не было, но вдали увидел – стоят освещенные пароходы, под погрузкой. Я и пошел через это поле к пароходам.
– Правильно, – говорю. – Я знаю, где ты был. Ты был у затона Эри.
– Ага, – говорит, – наверно. Там у них большие краны работали, погрузку производили. А еще в сухих доках стояли суда, тоже освещенные, я и пошел к ним через поле.
– А потом что делал?
– Да ничего особенного. Поглядел – и назад, опять через поле, а потом раза два заходил пропустить стаканчик.
– И ничего там при тебе не случилось? – спрашиваю.
– Да нет, – говорит, – Ничего особенного. В одном месте, куда я заходил, пьяные затеяли драку, но их тут же выставили, а один хотел вернуться, так бармен достал из-под стойки биту для бейсбола, он и ушел.
– О господи! – говорю. – Красный Мыс!
– Ну да, – говорит. – Вот там я и был.
– Так больше туда не ходи, – говорю. – Держись оттуда подальше.
– Почему? Чем не хорошее место?
– Место хорошее, когда от него подальше держишься. Такое хорошее, что от него чем дальше, тем лучше.
– Почему? Что там плохого?
– О господи! Ну разве такому болвану втолкуешь? Ему говори не говори, один черт, все равно не поймет, я и сказал:
– Да нет, ничего. Просто ты мог там заблудиться.
– Заблудиться? – говорит. – Нет, и никогда не заблужусь. У меня же есть план.
План! Это на Красном-то Мысу! О господи!
Потом стал он мне задавать всякие дурацкие вопросы: какую площадь занимает Бруклин, да хорошо ли я в нем разбираюсь, да сколько нужно времени, чтобы его узнать.
– Послушай! – говорю я ему. – Брось ты об этом думать. Бруклин ты все равно никогда не будешь знать, хоть сто лет его изучай. Я, – говорю, – прожил здесь всю жизнь, так и то про него не все знаю, а ты туда же, хочешь узнать город, а даже не живешь в нем.
– Это верно, – говорит, – но у меня есть план, с ним легче разбираться.
– Никакой план, – говорю, – тебе не поможет узнать Бруклин. И не надейся.
И вдруг он меня спрашивает:
– Ты плавать умеешь?
Ну уж тут, понимаешь, мне стало ясно, что парень-то того, не в своем уме. Оно, конечно, заложил он здорово, но дело не в том – мне, главное, не понравилось, что глаза у него какие-то сумасшедшие.
– Ты плавать, – говорит, – умеешь?
– Конечно, – говорю. – А ты?
– Нет. Разве что самую малость. А как следует не научился.
– Да это нетрудно, – говорю. – Только бояться не надо. Я, знаешь, как научился? Меня старший брат столкнул с мола в воду, прямо в одежде, мне тогда восемь лет было. «Поплывешь, – говорит, – обязательно поплывешь, коли не утонешь». И что ж ты думаешь – поплыл! Когда очень нужно, все получается. Главное – бояться не надо. А уж раз выучился, – говорю, – никогда не разучишься. Это уж на всю жизнь остается.
– И хорошо ты плаваешь?
– Как рыба. В воде я просто рыба. Мы с ребятами прямо с мола купались.
– Что бы ты сделал, если б увидел, что человек тонет? – спрашивает меня этот верзила.
– Что сделал бы? Бросился в воду да вытащил, – говорю, – вот бы что я сделал.
– Ты когда-нибудь видел, как тонут?
– Конечно, – говорю. – Два раза. На Кони-Айленде. Зашли далеко в море, а плавать не умеют. До них и добраться не успели, так оба и утонули.
– А что бывает с человеком, если он здесь утонет?
– Где здесь?
– Здесь, в Бруклине.
– Не пойму я, что ты говоришь. В жизни не слышал, чтобы кто-нибудь утонул в Бруклине, разве что в бассейне. В Бруклине нельзя утонуть. Тонуть надо где-нибудь еще, в океане, где есть вода.
– В океане, – говорит он, а сам поглядывает на свой план. – В океане.
О господи! Я уже давно смекнул, что он псих, такие у него глаза сумасшедшие, когда посмотрит на тебя. Что он еще, думаю, выкинет? Ну, тут поезд остановился, я и слез, хоть и не доехал до своей остановки. Решил подождать следующего поезда.
– До свиданья, – говорю, – приятель. Не унывай.
– В океане, – говорит он, а сам все смотрит на свой план. – В океане…
О господи! Сколько раз я с тех пор этого парня вспоминал, все думал – что с ним сталось в Бенсонхерсте. Надо же – едет туда, потому что название понравилось! Совсем один ночью бродит по Красному Мысу и глядит на свой план! Сколько раз я видел, как люди тонут здесь, в Бруклине? Много ли надо времени, чтобы изучить Бруклин, если у человека есть хороший план?
Вот болван-то! А сколько раз я раздумывал, что с ним сталось. Может, кто-нибудь дал ему как следует по башке, а может, он и сейчас еще разъезжает по ночам в подземке со своим планом! Бедняга! Как вспомнишь его, даже смешно делается. Может, он теперь понял, что все равно не узнать ему Бруклина. Надо потратить целую жизнь, чтобы узнать Бруклин по-настоящему. Да и тогда не будешь его знать.
Издали и вблизи
У выезда из городка, на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика были огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревавшим к концу августа; перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его в своей сплошной прохладной тени; по другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка.
Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма; сопровождаемые низким ревом, они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика; затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня.
Каждый день вот уже двадцать с лишним лет, приближаясь к домику, машинист давал гудок, и всякий раз, заслышав его, на крыльцо выходила женщина и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка; потом девочка выросла и стала взрослой женщиной; теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой.
Машинист состарился и поседел на службе. Десять тысяч раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями; четыре раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедии; она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса: рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей; заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми; бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза; какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины, – все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией; годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо; верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками, и, состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость.
Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и непреходящего, не подвластного времени и разрушению; он верил, что пни всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни.
Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их в разную погоду, в разном освещении. Он видел их в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни; видел их и в зеленоватом, волшебно-манящем свете апреля.
И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям; со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам; он решил, что когда-нибудь, когда окончатся годы его службы, он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит наконец с теми, чья жизнь переплелась с его собственной.
День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились; компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужто это тот самый городок, через который он проезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу, и в душе его нарастало смятение.
Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место: великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги.
Да, это был тот дом, который он искал, то самое место, мимо которого столько раз проезжал; это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, стали чужими, словно отвратительный сон? Почему его охватили замешательство, сомнение и чувство безнадежности?
Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги, дверь отворилась, и на порог вышла женщина.
И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина – та самая, что тысячи раз махала ему рукой. V нее было худое, черствое лицо с поджатыми губами и заострившимся носом; желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками; в маленьких глазах светилось робкое недоверие и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос, образ женщины, в поднятой руке которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк.
Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое.
В конце концов женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким, визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг.
Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед, тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему, казалось, всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того, оставленного им, сияющего пути, далей, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачено им безвозвратно и навсегда.








