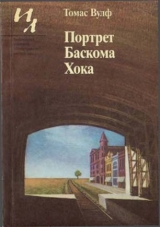
Текст книги "Портрет Баскома Хока"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
И странно время, как лесная тьма
Несколько лет назад на одной из платформ мюнхенского железнодорожного вокзала среди людей, столпившихся у вагонов готового к отправлению швейцарского экспресса, стояли женщина и мужчина – женщина столь прелестная, что ее образ всегда будет неотвязно преследовать того, кто ее увидел, и мужчина, на темном лице которого уже запечатлелся знак роковой и странной встречи.
Достигшая зенита зрелой и безупречной красоты, женщина вся, вплоть до ярких и полных губ, так и светилась жизнью и здоровьем – очаровательная, дивно сочетающая в себе все составные элементы привлекательности, собранные с такой изысканной соразмерностью и в таком гармоничном единстве, что, даже видя ее воочию, трудно было поверить собственным глазам.
Тем более что, не отличаясь чересчур высоким ростом, она по временам словно начинала вдруг над всеми величественно, царственно возвышаться и тут же, тесно прильнув к своему спутнику, превращалась в застенчивую малютку. Ее правильная фигура, казалось ни в коей мере не утратившая гибкой стройности девичества, в то же время была пышной, волнисто переливающейся всею чувственной завершенностью женственных очертаний, и каждое движение этой женщины было исполнено обольстительной грации.
Женщина была модно одета; поверх короны ее рыжеватых, отливающих медью волос красовалась маленькая шляпка, затеняя глаза, подернутые голубоватой дымкой, делавшей их бездонными и позволявшей им в печали становиться почти черными и менять свой цвет с каждым мимолетным настроением, тенью пробегающим по ее лицу. Со своим спутником она разговаривала голосом глубоким и нежным, и ее лицо при взгляде на него освещалось едва заметной чувственной улыбкой. Женщина ему горячо, страстно и радостно что-то доказывала, с ее уст то и дело срывался тихий смех, грудной и воркующий; он переполнял ее, изливался и нежно таял.
Разговаривая, они прогуливались по платформе, при этом женщина держала своего спутника под руку, положив маленькую ладонь в перчатке на рукав его тяжелого пальто и прильнув к нему вплотную, а временами склоняя свою прелестную головку, горделивую и грациозную словно цветок, к его плечу. И снова они замирали и секунду-другую пристально друг в друга вглядывались. Теперь она игриво его за что-то отчитывала, журила его, нежно трогая за плечи, стягивая вместе толстые меховые лацканы его пальто, и предостерегающе поднимала обтянутый перчаткой миниатюрный пальчик.
Все это время мужчина любовался ею; говорил мало, но пожирал ее огромными темными глазами; они горели немеркнущим пламенем умирания и жили, казалось, только за счет ее, буквально вбирая ее в себя с жадностью и ненасытной нежностью любви. Это был еврей непомерно большого роста, изможденный и до того иссушенный болезнью, что его тело терялось, заброшенное и позабытое внутри облекающих его тяжелых и дорогих одежд.
От его худого бледного лица, истощенного почти до бестелесности соприкосновения костей и кожи, оставался один гигантский нос, так что оно было не столько лицом, сколько птичьей маской смерти, освещенной парой пылающих голодных глаз и подкрашенной с боков двумя горящими лихорадочной краснотой плитами румянца. Однако при всем безобразии болезни и исхудания это лицо было необычайно волнующим и запоминающимся; лик благородный и трагический, с печатью смерти.
Но вот пришла время расставаться. Послышались предупреждающие выкрики проводников, по всей длине плач формы пронесся единый порыв движения, вихри суеты закружились в компаниях друзей. На виду у всех люди обнимались, целовались, жали друг другу руки, плакали, смеялись, окликали остающихся, возвращались, чтобы еще раз коротко и крепко поцеловаться, и поспешно забирались в свои купе. На незнакомом языке раздавались клятвы, ругательства, уверения, торопливые намеки и остроты, скрытый смысл которых так дорог каждой группе расстающихся и которые тотчас же вызывали раскаты хохота; звучали слова прощания, неизменно одинаковые во всем мире:
– Отто! Отто!.. Ты захватил то, что я дал тебе?.. Проверь! На месте ли? – Тот проверял, все было на месте; приступы смеха.
– Ты Эльзу увидишь?
– Что такое? Не слышу! – выкрик; рука приложена к уху, голова повернута, на лице недоумение.
– Я! говорю! ты! Эльзу! увидишь?! – истошный вопль из-под сложенных рупором ладоней возносится над гомоном толпы.
– Да. Видимо, да. Мы должны с ними встретиться в Санкт-Морице.
– Скажи ей, пусть напишет.
– Что? Я тебя не слышу. – Такая же точно пантомима, как перед этим.
– Я! говорю! скажи! ей! пусть! напишет! – снова вопль.
– Ах да! Да! – быстрый кивок; улыбка: – Скажу, скажу.
– …или я на нее рассержусь!
– Как? Ничего не слышу, такой шум… – опять те же телодвижения.
– Я! говорю! скажи ей! я рассержусь! если она! не напишет! – снова проревел остающийся, нарочно надсаживая глотку.
И тут же какой-то мужчина, только что лукаво нашептывавший женщине, которая вся так и трепетала от душившего ее смеха, с ухмылкой обернулся, чтобы прокричать что-то уезжающему приятелю, но женщина помешала ему – от смеха раскрасневшаяся, она схватила его за руку, самозабвенно простонав:
– Нет!.. Нет!..
Но мужчина, продолжая ухмыляться, приставил сложенные рупором ладони ко рту и заорал:
– А дяде Вальтеру скажи пусть надевает свои…
– Что-что? Не слышу! – Ладонь около уха, и голова повернута, как перед этим.
– Пускай! говорю!.. – нарочито зычно начал было выкрикивать мужчина.
– Нет!! Нет!! Нет!! Тшшш, – захлебываясь смехом, взмолилась женщина, дергая его за руку.
– …пускай дядя Вальтер! непременно! надевает! свои шерстяные…
– Нет!! Нет!! Ну нет же, Гейнрих! Тшшш! – заходилась женщина.
– Те толстые! на которых! тетя Берта вышила! его инициалы! – безжалостно гнул свое мужчина.
Тут загомонила вся толпа, послышались взвизги смеющихся женщин, протестующие выкрики и громкое:
– Тшшш! Тише!
– Ja-ja! Скажу, а как же! – выпалил в ответ ухмыляющийся пассажир, едва вокруг все немножко приуспокоились. – Да только у него-то! может, и нет их! больше, – осененный запоздалой догадкой, радостно спохватился уезжающий. – Может! какая-нибудь! из фройляйн тамошних… – Тут у него не хватило воздуху, и он захлебнулся смехом.
– Отто! – взвизгнула женщина. – Тшшш!!
– Может! какая! – нибудь! из фройляйн их у него… – от смеха он закашлялся.
– О-о-о-т-то!.. Как не стыдно! Тшшш! – в один голос закричали на него женщины.
– На память! от старика! Мюнхена! – проревел в ответ ему острослов-напарник, и снова всех посвященных так и скорчило. Когда они слегка пришли в себя, один из мужчин, борясь с одышкой, запинаясь и вытирая брызнувшие из глаз слезы, начал:
– Скажи! Эльзе! – Тут голос подвел его, сорвавшись на еле слышный писк, и пришлось ему прерваться, чтобы еще раз вытереть глаза.
– Что?! – гаркнул ухмыляющийся пассажир.
– Скажи! Эльзе! – начал тот увереннее, – что тетя Берта! Ох, не могу! – опять слабо простонал он, запнулся, вытер залитые слезами глаза и впал в беспомощное молчание.
– Что-что?! – пронзительно выкрикнул провожаемый, ладонью похлопывая себя по безотказному уху. – Что сказать Эльзе?
– Скажи! Эльзе! что тетя Берта! посылает! ей! рецепт! слоеного пирога! – уже совсем навзрыд проплакал остающийся, словно ему любой ценой надо было выжать из себя эти слова, пока его не постиг неминуемый и полный упадок сил. Это на первый взгляд совсем не многосмысленное упоминание слоеного пирога тети Берты возымело действие поистине поражающее; ничто из происходившего прежде не шло даже в отдаленное сравнение с припадком судорог, который теперь охватил всю группку приятелей. Все разом задергались, охваченные внезапной падучей смеха; они качались как пьяные, в поисках опоры немощно хватались друг за друга, слезы градом катились из их опухших глаз, а из разинутых ртов по временам вырывались измученные охвостья звуков: придавленные всхлипы, слабые взвизги женщин – одышливый приступ изнурительной веселости, из которого в конце концов вынырнув, все понемногу, икая и кашляя, кое-как стали приходить в себя.
Что уж там было, какой крылся тайный смысл в явно банальном напоминании, ввергнувшем целую компанию в конвульсии такого буйного ликования, – посторонним этого постигнуть не дано, однако и на других пример подействовал заразительно: люди поглядывали на веселящуюся компанию, ухмылялись и, посмеиваясь, качали головами. Нечто подобное происходило вдоль всего состава. С самыми разными людьми – озабоченными и беспечными, грустными и веселыми, юными, старыми, спокойными, равнодушными и взволнованными; со всеми теми, кого обуревало стремление к деятельности и кого гнала жажда развлечений; с теми, в ком каждый жест, слово, движение выдавала томление, радость и надежду, пробужденную предстоящим путешествием, и с теми, кто, скользнув по сторонам усталым и безразличным взглядом, садились на свои места и более ничем из обстоятельств отъезда не интересовались, – со всеми и везде происходило одно и то же.
Звучал всеобщий, универсальный язык проводов, единый и неизменный по всему миру, – язык зачастую пустой, банальный и даже никчемный, но по этой самой причине и странно трогательный, ибо служит он, чтобы прятать в сердцах людей глубинные переживания, заполнять ту пустоту, что появляется в их душах при мысли о расставании; чтобы служить щитом, маской, скрывающей истинные чувства.
Благодаря этому для юноши чужестранца, для постороннего, который все это видел и слышал, ритуал отправления поезда был полон острой, волнующей значительности. Слыша привычные слова и видя привычные сценки – слова и сценки хотя и скрытые уборами чужого языка, но в сущности неотличимые от тех, что он за свою жизнь наслушался и навидался, наблюдая своих соотечественников, – он вдруг почувствовал, как никогда прежде, гнетущее одиночество посвященного, ощутил людскую тождественность, которая странным образом объединяет всех во всем мире и коренится в самой структуре человеческой жизни, – куда глубже наречий, на которых люди говорят, и рас, к которым они принадлежат.
Но теперь, когда настало время расставаться, женщина и умирающий мужчина молчали. Взявшись за руки, глаза в глаза, они глядели друг на друга со жгучей, жадной нежностью. Обнялись, и ее руки обвились вокруг него, ее полное жизни сладостное тело прильнуло к нему, ее яркие губы припали к его губам так, словно никогда она не сможет отпустить его. Наконец женщина буквально оторвала себя от него, отчаянно и бессильно подтолкнула его ладонями и сказала: «Иди, иди! Пора!»
Тогда мужчина – это страшилище – повернулся и поспешно вошел в вагон; поезд медленно двинулся и начал отползать. Мужчина тем временем уже стоял в коридоре, высунувшись из окна и не спуская глаз с женщины, а женщина шла по платформе, стараясь как можно дольше держать его в поле зрения. Но вот поезд набрал ход, женщина пошла медленнее, остановилась – глаза мокрые, губы шепчут никому не слышные слова, – и, потеряв из виду мужчину, крикнув «auf Wiedersehen!»[23]23
До свидания (нем.).
[Закрыть] – она приложила пальцы к губам и послала ему воздушный поцелуй.
А юноша, которому предстояло на краткий миг стать попутчиком этого призрака, еще чуть задержался в коридоре: все глядел из окна в сторону огромной арки вокзального навеса – будто бы наблюдая, как разбредается, покидает платформу народ, а на самом деле не видя ничего, кроме высокой прелестной женщины, провожая глазами ее медленно удаляющуюся фигуру: голова опущена, поступь неторопливая, скользящая, исполненная невыразимой фации, и чувственные, волнисто-переливающиеся движения. Разок приостановилась оглянуться, потом повернулась и пошла дальше так же медленно, как перед этим.
Вдруг стала. Какой-то человек, отделившись от кучки людей на перроне, подошел к ней. Он был совсем молод. Женщина помедлила, словно боясь пошевельнуться, протестующе подняла затянутую в перчатку руку и снова двинулась, а через секунду они уже сплелись в яростном объятии, стояли, не видя никого вокруг, и осыпали друг друга страстными поцелуями.
Когда юноша вернулся на свое место, его сосед, который уже успел войти из коридора в купе и, хрипло дыша, упасть на подушки своего диванчика, был почти спокоен и больше не казался столь изнуренным. С минуту его младший попутчик пристально глядел на птичий профиль, на устало прикрытые глаза, пытаясь отгадать, увидел или не увидел этот обреченный встречу на платформе, а если да, то что может нести ему такая новая крупица опыта. Но маска смерти была загадочной, непроницаемой; ничего поддающегося истолкованию юноша за ней не разглядел. В уголках тонких губ заиграла слабая улыбка, неожиданно осветившая лицо, а пылающие глаза, теперь уже открытые, были такими запавшими и отстраненными, что казалось, будто они глядят из несказанной глубины на что-то очень далекое. Спустя мгновение мягким, приглушенным голосом он сказал:
– Это биль моя жена. Сейтшас, когда зима, мне нужен ехать один. Так есть самое хорошо. Когда весна, мне будет лучше, и она ко мне приедет.
Весь остаток зимнего дня поезд мчался по просторам Баварии. Мощно и быстро набрал скорость, оставил позади последние редкие домики предместий и в мгновение ока вынесся на плоскую равнину, окружающую Мюнхен.
День был серым, непроницаемое небо тяжело нависало, хотя от него уже вовсю веяло живительной силой альпийской чистоты – не имеющей запаха, но при этом явственно осязаемой ликующей энергией холодного горного воздуха. Чуть ли не через полчаса поезд катил по предгорьям; мимо проплывали холмы, долины, где-то поблизости маячили заоблачные хребты, и все это осеняли своим темным колдовством леса Германии: леса здесь – это ведь не просто скопище деревьев – нет, это само волшебство, это ворожба и очарование, пленяющее сердца людей, а особенно тех иностранцев, кто узами крови как-то связан с этой землей, с этой темной музыкой, тревожащими воспоминаниями, никак до конца не уяснимыми.
Поразительное чувство, которое возникает у человека, впервые попавшего в страну своих отцов, сродни предвестию неминуемо подступающего прозрения. Словно входишь в тот неведомый край, к которому так страстно тянулся сердцем в юности, в край смутной и сокрытой стороны твоей души, объемлющей и незнакомого брата, и весь народ этой земли – сказочной земли твоего детства. И вся она открывается тебе в то мгновение, когда ты ее увидел, потрясенный и точностью узнавания, и недоверием сразу: и явственно, и странно, и привычно все вокруг, словно во сне, ибо так всегда бывает во сне и в наваждении.
Что это? Что за дикая, неуемная радость и печаль ширится у тебя в груди? Что это за воспоминание, которого не передать, что за вспышка узнавания, которую не облечь в слова? Не высказать. Тут человеческая речь бессильна, не за что зацепиться, нечем обосновать реальность этой памяти, так что язвительная гордыня вольна поднимать на смех глупую податливость предрассудкам. И все-таки эту темную страну узнаешь вмиг, едва попав сюда, – даже без языка, без доказательств, без надежды высказать то, что чувствуешь; но что у нас есть, то есть, что мы знаем, то знаем, и мы – это мы.
Да кто же это – мы? Мы обнаженные, мы растерянные американцы. Необъятны и пусты небеса, склонившиеся над нами, и разноязыкие легионы колоннами движутся в токе нашей крови. Откуда оно берется – это чувство странной сопричастности, внезапного узнавания и словно навязчивым сном навеянного близкого и ускользающего воспоминания? Откуда берется эта безжалостная жажда, эта болезненная страсть; и музыка – темная и торжественная, призрачная и волшебная, которая доносится сквозь чащу леса? Как так случилось, что этот парень, американец, познал чужую страну с первого мгновения, лишь только увидел ее?
Как произошло, что с первого вечера в немецком городке он стал понимать язык, которого никогда не слышал, заговорил сразу же и высказывал все что хочет на незнакомом языке, не владея им, но общаясь при помощи причудливого арго (ни нашим, ни вашим), вроде бы так точно воплощающего дух языка – самого языка, а не слов, которые произносились, – что оно изобреталось само собой, безотчетно, а понимание возникало мгновенно; и таким манером он бывал понят каждым, с кем говорил.
Нет. Доказать он ничего не смог бы, но был уверен, что в глубине его мозга, в его крови подспудно таится безусловное понимание этой страны и соплеменников его отца. Он чувствовал все это – весь трагический и нерасторжимый замес своего происхождения. Чувствовал в себе грозный сплав звериного начала и начала духовного. Знал этот неназываемый страх перед дикой древней чащей, перед цепью дикарских фигур, вбирающих его в кромешный сатанинский круг, это ощущение, будто тонешь в слепом лесном ужасе первобытных времен. Носил в себе и неспешную алчность вожделений ненасытного борова, и в то же время странную и могучую музыку духа.
Прожорливый зверь научил его ненависти и отвращению – обуреваемый неутолимой жаждой, вечно голодный зверь с кабаньей мордой, этакая толстая, медлительная рука, прорывающая все преграды, чтобы нащупать теплящуюся несытую похоть. И он ненавидел того громадного зверя адской и смертельной ненавистью, потому что чувствовал и знал его в себе и сам был жертвой его неукротимых, злостных и непотребных желаний. Вино ему – целыми реками, и жареного ему быка, что целиком проворачивается на вертеле, а вокруг чтобы стена гигантских звероподобных тел, ревущих во мраке лесной чащобы на варварский мотив, и непомерную плоть огромных белокурых женщин, ярящуюся на грубой брашне всепожирающей, ненасытной утробы, гигантского чрева, не знающего ни устали, ни пресыщения, – все это смешалось в его крови, вошло в его душу, в его жизнь.
Каким-то образом это досталось ему от темного безвременья и ужаса древней чащобы вместе со всем, что есть в ней волшебного, волнующего, странного и прекрасного: вот хрипловато докатились звуки рога, едва слышны, как будто эльфы зазывают из-за леса, их слабый зов еле доносится сквозь бесконечные и странные переплетения в густом сумбуре крайностей старой германской души. Жестокая, неразрешимая, странная и печальная загадка нации: энергия и сила неподкупного духа, воспарившего из огромной, исполненной порока звериной туши в горние выси, к лучезарной чистоте, – и здесь уже непреодолимая магия великой музыки, благородство поэзии мучительно и нерушимо сплелись и сплавились со слепой и грубой звериной алчностью и похотью в человеке.
Все это было для него своим, и все вмещалось в его жизнь. И никогда – он знал, – нет, никогда не отделить одно от другого, как не отделить никакой перегонкой от его крови кровь его отца, не расчленить древнего кованого узора темных времен. Вот почему теперь стоило ему взглянуть из окна вагона на пустынную альпийскую страну снегов и темных зачарованных чащ, как тотчас приходило уже не удивляющее чувство узнавания, ощущение, что эти места он помнит с детства, что это его родной дом. И что-то темное, неукротимое и странно ликующее разливалось, ширилось в его душе как величавая и неотвязная музыка сновидений.
Теперь, когда знакомство завязалось, этот человек-призрак принялся со свойственным его нации ненасытным и бесцеремонным любопытством забрасывать своего попутчика бесчисленными вопросами о его жизни, о доме, о профессии, о том, куда он едет и зачем. Юноша отвечал с готовностью и без раздражения. Понятно было, что выспрашивают его довольно беззастенчиво, но шепчущий голос умирающего звучал так вкрадчиво, так дружелюбно, мягко, его манера держаться была такой любезной, доброжелательной и располагающей, его улыбка, приятно смягченная еле различимым флером усталости, была такой светлой, такой обезоруживающей, что на вопросы отвечалось легко, как-то само собой.
– Ведь молодой человек американец, не правда ли? – Да. – И как давно уже он за границей – два месяца? Три? Почти год! Неужели так долго? Значит, Европа ему нравится, верно? Это его первое путешествие? Нет? Четвертое? – Брови призрака взметнулись в несколько нарочитом удивлении, однако с его нервных, тонких губ так и не сошла едва заметная усталая и снисходительная улыбка.
В результате юноша был выжат досуха; призрак узнал о нем все. Потом с минуту он сидел, глядя на юношу со своей едва заметной, просветленной, слегка насмешливой, но при этом доброй улыбкой. В конце концов устало и настойчиво, со спокойной категоричностью опыта и смерти, он сказал:
– Ви ошен молоды. Да. Сейтшас вам хочется все повидать, все иметь, но ви нитшего не имеет. Это есть правда – так? – начал он, убеждающе улыбаясь. – Это пройдет. Наступит день, когда ви будет хотеть только малость; и, может, ви будет иметь эту малость… – тут вновь он озарился лучистой, обезоруживающей улыбкой. – И так есть самое хорошо, верно? – Он опять улыбнулся, а потом устало сказал: – Я знаю, знаю. Сам вроде вас везде объездил. Старался все повидать и не имел нитшего. Теперь больше не езжу. Везде одно и то же, – проговорил он и, произведя тонкой бледной рукой усталый жест разочарования, поглядел в окно. – Поля, холмы, горы, реки, города, народы – вам хочется понимать о них обо всех. Одно поле, один холм, одна река, – голос его поник до шепота, – и все, и довольно!
На секунду он прикрыл глаза; когда он заговорил снова, его шепот был еле слышен:
– Одна жизнь, одно место, одно время.
Стемнело; в купе зажегся свет. Вновь шепот уходящей жизни был обращен к юности с настойчивой и непреложной, хотя и кроткой просьбой. На этот раз потребовалось потушить в купе свет, чтобы призрак мог расположиться на своем диванчике отдохнуть. Младший попутчик с готовностью и даже с радостью согласился; его дорога близилась к концу, а сияние рано взошедшей луны изливало на горные леса и снега чары странной, сверкающей и неотступной магии, сообщавшей темноте внутри вагона некий собственный, фантастический и загадочный, свет.
Призрак лежал тихо, распростершись на подушках своего диванчика, – глаза закрыты, исхудалое лицо, на котором две ярко горящих карминных плиты румянца теперь отливали лиловым, незнакомое и страшное в этом колдовском свете, напоминало клювастую маску огромной птицы. Казалось, он едва дышал: ни звука, ни движения жизни не слышалось в купе, лишь стук колес да кожаное поскрипывание и похрустывание отделки вагона – только этот странно-привычный, взывающий к глубинам памяти музыкальный фон, создаваемый мчащимся поездом, мощное симфоническое однозвучие, которое само есть голос тишины и вечности.
Захваченный магией колдовского света и времени, юноша сидел, неотрывно глядя в окно на зачарованный чернобелый мир, величественно проплывающий мимо в эфемерном сиянии луны. Наконец встал, вышел в коридор, осторожно притворил за собой дверь и двинулся по узкому проходу в хвост мчащегося состава, из тамбура в тамбур, пока не добрался до вагона-ресторана.
Здесь все было в движении, все блистало и лучилось чувственным теплом, роскошью и весельем. Жизнь поезда, казалось, вся сосредоточилась в этом месте. Официанты – расторопные, ступающие с ненарушимой устойчивостью – проворно сновали по проходу бешено мчащегося вагона и, задерживаясь у столиков, обслуживали посетителей, раскладывая по тарелкам вкусно приготовленные кушанья из больших посудин, которыми были уставлены подносы. За официантами следом ходил sommelier[24]24
Служащий ресторана, ведающий винами (франц.).
[Закрыть]; он откупоривал длинные запотевшие бутылки рейнского вина – бутылку зажимал между колен, выдергивал пробку, раздавался бодрящий хлопок, и пробка летела в специальную корзиночку.
За одним из столиков сидела прелестная женщина с обрюзгшим стариком. За другим гигант, могучего вида немец в рубашке с воротником «апаш» (бритый череп, лицо огромного хряка, лоб одинокого мыслителя), с сосредоточенным видом скотского вожделения пожирал глазами поднос, откуда официант накладывал ему мясо. При этом немец плотоядным и как бы прямо из чрева исходящим голосом говорил: «Ja!.. Gut!., und etwas von diesem hier auch…»[25]25
Да!.. Хорошо!.. и немного из этой вот тоже… (нем.).
[Закрыть]
Сцена, полная богатства, силы и роскоши; один взгляд – и сразу чувствуешь, что ты и впрямь путешествуешь в первоклассном европейском экспрессе, – ощущение, резко отличающееся от того, которое испытываешь, когда едешь в американском поезде. В Америке поездка по железной дороге вызывает прилив буйного ликования пополам с тоской: всем существом осязаешь эти дикие, неогороженные, безграничные и невозделанные просторы страны, по которой проносится поезд, а при мысли о зачарованном городе, куда ты стремишься, тебя распирает безмолвная, невыразимая в словах надежда на исполнение неясных и сказочных обещаний той жизни, что тебя там ждет.
В Европе состояние радости и удовольствия более реально, непреходяще. Роскошные поезда, богатое убранство, темный пурпур, глубокая синева, свежая, яркая окраска вагонов, хорошая еда и искрящееся, веселящее вино, да и вид пассажиров – жизнелюбивых космополитов-богачей, – все это вселяет ощущение силы и чувственной радости, намекает на близость неминуемого исполнения желаний. За считанные часы, окруженный миром насыщенной культуры и многолюдством целых наций, ты переносишься из страны в страну, через века и эпохи, от одного экскурсионного рая к другому.
И взамен буйного ликования и безымянной надежды, которая появляется при взгляде из окна американского поезда, здесь, в Европе, ощущаешь невероятную радость осуществления, моментальное, осязаемое удовлетворение, словно на свете нет ничего, кроме богатства, силы, роскоши и любви, а жить и наслаждаться этой жизнью во всем бесконечном разнообразии удовольствий предстоит вечно.
Юноша поел и расплатился и снова принялся пробираться по вагонам – коридор за коридором, по всей длине мчащегося состава. Добравшись до своего купе, он увидел, что призрак лежит, все так же вытянувшись на своем диванчике, и яркие отблески луны по-прежнему озаряют его птичий профиль.
Лежащий не изменил своей позы ни на дюйм, однако юноше показалось, что произошла какая-то неуловимая, но пагубная перемена, хотя, в чем она заключалась, определить он бы не взялся. Что изменилось? Он сел на свое место и некоторое время неотрывно смотрел на безмолвно тающие во мраке контуры человека напротив. Он что – не дышит? Подумав, юноша почти уверил себя в том, что дыхание есть: исхудалая грудь вздымается и опадает; и все-таки полной ясности не было. Зато совершенно ясно он увидел полоску, багрово-черную в оттененном луной сумраке, протянувшуюся из уголка плотно сомкнутых губ, и на полу большое багрово-черное пятно.
Что теперь надо сделать? Что теперь можно сделать? Навязчивый свет губительной луны, казалось, опутал душу своей черной магией, погрузил ее в трясину безмерной вялости и апатии. Вдобавок поезд тоже ослабил свой бег, показались первые огоньки города; это был конец путешествия.
И вот поезд все медленнее подходит к станции. На подъездных путях посверкивание рельсов, маленькие фонарики стрелок и светофоров, горящие ярко и строго, – зеленые, красные, желтые, мучительно резкие в темноте; поодаль низкие товарные платформы и сцепки неосвещенных поездов, пустых и темных, только что покинутых жизнью и замерших в чутком и странном ожидании. Потом мимо окон экспресса неспешно поплыли длинные станционные перроны, и вот уже с козлиной прыткостью забегали крепыши носильщики, нетерпеливо жестикулируя, переговариваясь, окликая пассажиров, которые тут же принялись передавать свой багаж в окна.
Юноша осторожно вынул из сетки над головой свой чемоданчик, взял пальто и ступил в узкий коридор. Беззвучно задвинул за собой скользящую дверь купе. Потом снова приотворил ее и секунды две постоял в нерешительности, глядя в купе. В полумраке виднелся призрачный абрис человека, с трупной неподвижностью лежащего на застеленном диванчике.
Не благо ли это – в конце пути безмолвно оставить все как есть? Не может ли быть так, что этот великий сон времени, в котором мы живем, в котором мы все – движущиеся тени, с наивысшей несомненностью позволяет нам утверждать только одно: встретились, поговорили, мгновение были знакомы, пока нас мчало по этой земле куда-то вперед сквозь тьму из одной точки времени в другую, и надо счесть за благо этим удовлетвориться, расстаться так же, как встретились, и пусть каждый в одиночку движется к назначенной ему цели, лишь в одном нуждаясь и лишь одно зная твердо – что всем нам достанется безмолвие и ничего, кроме безмолвия, в конце пути?
Поезд окончательно остановился. Юноша прошел в конец коридора и спустя мгновение, ощутив кожей бодрящий ожог ледяного ветра, вбирая легкими животворный, пахнущий снегом воздух, он уже шел по перрону вместе с сотней других людей, идущих все в одну сторону – кто-то к дому и несомненности, кто-то к новым местам и надеждам, к голоду и переполняющему предвкушению радости, к обещаниям городских огней. А про себя он знал, что едет теперь домой.








