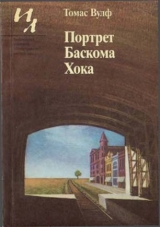
Текст книги "Портрет Баскома Хока"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Цирк на рассвете
А иногда ранней осенью, в сентябре, в город приезжали знаменитые цирковые труппы – братья Ринглинги, Робинсоны, Барнум и Бейли; я был тогда разносчиком газет, и в те утра, когда цирк приезжал в город, я как сумасшедший обегал все дома по своему маршруту в той пронизывающей холодом мгле, какая бывает перед самым рассветом. А потом мчался домой и вытаскивал из постели брата.
Переговариваясь тихими взволнованными голосами, мы быстро шли обратно в город под шорох сентябрьских листьев, а прохладные улицы серели в том безмолвном, таинственном, магическом первом свете дня, который внезапно словно вновь открывает землю, и земля возникает из мрака в пугающей, величественной, скульптурной неподвижности, и человек смотрит на нее с восторгом и изумлением, как, наверно, смотрели на нее первые люди на земле, потому что это – одно из тех зрелищ, которые остаются с тобой навсегда, о которых думаешь умирая.
На скульптурно неподвижной площади, где на одном углу начинала вырисовываться из мрака призрачно чужая и хорошо знакомая маленькая, обшарпанная мастерская отца, мы с братом садились на самый первый трамвай, который шел к железнодорожной станции, где разгружался цирк. А иногда нас подвозил туда кто-нибудь из знакомых, направлявшихся в город.
Подъехав к грязному, закопченному, ветхому зданию станции, мы выходили из трамвая или машины и быстро шли по путям; здесь мы уже видели огненные вспышки и клубы пара, вылетающие из паровозов, и слышали лязг и стук перегоняемых товарных вагонов, внезапный грохот маневрирующих паровозов, звон станционного колокола и звуки огромных поездов, проносящихся мимо.
И ко всем этим знакомым звукам, исполненным радостных пророчеств дороги, путешествия, утра и сияющих городов, ко всем резким и волнующим запахам поездов – запахам золы, едкого дыма, затхлых и ржавых товарных вагонов, чистых сосновых досок, из которых сколочены ящики, и запахам свежих продуктов на складах – апельсинов, кофе, мандаринов, грудинки, окороков, муки, говяжьих туш – теперь примешивались незабываемые, таинственные и знакомые, все странные звуки и запахи прибывающего цирка.
Великолепные ярко-желтые вагоны, в которых жили и спали главные исполнители, все еще темные, могуче неподвижные, стояли на путях длинной цепочкой. А вокруг них звуки разгружаемого цирка уже яростно кипели в темноте. Отступающую мглу сиреневой, уходящей ночи пронизывали свирепый рев львов, внезапное злобное рычание огромных тропических кошек, трубный рев слонов, топот лошадей и душные, крепкие, незнакомые запахи обитателей джунглей – рыжевато-коричневые верблюжьи запахи, запахи пантер, зебр, тигров, слонов и медведей.
А у путей, вдоль цирковых вагонов, – резкие окрики и ругань служителей цирка, таинственный танец фонарей, покачивающихся в темноте, а потом вокруг – сильный грохот груженых фургонов: их скатывали с товарных платформ и гондол по настилу на землю. И в эти таинственные минуты уходящей темноты и нарастающего света во всем ощущалось борение суеты, спешки и мерного, упорядоченного движения.
Крупные серо-стальные лошади по четыре и шесть в упряжке под грубые окрики погонщиков неторопливо шагали по густой белой пыли дороги, гремя цепями, волоча за собой постромки. Погонщики гнали их к речке, которая текла за путями, поили их там, и в первых лучах рассвета можно было увидеть в знакомой реке купающихся слонов и больших лошадей, медленно и осторожно входящих в воду.
А на площадке, отведенной для цирка, невероятно быстро, как по волшебству, вырастали шатры. И на всей ее территории (это была единственная площадка в городе, ровная и достаточно большая для цирка; к тому же недалеко от станции) царила атмосфера дикой, неистовой спешки и в то же время мерной работы. Яркий свет газовых фонарей освещал увядшие, помятые лица цирковых силачей, которые ритмично и точно – одушевленные клепальные молотки – колотили кувалдами по столбам и вгоняли их в землю с невероятной, непостижимой быстротой и ловкостью. А когда рассветало и всходило солнце, вся площадка становилась ареной волшебства, порядка и неистовства. Погонщики ругались и говорили что-то друг другу на своем особом языке, громко пыхтел и неровно стучал бензиновый движок, кричали и ругались распорядители, гудели от кувалд вбиваемые в землю столбы, гремели тяжелые цепи.
Но вот на огромной расчищенной площадке, на утоптанной пыльной земле уже вбиты столбы для главного шатра, где будет проходить представление. И тогда на площадку, тяжело передвигая нога, вступал слон, он медленно опускал свою огромную раскачивающуюся голову по приказу человека, который сидел у него на голове, взмахивал раз или два серым морщинистым хоботом и неторопливо обвивал им один из лежащих на земле столбов, длинных, как мачты быстроходных шхун. Потом слон медленно отходил назад и легко, будто спичку из коробка, вытаскивал огромный столб.
Увидев это, мой брат заливался громким безудержным смехом и тыкал мне в грудь своими неловкими пальцами. А два маленьких чернокожих из города, которые вытаращив глаза наблюдали за представлением, устроенным слоном, поворачивали друг к другу свои обезьяньи физиономии, приседали, разом хлопали себя по коленям и разражались темным, глубоким смехом, а потом начинали свою игру в вопросы и ответы:
– Ведь он не балуется, нет?
– Нет, сэр! И ни за кем не посылает!
– Он не говорит: «Минуточку, подождите»?
– Нет, сэр! Он говорит: «А ну-ка, ну-ка!»
– А идет он – кач-кач! – говорил один и, подражая слону, опускал свое черное лицо вниз, к земле.
– Он его поддевает, – говорил другой и наклонял голову, словно поддевая головой что-то.
– Он говорит: «Ар-рам», – говорил один.
– Он говорит: «Готово, хозяин! Порядок!» – отвечал другой.
– Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! – Они вопили и задыхались от своего глубокого смеха и звонко хлопали себя по ляжкам, подражая движениям слона, восторгаясь его силой.
Тем временем уже ставили цирковую столовую – огромный брезентовый навес без стен, и мы могли тогда видеть, как под этой крышей за длинными столами на козлах завтракают артисты. А аромат их пищи, перемешанный с нашим сильным волнением, с резкими, но здоровыми запахами животных, с безотчетной радостью, свежестью, таинственностью, ликующим чародейством и великолепием утра и с приездом цирка, исходил, казалось, от самых дразнящих, самых аппетитных блюд на земле, которые нам когда-либо доводилось пробовать или о которых мы когда-либо слышали.
Мы могли видеть, как артисты цирка с наслаждением поглощают свой грандиозный завтрак, упиваясь своей силой и мощью: они съедали большие бифштексы, свиные отбивные, жареную грудинку, полдюжины яиц, огромные куски ветчины и огромные груды пшеничных оладий, которые повар с ловкостью жонглера подбрасывал в воздух, а рослая официантка быстро разносила по столам, высоко держа на пальцах мускулистой руки большие нагруженные подносы и уверенно балансируя ими. И над всеми этими будоражащими запахами здоровой и сочной пищи непременно повисал знойный восхитительный аромат, который словно придавал особый смысл и остроту этой волнующей жизни утра, – аромат крепкого кипящего кофе, посылавшего облака пара из блестящего кофейника невероятной величины, артисты пили его большими глотками чашку за чашкой.
И сами цирковые артисты – мужчины и женщины, звезды представления, – выглядели превосходно, они были сильными и красивыми; а говорили и двигались они с почти суровым достоинством и благородством, и вся жизнь их казалась нам такой прекрасной и восхитительной, как ничья другая жизнь на земле. В их манерах никогда не было ничего развязного, грубого или вызывающего, и артистки цирка не были похожи на размалеванных уличных женщин, и с мужчинами они не вели себя неприлично.
Скорее казалось, что этим людям каким-то удивительным образом удалось создать общину, которая жила своей размеренной жизнью, хотя это и была жизнь на колесах, и с суровой непреклонностью, неизвестной в больших и маленьких городах, соблюдала благопристойность в семейных отношениях. Среди артистов были молодой сильный мужчина, поразительной красоты женщина со светлыми волосами, с фигурой амазонки, и атлетического сложения коренастый мужчина средних лет с морщинистым, суровым, надежным лицом и лысой головой. Возможно, они вместе работали на трапеции – молодой мужчина и женщина прыгали с высоты навстречу пожилому мужчине, он ловил их и с силой бросал обратно, на узкие перекладины, и они должны были поймать качели в воздухе, но прежде успеть еще трижды перевернуться, пренебрегая опасностью, демонстрируя всю красоту, ловкость и точность, на какие способен человек.
Но когда они приходили завтракать под брезентовую крышу, они спокойно и вежливо беседовали с другими артистами цирка, садились по-семейному за один из длинных столов и поглощали свой грандиозный завтрак серьезно и сосредоточенно, чаще всего молча, а если разговаривали, то спокойно, сдержанно, немногословно.
А мы с братом смотрели на них будто завороженные. Мой брат, оторвав наконец взгляд от мужчины с лысой головой, поворачивался ко мне и шептал:
– В-в-видишь вон того л-л-лысого? Это ловитор, – говорил он со знанием дела. – Ну, т-т-тот самый, к-к-кто их ловит. Он должен оч-ч-чень хорошо уметь это делать. Знаешь, что случится, если он их не поймает, а? – спрашивал мой брат.
– Что? – завороженно спрашивал я.
Брат щелкал в воздухе пальцами.
– Каюк! – отвечал он. – Разобьются. Д-да, они даже не успеют сообразить, что случилось. Это уж точно! – добавлял он, энергично кивая. – Это ф-ф-факт! Если он хоть чуть-чуть промахнется, им каюк! Этот человек должен знать свое дело, – говорил мой брат. – И знаешь, – продолжал он, понизив голос, с глубокой убежденностью, – было бы с-с-совсем не удивительно, если бы ему платили с-с-семьдесят пять или сто долларов в неделю! Совсем не удивительно! – решительно заявлял мой брат.
И мы опять устремляли восхищенные взгляды на этих прекрасных, романтических людей, чья жизнь была так не похожа на нашу и которых, нам казалось, мы уже давно знаем и давно любим. А потом, когда уже совсем рассветало и всходило солнце, мы с неохотой покидали площадку цирка и отправлялись домой.
И почему-то воспоминание обо всем, что мы видели и слышали в то чудесное утро, воспоминание о столовой под брезентовой крышей с ее восхитительными запахами пробуждало в нас такой острый, свирепый голод, что мы уже не могли ждать, когда доберемся до дому, чтобы позавтракать там. Мы заходили в какую-нибудь закусочную в городе, забирались на высокие табуреты перед стойкой и с жадностью набрасывались на бутерброды с ветчиной и яйцами, на горячие рубленые бифштексы с красной, ароматной, пряной, сочащейся кровью сердцевиной, на кофе, на пенное молоко и сдобы, а потом уже шли домой, чтобы съесть все, что поставят перед нами на столе.
Бродяги на закате
Медленно, гуськом, неспешной поступью людей, которые только что наелись и которых не гонит вперед ни время, ни важные дела, бродяги вышли из лесу, спустились на несколько футов по глиняной насыпи к железнодорожному полотну и так же неспешно двинулись по шпалам к водонапорной башне. Время было – как раз заход солнца, солнца уже не было видно, но последние его лучи еще ложились вдали, без насилия и без зноя, на вершины деревьев в уже темнеющих лесах и на верхушку башни. Там свет задерживался ненадолго, со странным неземным спокойствием, как отлив изысканной старинной бронзы, он не был частью того прохладного, чудесного наступления темноты, что уже окутывала леса, он был как печаль и как отрада и угасал сразу, как призрак.
Из пяти мужчин, которые появились на опушке над дорогой и теперь нестройной цепочкой продвигались к водонапорной башне, старшему было на вид лет пятьдесят, но это была такая развалина, такое бесформенное скопление промокших лохмотьев, слежавшихся волос и кусков человеческой плоти, что возраст его не поддавался точному определению, он напоминал какой-то расплавленный предмет, который сильный дождь вколотил в землю. Младшему – деревенскому пареньку со свежим лицом и живыми, любопытными глазами – дай бог минуло шестнадцать. Из трех остальных один был молодой человек не старше тридцати лет, с лицом хорька и почти без верхних зубов. Шагал он осторожно, изнеженными ногами, явно непривычными к той работе, которую он теперь на них взвалил. Это был триумф грязной элегантности – костюм в узкую полоску, весь в жирных пятнах и сильно лоснящийся пониже спины, воротник пиджака поднят, руки засунуты глубоко в карманы брюк, – так он шел, выставив вперед костлявые плечи, словно озяб, хотя день выдался жаркий. В уголке рта у него торчала мятая сигарета, а когда он говорил, губы у него едва шевелились, но весь рот как-то безобразно сдвигался вбок; весь его облик наводил на мысль о нечистой скрытности.
Из всех пяти только двое несли на себе печать подлинной бездомности. Один был маленький, с жестким испитым лицом, глаза жесткие и холодные, как агат, а тонкие губы сдвинуты наискосок и похожи на шрам.
У второго, как видно перевалившего за сорок, была мощная неуклюжая фигура и испитое лицо профессионального бродяги. В лице и в фигуре сквозило своеобразное грубое благородство. Лицо, все в следах от побоев и конопатое, словно высечено из одной гранитной плиты, и читалась на нем грандиозная эпопея его скитаний, поездок под вагонами под стук колес, кровавых драк, зверских избиений. И пустынности, диких, жестоких и тоскливых просторов Америки.
Этот человек, в котором почему-то сразу угадывался вожак всей группы, шел молча, равнодушно, выносливой, хоть и неуклюжей походкой, не глядя на других. Раз он остановился, сунул мощную длань в отвисший карман пиджака и извлек оттуда сигарету, которую и зажег одним-единственным движением, загородивши от ветра другой рукой. Тут лицо его расплылось в счастливую гримасу, он глубоко затянулся и, втянув дым в самую глубину твоих могучих легких, медленно выпустил его через ноздри. То был широкий жест чувственной радости, сразу придавший акту курения и аромату табака всю их исконную терпкую прелесть. И было ясно, что он умеет придать это редкое качество самым простым отправлениям жизни – всему, чего ни коснется, – потому что внутри себя носил это замечательное свойство – умел ликовать и радоваться.
Мальчик все время держался позади этого человека, не отрывая глаз от его широкой спины. Теперь, когда тот остановился, он догнал его и тоже остановился, по-прежнему глядя на него чуть растерянно, но с тем же выражением упрямого доверия.
Бродяга медленно и победоносно выпустил дым из ноздрей, двинулся дальше и сначала не сказал мальчику ничего. А вскоре заговорил грубо, небрежно, но не без какого-то медвежьего дружелюбия.
– Куда путь держишь, малыш? – сказал он. – В Большой город?
Мальчик молча кивнул, словно хотел заговорить, но раздумал.
– Раньше там бывал? – спросил старший.
– Не, – ответил мальчик.
– И под вагоном в первый раз ехал?
– Да.
– Чем же там плохо, на ферме? – усмехнулся бродяга. – Слишком много коров приходится доить, что ли?
Мальчик тоже усмехнулся, неуверенно, потом ответил: – Да.
– Так я и знал, – сказал бродяга с грубым смешком. – О господи! Я вас, свеженьких, из деревни, за милю узнаю, по походке. Ну что ж, – добавил он с грубоватым дружелюбием. – Раз наладился в Большой город, держись за меня. Я тоже туда направляюсь.
– Да, – скрипучим голосом вмешался маленький, со ртом как шрам, и засмеялся издевательски.
– Да, держись за Быка, малыш. С ним не пропадешь. Он тебе покажет… свет, это я без шуток тебе говорю. Сводит тебя к Лимонадному озеру и в долину Черно-белого хлеба, ведь сводишь, Бык? Покажет, где растут ветчинные деревья и где индейки на кустах расцветают. Покажешь, Бык? – продолжал он, словно намекал на что-то скверное, однако же не переставая подлизываться. – Ты, малыш, держись за Быка и будешь в золоте купаться. Ах ты мразь несчастная, – сказал он, неожиданно переключаясь на злобное рычание. – Ты что, думаешь, такая мразь нам больно нужна?.. Но в этом и беда. Все у нас было хорошо, пока эти пацаны не набежали, всю картину испортили. Какого черта нам с ним вожжаться? – прорычал он злобно. – Какого черта меня приглашают… в няньки, так, что ли? Катись отсюда, мразь несчастная! – прорычал он еще раз и занес кулак, словно готовясь ударить мальчика. – Вон отсюда! Нечего тебе тут делать. Катись, говорят. К чертовой матери, не то как дам…
Человек, которого звали Бык, оглянулся и с минуту молча смотрел на него.
– Вот так-то, образина, – сказал он потом негромко. – Оставь ты этого малыша в покое. Малыш остается с нами. Понятно?
– Аррр, – прорычал тот угрюмо. – Это что у нас тут? Может, детская, черт бы ее взял?
– Вот так, – сказал бродяга. – Ты меня слышал?
– Аррр, к чертям, – пробормотал маленький, постепенно остывая, – Не буду я качать люльку для всякой мрази.
– Слышал ты, что я сказал, или нет? – повторил тот, которого звали Бык, тяжелым, угрожающим голосом.
– Слышал, да, – пробормотал маленький совсем тихо.
– Ну вот, от тебя я больше никаких пакостей слышать не желаю. Я сказал, что малыш останется со мной. Значит, он останется.
Маленький что-то пробормотал невнятно, но сказать ничего не сказал. Бык еще с минуту смотрел на него тяжелым, хмурым взглядом, потом отвернулся, пошел и сел на дрезину, подогнанную к стене склада на запасном пути.
– Поди сюда, малыш, – сказал он сердито и полез в карман в поисках сигареты. Мальчик подошел к дрезине. – Покурить есть? – спросил мужчина, все еще роясь в кармане. Мальчик достал пачку сигарет и протянул ее мужчине. Бык взял сигарету из пачки, зажег одним движением – между своим грубым испитым лицом и здоровенной лапой, потом тем же свободным и властным жестом опустил пачку себе в карман. – Спасибо, – сказал он, когда едкий дым роскошными кольцами пошел из ноздрей. – Садись, малыш.
Мальчик сел на дрезину с ним рядом. Пока Бык курил, двое из компании переглянулись с хитрыми улыбками, потом молодой в грязных брюках быстро сам себе покачал головой и, беззубо усмехнувшись тонкими проваленными губами, прошамкал насмешливо:
– О гошподи!
Бык не откликнулся, он сидел и курил, немножко наклонившись вперед, крепкий как скала.
Между тем почти совсем стемнело; еще теплились слабые остатки вечернего света, но в безоблачном небе уже стали вспыхивать и разгораться большие звезды. Где-то в лесу шумела вода. Вдали то ли слышалось, то ли угадывалась слабое дрожание рельсов. Мальчик сидел тихо, слушал и молчал.
Солнце и дождь
Когда он проснулся, его душило немое волнение. Зимний день был пасмурный, в воздухе чувствовался снег, и что-то должно было случиться. Это ощущение часто овладевало им в провинциальной Франции – странное смешанное ощущение тоски и бездомности, внутренней пустоты и недоумения – зачем он здесь оказался? – и одновременно прилив радости, надежды, предвкушения, причем он понятия не имел, на что надеется и что предвкушает.
После обеда он пошел на станцию и сел в поезд на Орлеан. Где Орлеан находится, он не знал. Поезд был смешанный – товарные вагоны, кресла, отдельные купе. Он взял билет третьего класса и вошел в купе, и тут прозвучал пронзительный свисток, и поезд выкатился из Шартра в деревню, без звонка или иных сигналов, как водится у маленьких французских поездов, и это, как всегда, наполнило его тревогой.
На поля была накинута легкая снежная маска, воздух был дымный – казалось, вся земля исходит дымом и паром, и из окна была видна мокрая земля и полосатые участки вспаханных полей, да изредка ферма, хозяйский дом и службы. На Америку вовсе не похоже: земля на вид жирная и ухоженная, даже дымные зимние леса выглядят ухоженными. Временами вдали вырастала полоска высоких тополей, это означало, что там есть река или озеро.
В купе сидели трое; старик крестьянин с женой и дочерью. У старика были растрепанные усы, обветренное морщинистое лицо и маленькие воспаленные глаза. Руки его казались тяжелыми и крепкими, как камень, он, стиснув, держал их на коленях. Лицо его жены было гладкое, коричневое, сеть тонких морщинок окружала глаза, все лицо напоминало старинную бронзовую вазу. У дочери лицо было мрачное, хмурое, она сидела у окна, подальше от родителей, словно стыдясь их. Когда они с ней заговаривали, отвечала, не глядя на них, каким-то яростным голосом.
Крестьянин заговорил с ним приветливо, как только он вошел в купе. Он ответил улыбкой на его улыбку, хотя не понял ни слова, и старик, решив, что он все понял, продолжал говорить.
Старик извлек из кармана пачку крепчайшего дешевого табака, каким французское правительство снабжает своих бедняков за несколько центов, и приготовился набивать трубку. Молодой человек достал пачку американских сигарет и предложил ему:
– Закурите?
– А как же, – сказал старик.
Он неловко вытащил сигарету из пачки, подержал большими заскорузлыми пальцами, потом поднес ее к огоньку, который предложил ему молодой человек, и затянулся, с непривычки нескладно. Потом стал с любопытством разглядывать пачку, крутя ее в руках, чтобы прочесть название фирмы. Повернулся к жене, которая следила за каждым его движением в этой несложной процедуре внимательными блестящими глазами зверька, и затеял с ней быстрый, взволнованный разговор.
– Американские, так-то.
– Вкусные?
– А как же, первый сорт.
– Дай посмотреть. Как их зовут?
Оба уставились на надпись.
– Как вы это называете? – спросил крестьянин.
– «Лаки страйк», – ответил молодой человек.
– Лаки? – На лицах сомнение. – А как это по-французски?
– Je ne sais pas[22]22
Я не знаю (франц.).
[Закрыть],– ответил он.
– Вы куда едете? – спросил крестьянин, и его воспаленные глаза воззрились на юношу, прикованные ненасытным любопытством.
– В Орлеан.
– Как? – старик словно был озадачен.
– Орлеан.
– Не понимаю, – сказал старик.
– Орлеан! Орлеан! – яростно крикнула девушка. – Мсье говорит, что едет в Орлеан.
– А-а! – воскликнул старик, точно его внезапно озарило. – Орлеан.
Юноше казалось, что он произнес это слово точно так же, как старик, но он повторил: – Да, в Орлеан.
– Он едет в Орлеан, – сказал старик, поворачиваясь к жене.
– А-а! – вскричала она лукаво, словно тоже пережила озарение, после чего оба умолкли и уставились на юношу любопытными глазами.
– Вы сами-то из какого района? – вскоре спросил старик, сбитый с толку, не сводя с него воспаленных глаз.
– Как это, я не понимаю.
– Мсье не француз! – заорала дочь, выведенная из себя их бестолковостью. – Он иностранец, неужели непонятно?
– А-а! – вскричал крестьянин, словно перестав удивляться. Потом повернулся к жене и сказал, как отрезал: – Он не француз. Он иностранец.
– А-а!
И четыре маленьких круглых глаза обратились на него с пристальным, звериным вниманием.
– Вы из какой страны? – спросил крестьянин. – Вы кто?
– Американец.
– А-а, американец… Он американец, – сказал он жене.
– А-а.
Девушка раздраженно дернулась и продолжала хмуро смотреть в окно.
Тогда старик стал с приветливым любопытством животного разглядывать своего спутника с ног до головы. Осмотрел его ботинки, костюм, пальто и наконец поднял взгляд к сетке над его головой, где лежал его чемодан. Он подтолкнул жену под локоть и указал на чемодан.
– Материал неплохой, – сказал он вполголоса. – Настоящая кожа.
– Да, очень хороший.
И оба некоторое время смотрели на чемодан, потом снова обратили любопытный взгляд на молодого человека. Тот опять предложил старику сигарету, и старик взял и поблагодарил его.
– Это прекрасно, вот это, – сказал он, указывая на сигарету. – А стоит дорого?
– Шесть франков.
– A-а… это очень дорого. – И поглядел на сигарету более почтительно.
– Зачем вы едете в Орлеан? – спросил он. – Вы там кого-нибудь знаете?
– Нет, просто хочу посмотреть город.
– Как? – тупо спросил старик. – У вас там дела?
– Нет, хочу просто посетить… посмотреть город.
– Мсье говорит, что хочет посмотреть город, – яростно вмешалась дочь Ты совсем ничего не понимаешь?
– Я не понимаю, что он говорит, – возразил старик. – Он не говорит по-французски.
– Очень даже хорошо говорит, – сердито произнесла она. – Я его прекрасно понимаю. Это ты бестолковый. Вот и все.
Крестьянин некоторое время молчал, затягиваясь сигаретой и дружески поглядывая на молодого человека.
– Америка очень большая, да? – спросил он наконец, широко разведя руки.
– Да, очень большая. Гораздо больше, чем Франция.
– Как? – опять спросил крестьянин озадаченно и терпеливо. – Я не понимаю.
– Он говорит, Америка гораздо больше, чем Франция! – крикнула девушка измученным тоном. – Я все понимаю, что он говорит.
Несколько минут длилось неловкое молчание, никто не раскрывал рта. Отец курил свою сигарету, раза три порывался, видимо, заговорить, но растерянно продолжал молчать. Дождь за окнами поливал теперь поля длинными косыми струями, а дальше в сером тревожном небе, где полагалось быть солнцу, светилось белое пятно, словно старалось прорваться наружу. Заметив это, крестьянин улыбнулся и, доверительно пригнувшись к молодому человеку, постучал его по колену крупным заскорузлым пальцем, потом указал на солнце и проговорил медленно и внятно, как учат ребенка:
– Le so-leil.
И молодой человек послушно повторил за ним это слово:
– Le so-leil.
Старик и его жена просияли от радости и одобрительно закивали, приговаривая: – Да, да, хорошо, очень хорошо, – и старик, как всегда ожидая от жены поддержки, добавил: – Он сказал это очень хорошо, правда?
– Да, да, превосходно!
Тогда он указал на дождь и, сделав своими крупными руками скользящее движение вкось и вниз, опять проговорил, очень медленно и терпеливо:
– La pluie.
– La pluie, – благонравно повторил юноша, и крестьянин оживленно кивнул и сказал: – Хорошо, хорошо, говорите вы прекрасно, скоро будете говорить, как француз. – Потом указал на поля за окном и сказал ласково:
– La terre.
– La terre, – отозвался молодой человек.
– Говорю я тебе, – сердито крикнула девушка со своего места у окна. – Он знал все эти слова. Он очень хорошо говорит по-французски. Это ты такой бестолковый, что не понимаешь его. Вот и все.
Старик ей не ответил, а на юношу продолжал глядеть, словно хваля и одобряя. Потом уже побыстрее, нанизывая слова, указал на солнце, дождь и землю и сказал:
– Le soleil, la pluie, la terre.
Молодой человек повторил, и старик покивал с довольным видом. Потом все долго молчали, и единственным звуком был беззаботный перестук маленького поезда, и девушка все так же хмуро глядела в окно, а там дождь поливал плодородные поля длинными косыми струями.
Уже в сумерки поезд остановился на маленькой станции, и все приготовились выходить. Дальше этот поезд не шел. Едущие в Орлеан пересаживались здесь на другой поезд.
Крестьянин, его жена и дочь собрали свои пожитки и вышли на перрон. На другом пути ждал другой маленький поезд. Крестьянин указал на него крупным заскорузлым пальцем и сказал молодому человеку: – Орлеан. Вон ваш поезд.
Молодой человек поблагодарил и отдал ему пачку с остатками сигарет. Крестьянин благодарил его горячо и долго, а на прощание еще раз быстро указал на солнце, на дождь и на землю и произнес с доброй дружеской улыбкой:
– Le soleil, la pluie, la terre.
И молодой человек кивнул, показывая, что все понял, и повторил слова старика, а старик одобрительно покивал головой и сказал:
– Да, да, очень хорошо. Дело у вас пойдет.
Услышав это, девушка, обогнавшая родителей, все с тем же хмурым, независимым и пристыженным видом оглянулась и крикнула в яростном отчаянии: – Я же тебе говорю, мсье все это знает… оставь ты его в покое… Только себя дураком выставляешь!
Но старик и старуха словно и не слышали ее, а смотрели на молодого человека с дружеской улыбкой и простились с ним за руку тепло и сердечно.
Потом он пересек пути и вошел в купе того, другого поезда. Когда он снова выглянул в окно, крестьянин и его жена стояли на платформе и смотрели на него с добрым любопытством на старых лицах. Поймав его взгляд, старик опять указал своим крупным пальцем на солнце и крикнул:
– Le so-leil!
– Le so-leil! – отозвался юноша.
– Да, да, – крикнул старик и рассмеялся. – Очень хорошо.
Тогда дочь подарила молодого человека хмурым взглядом, рассмеялась коротко и безнадежно и сердито отвернулась. Поезд тронулся, но старики еще смотрели ему вслед. Он махнул им рукой, и старик махнул в ответ своей ручищей и, смеясь, указал на солнце. И молодой человек кивнул и крикнул что-то, означавшее, что он понял. А девушка тем временем сердито пожала плечами, повернулась спиной и уже уходила прочь в обход станционных зданий.
Потом они исчезли из виду, поезд быстро стряхнул с себя городок, и не осталось ничего, кроме полей, земли, дымных и загадочных далей. А дождь все шел.








