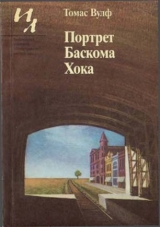
Текст книги "Портрет Баскома Хока"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
На это из недр второй комнаты мог зычно отозваться грубый голос, в котором наливалась готовая выплеснуться изобильная низкосортная пошлость: – Ерунда, я объясню, в чем дело. – И в дверной проем вдвигался массивный силуэт шефа, мистера Джона Т. Брилла. – Неужто не знаете, что стряслось с преподобным? А вдовушка-то, с которой он тут валандался? – И, как всегда перед сальностью, в горле у мистера Брилла начинало булькать, губы складывались в плотоядную улыбку. – В ней причина. Она сподобила его…
При этом покушении на юмор пузырь в красной глотке мистера Брилла лопался и он разражался визгливым, захлебывающимся, мокротным хохотом, как горазды смеяться крупные полнокровные мужчины. Мистер Фридман кашлял сухим смешком («хе-хе-хе-хе»), мистер Стэнли Уорд похохатывал, не роняя достоинства, а мисс Брилл, памятуя о девичьей скромности, исподтишка и конфузливо прыскала. Баском же Хок, случись ему быть в отличном настроении, гудел носовым смехом, переламывался в костлявой пояснице, облапив ее ручищами, и несколько раз с силой топал сухощавой ногой; резвясь, он мог раз-другой лягнуть мебель, мыча и топоча, и даже боднуть своими деревянными перстами мисс Брилл, словно тревожась, что она не расчувствует соль шутки.
Однако Баском Хок, мой дядюшка, был личность сложная, переменчивая, и если мистер Брилл со своим балаганом попадал ему в неподходящее настроение, он мог обезобразить лицо выражением крайней гадливости и, резко мотая головой, пробормотать осуждающие слова. Мог, наконец, воздвигнуться суровым моралистом, грозно, низами голоса предваряя обличительную силу слов. – Дама, которую вы имеете в виду, – начинал он, – прелестная и интеллигентная дама, сэр, чье имя, – его голос начинал подвывать, и колебательно выставлялся указательный палец, – чье имя, сэр, вы гнусно опорочили и очернили…
– Не делал я этого, Преподобный. Я, наоборот, хотел обелить, – говорил мистер Брилл, возобновляя горловое клокотанье.
– …чье имя, сэр, вы гнусно опорочили и очернили своими грязными домыслами, – не давал себя сбить Баском, – эта дама, и вы это прекрасно знаете, сэр, знакома мне, – ревел он, тряся громадным пальцем, – исключительно и только с профессиональной стороны.
– Тю, Преподобный, – простодушно тянул мистер Брилл. – Так она профессионалка? Я-то считал, что она, прости господи, любительница.
Нанеся этот последний удар, мистер Брилл наполнял комнату всесотрясающим ржаньем, мистер Фридман, ухватившись за живот и падая грудью на стол, попискивал, мистер Уорд, отвернувшись к окну, смеялся лающим смехом, неодобрительно поматывая головой, словно сокрушаясь и душе, а мисс Брилл, хихикнув, подсаживалась к машинке и объявляла: – Такие разговоры уже не для меня.
И если все это безобразие случалось в такую минуту, когда мудреная дядина душа не принимала пошлости, то он удалялся, замыкался в свою скорлупу, его выразительное, подвижное лицо искажала невообразимая гримаса гадливости и отвращения, и свистящим, трепетным от негодования шепотом он говорил: – Ах, беда! Беда! Беда! – и в такт словам качал головой.
Но бывало и так, что чудовищная пошлость Брилла, его беспардонная профанация всего и вся попадали в тон дяде Баскому, больше того, пробуждали в нем восторженный отклик, дух соперничества, лукавый и находчивый, и, припечатав словцо, он довольно хихикал и жуликовато косился на слушателей, вдохновлявших его так же, как пьянят вероотступника впервые отведанные грех и срам.
В глазах своих коллег, в глазах, стало быть, Фридмана, Уорда и машинистки Мюриэл дядя всегда оставался загадкой; поначалу они дивились и поражались своеобразию его речи и костюма, эксцентричности поведения, взрывоопасной переменчивости настроений, потом над всем этим посмеивались и подтрунивали, а теперь он им порядком наскучил и приелся. Его делам и словам они уже не удивлялись, их это не увлекало и даже не привлекало, он сознавался ими как еще один факт их скучных биографий. У них стало привычкой свысока третировать его («подначивать старикана», как они выражались), самодовольно перемигиваться и подавать другие тайные знаки, и это было низко и подло, потому что ни один из них в подметки не годился моему дяде.
Он ничего этого не замечал, а заметив – вряд ли стал бы придавать этому значение, потому что, как почти всякий человек со странностями, обретался обычно и своем собственном мире и по-тамошнему жил, чувствовал и дышал. К тому же, достойный сын незаурядного семейства, он прошел жизнь с чувством «взысканного судьбой» (у них это вообще была семейная черта), с чувством особого попечения о нем промысла божьего, с тем, коротко говоря, чувством, что век, может быть, расшатался, но сам он даже не дрогнул. Поколебать это непомерное самомнение могла только смерть, ведь и взрывался он, хулил белый свет, клеймил подвернувшегося автомобилиста, пешехода или пролетария лишь потому, что пути-дороги этих людей набегали на его стезю и те или иные их действия вносили сумбур в его мироздание.
Забавно, но из сослуживцев лучше всех понимал и уважал дядюшку не кто иной, как Джон Т. Брилл. Мистер Брилл был колоссально слеплен из простейших желаний и страстей, с неукротимостью Миссисипи хлестало из его уст полноводное сквернословие, без него он был так же немыслим, как кит в болотце, и он поносил все и вся, едва открыв рот, без умысла и безотчетно, и все-таки в обхождении с дядей его брань принимала отвлеченный характер, окрашивалась оттенком уважительности.
Он мог, например, сказать ему:
– Черт побери, Хок, вы не подыскали правооснования для того молзенского барахла? Малый названивает мне каждый день насчет этого.
– Какой малый? – уточнит дядя. – Из Оксфорда?
– Нет, – скажет мистер Брилл, – другой, из Дорчестера. А что мне сказать этому – если правооснования не имеется?
Пошлое и характерное для него словоизлияние, но лично дядю оно как бы не задевает – ведь есть большая разница между «черт побери» и «черт вас побери». С другими своими подчиненными Брилл не миндальничал.
Брилл был громадина: шесть футов и два-три дюйма росту и под триста фунтов весу. Он был совершенно лыс, атласно отливала розовость черепа; румяное полнолуние щекастого лица убывало к макушке. Похабство, празднично распиравшее его, рябило обстоятельно-вескую, зычную погудку его голоса; похабство настолько вошло в его жизнь, настолько стало естественной для него формой самовыражения, что осуждать его бессмысленно. Он употреблял ограниченный круг постоянных эпитетов – к слову сказать, так же поступал Гомер, и, как Гомер, Брилл не видел оснований заменять хорошо зарекомендовавшее себя слово каким-нибудь другим.
Хоть и срамник, Брилл был человек простодушный. Рядом со своими служащими он, как и мой дядя, казался выходцем из какого-то допотопного времени, яркого и крупного, и наверно, потому между ними были и духовное родство, и понимание, чего у тех не было в помине. И Фридман, и дочка Брилла Мюриэл, и Уорд – они принадлежали сонмищу людскому, тем неисчислимым ордам, что, неостановимо умножаясь, заполняют собой улицы жизни, протекая серыми, незапоминающимися массами. А Брилл и дядя Баском оставались собой и среди тысячи, и среди миллиона народа: увидев их в толпе, на них оглядывались, а поговорив с ними, их запоминали на всю жизнь.
Сегодня редкость – встретить человека, который выявлял бы себя с такой полнотой и убежденностью, как Брилл, – исчерпывающе полно и без тени сомнения или замешательства. Правда, проявлял он себя в основном двояко: непристойностью речей и взрывом оглушительного, обвального хохота, этим выплеском мироощущения, кульминации и предела его выразительных средств.
И пусть других забавляла его вдохновенная похабщина, но дядя Баском от нее, бывало, сатанел. В таких случаях он либо тут же уходил из конторы, либо в бешенстве ретировался в свой пенал, захлопывал за собой дверь, сотряся тонкую перегородку и потревожив двадцатилетнюю пыль, и с минуту судорожно кривил губы, конвульсивно искажал лицо и поматывал костлявой головой и уже потом потрясенно, страдальческим голосом шептал: – Ах, беда! Беда! Беда! И в словах, и в делах – хам и пошляк. Возможно ли, – ужасался он, – чтобы воспитанный, порядочный человек говорил такое при людях? При собственной дочери?! Ах, беда! Беда! Беда!
В наступившей тишине дядя еще тряс головой сокрушенно и подавленно, когда через комнату от него Брилл звонко щелкал человечество по носу и заходился гортанным смехом. И если позже дяде требовалось перемолвиться с ним по делу, он рывком распахивал дверь, решительно направлялся к его столу, держа руки на пояснице, и с застывшей брезгливой гримасой говорил: – М-м, сэр… Полагаю, можно заняться делами, – тут его голос набухал желчью, – если вы уже отмолились своим богам.
– Какое, Преподобный! – ревел в ответ Брилл. – Я еще и не начинал.
И, громыхнув стенающим хохотом, от которого вздрагивали оконные стекла, он в полном изнеможении откидывался всем своим чудовищным весом на спинку скрипнувшего винтового стула.
Безусловно, он любил поддеть дядюшку – и буквально по любому поводу. Если, к примеру, Баскома угощали сигарой, Брилл якобы простодушно замечал: – Вы, конечно, не станете ее курить, Преподобный?
– Отчего же нет? – парировал дядя Баском. – Для чего еще она предназначена?
– Так-то оно так, – отвечал Брилл, – только не вам напоминать, как их делают. Мне вообще странно, что вы взяли ее в руки после поганого испанца, который извалял ее в своих лапах и еще всю обслюнявил – так это делается.
– A-а, – отмахивался дядя. – Не говорите чего не знаете. Чище хорошего табака ничего нет. Благородная, здоровая культура. Никаких сомнений.
– Тогда, – говорил Брилл, – я начинаю понимать. Век живи – век учись. Преподобный, и сейчас вы меня опять просветили: если задаром, то это сама чистота, а если за деньги, то вонь и мерзость. – Он с минуту весомо размышлял, и в громадной его глотке начинало побулькивать. – Черт побери! – заключал он. – А ведь это не только к табаку приложимо. Отнюдь не только!
Или такой случай. Однажды утром дядя зловеще прокашлялся и объявил мне:
– Вот что, Дэвид, сынок: сегодня ты будешь со мной обедать. Безусловно и несомненно! – Новость озадачивала, поскольку прежде, когда я приходил к нему на службу, он никогда не звал меня обедать, хотя у него дома я обедал множество раз. – Да, сэр, – продолжил он категорическим и довольным тоном, – я все продумал. В подвальном этаже этого здания есть великолепное заведение, скромное, разумеется, но там чисто и в высшей степени пристойно. Хозяин – джентльмен ирландских кровей, я знаю его много лет. Благороднейшая нация. Никаких сомнений.
Это было из ряда вон выходящее событие: чтобы дядя пошел в ресторан? – я недоумевал. Приняв решение, Баском вышел из своего закутка к коллегам и с величайшим удовольствием огласил свои соображения.
– Да, сэр! – сочно почмокав губами, внятно объявил он собранию. – Мы войдем, усядемся, как положено, и я дам соответствующие распоряжения кому-нибудь из прислуги, – на этом слове он так аппетитно зачмокал губами, что мой рот налился слюной и в животе сладостно заныло. – Я ему скажу: «Вот мой племянник, новоиспеченный студент Гарвардского у-ни-вер-си-те-та, – он опять дурманяще зачмокал губами. – Да, сэр! – скажу я. – И посему обслужите его безоговорочно, безотлагательно, безусловно и, – выкрикнул он, потрясая костлявым пальцем, – безупречно!» А себе, – сник он, – я ничего не возьму. Сохрани меня бог! – презрительно фыркнул он. – Я брезгаю притронуться к их стряпне. Хоть озолотите. Я сон потеряю, если оскоромлюсь у них. А ты, сынок, – отнесся он в мою сторону, – ты получишь все, что пожелает твоя душа, – все! – Длинными руками он очертил в воздухе круг, потом закрыл глаза, топнул ногой и рассмеялся в нос.
Это сообщение мистер Брилл выслушал, обмякнув толстым лицом и от удивления разинув рот. Потом с нажимом сказал: – Итак, его надо накормить. Где вы намерены это сделать?
– Позвольте, сэр, – встревожился дядя, – я же объяснил: мы пойдем в скромное, но превосходное заведение в подвальном этаже вот этого самого здания.
– Позвольте, Преподобный, – протестующе сказал Брилл, – вы, конечно, шутите, что собираетесь повести племянника туда! По-моему, речь шла о том, чтобы накормить человека.
– Мне кажется, – язвительно сказал дядюшка, – что за этим туда и ходят. Мне совсем не кажется, что туда ходят бриться.
– Если вы пойдете туда, – сказал Брилл, – вас там как раз побреют, и не только побреют, но еще заживо оскальпируют. А вот накормить – этого там нет. – И, бурно расхохотавшись, он откинулся на спинку стула.
– Не обращай внимания, – брезгливо проскрипел дядя. – Я всегда знал, что эта низкая и пошлая душонка все обращает в смех, даже самое святое. Поверь мне, сынок: это во всех отношениях прекрасное место. А иначе, – грозно бросил он Бриллу и остальным, – как бы я помыслил вести его туда? Как бы я вообразил вести племянника, сына собственной сестры, в такое место, которое не одобряю целиком и полностью? Да ни за что на свете! – взревел он. – Ни за что на свете!
И мы пошли, провожаемые гоготом Брилла и его напутствием мне в спину: – Не горюй, сынок! Когда разделаешься с тараканьей тушенкой, возвращайся сюда, и я поведу тебя кормить.
Хотя Брилл обожал вот так поддевать и просто дразнить дядюшку, в душе он питал к нему смиренное, уважительное и восторженное чувство; он уважал его незаурядный ум, в глубине души его трогало то обстоятельство, что дядя был в свое время служителем слова божьего и проповедовал во многих молитвенных домах.
Больше того, всякий раз склоняясь и благоговея перед дядиной просвещенностью, горячо рекомендуя клиентам его глубокие познания, Брилл лучился какой-то трепетной, отеческой гордостью, словно Баском доводился ему сыном и на его таланты нужно каждую минуту открывать человечеству глаза. Чем он, собственно говоря, и занимался. Нервируя Баскома, он рекламировал его ученость перед совершенно незнакомыми людьми, впервые переступившими порог его конторы, побуждал дядю показать себя, «загнуть эдакое словцо». И его вполне устраивало, если дядя злобно и презрительно огрызался: только бы он при этом «загнул словцо». Однажды явился возобновить отношения пропадавший тридцать пять лет друг детства, и Брилл, расписав дядины совершенства, серьезнейше заверил пришельца: – Не сомневайся, Джим: нужен профессор, чтобы понять Преподобного целиком, а не наполовину. Простой – его не поймет. Ей-богу, правда! – поклялся он, видя недоверчивость Джима. – Преподобный знает слова, каких наш брат и не слыхивал. Каких даже нет в словаре. Правду говорю! А он их вовсю употребляет, – победно кончил он.
– Любезный, – остужающе процедил дядя, – что вы несете? Вы же урода нам представили, отрыжку природы. Чтобы мудреца нельзя было уразуметь… Чтобы грамотный человек не мог объясниться с людьми… Чтобы эрудит, подобно бессмысленной твари, вел темное, бессловесное существование… – Дядя зажмурил глаза и презрительно засмеялся в нос. – Хм-хм-хм! Вы законченный болван! – смеялся он. – Я всегда знал, что ваше невежество безгранично, но я не предполагал, что с ним потягается – нет, превзойдет его! – ваш кретинизм!
– Слыхал? – ликующе взывал Брилл к приятелю. – Что я тебе говорил? Вот словцо так словцо, Джим, и один Преподобный знает, с чем его едят, в словаре его нет!
– Нет в словаре! – возопил дядя. – Господь всемогущий, сойди и дай язык этому кретину, как во время оно ты сподобил им его валаамову подругу!
Или еще: за своим столом Брилл ведет с клиентом задушевный, осторожный, конфиденциальный разговор, каким обыкновенно завершается предварительное соглашение. На сей раз в покупатели набивается итальянец: он ерзает, как на угольях, на краешке стула, а великий человек заклинающе тянется к нему всей своей чудовищной массой. Глухой и настороженный голос итальянца нет-нет и прервет занудливо-увещевающее гудение Брилла. Итальянец сидит оцепенело, нескладное большое тело мается от неудобств тяжелого выходного костюма, волосатые большие пальцы с тупыми ногтями судорожно обжимают колени, из-под спутанных усатых бровей настороженно постреливают карие глаза. Вот он еще поерзал, потер для смелости колени и с заискивающе недоверчивой улыбкой спросил: – Сколько вы хотите?
– Сколько мы хотим? – развязно повторил Брилл, заводя свое горловое воркотанье. – А сколько у вас есть? Мы вас, предупреждаю, обдерем как липку! Мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть! – И он с хохотом откинулся на спинку стула. – Верно, Преподобный? – адресовался он к вошедшему дяде. – Мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть! Такой у нас максимум! И на проспектах надо его напечатать! Как вам кажется, Преподобный?
– Хм? – рассеянно отозвался дядя со своего закутка.
– Я говорю, я придумал для нас максимум.
– Что придумал? – как бы не доверяя услышанному, презрительно переспросил дядюшка.
– Максимум.
– Да не максимум, – с досадой воскликнул дядюшка. – Это совсем другое слово, – процедил он. – Культурный человек не скажет: придумал максимум. Это неправильно! – взорвался он. – Так скажет только невежда. Нет и нет! – отмел он окончательно. – Так не говорят! Решительно и бесповоротно!
– Ну ладно, Преподобный, – сказал притихший Брилл. – Вам видней. Как правильно-то будет?
– Придумал максиму! – огрызнулся Баском. – И никак иначе! Любой дурак это знает!
– Какого черта! – заспорил уязвленный мистер Брилл. – Я же так и сказал!
– Не-е-т! – ядовито отозвался Баском. – Отнюдь не так! Вы сказали: придумал максимум, а правильное слово: максима. Оно и пишется иначе, – кольнул он побольнее.
– Как оно, интересно, пишется? – спросил мистер Брилл.
– А так и пишется: максима, – объявил Баском. – Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! – апостольски возгласил он. И в восторге от собственного остроумия он зажмурил глаза, топнул ногой и рассмеялся в нос.
– Ладно, – сказал Брилл, – плевать, как это пишется, важна суть: мы хотим не «сколько», а все, что у вас есть. И на этом стоим!
И Брилл действительно стоял на этом – открыто, не таясь и без уверток. Он зубами держался за свое – и не упускал чужого. И эта ненасытность, эта грубая неприкрытая алчность не отпугивала, а привлекала людей, внушала им неколебимую веру в личную и деловую порядочность Брилла. Возможно, это происходило оттого, что скрытность была не в натуре этого человека: свои планы он выкладывал всем и каждому, захлебываясь от брани и смеха, и всякий после такого представления уходил с уверенностью – вроде этого итальянца – в том, что Брилл – «душа-человек». Даже дядя, то и дело каравший коллегу презрением и сарказмом, и тот питал к нему своеобразное уважение, какую-то вымученную симпатию: в разговоре со мной он, случалось, вспоминал то или иное высказывание Брилла – и знакомая гримаса отвращения искажала его крупной лепки чуткое лицо, и вынужденный смех надсадно выкашливался через его замечательное нюхало и рот с ненадежной преградой из нескольких лошадиных зубов.
– Хм! Хм! Хм! Конечно, – гудел он в нос, глядя поверх задумчивым шалашиком сплетенных пальцев, – что взять с темного человека!.. Не думаю, чтобы… да нет, уверен, что Брилл за свою жизнь и полгода не проучился в школе. Вообрази! – Баском смолк, жутковато оскалившись, и выставил на меня свои пронзительные стариковские глаза, и эта неожиданная перемена в облике, то, что он как бы глянул на меня из своей глубины, где протекала жизнь, бесконечно далекая от здешней, – это завораживало и сбивало с толку. Серые, острые, старые глаза, на одном паралитично запало веко, видеть это не мешало, зато придавало взгляду порой зловещее, недружелюбно-насмешливое выражение. – Вообрази, – переходил он на оглядочно-осторожный шепот, – чтобы человек мог… чтобы сказать такое… Ах, мерзость! Мерзость! Мерзость, сынок! – шептал дядя, в каком-то священном ужасе жмуря глаза, словно язык отказывался повторить всплывшую в памяти баснословную неприличность. – Можно ли вообразить такое, можно ли такое помыслить, если в тебе есть хоть гран, хоть молекула такта и воспитания? Нет, сэр, – убежденно говорил он, – исключается! Происхождение у него самое низкое, самое подлое и ничтожное! Хотя это нисколько его не умаляет, – спохватился дядя из страха быть заподозренным в снобизме. – Нисколько! Нисколько! – тянул он нараспев, разводя длинной рукой невидимые струйки дыма. – Из такой же среды вышли замечательнейшие мужи, цвет нации. Безусловно! Безусловно! И несомненно! Ответь, – его набрякший паралитический глаз упирался в меня зловеще, – Линкольн – разве он был аристократ? Разве он происходил из состоятельной семьи? И в детстве его холили и лелеяли? Или наш бывший губернатор, нынешний вице-президент Соединенных Штатов, – разве он вырос в роскоши? Да ничего подобного! – выкрикнул дядя Баском. – Он родился в скромной и работящей фермерской семье и ни на йоту не изменился потом, остался самим собой – простейшим из простейших! Эти люди – украшение человечества. Никаких сомнений!
Он горестно размышлял, отсутствующе глядя поверх сцепленных пальцев, а я в который раз залюбовался благородным абрисом его задумавшейся головы, высоколобой и неприкаянной, которая не только печатью мысли, но и физическими пропорциями, и всей своей чистотой и незащищенностью так поразительно напоминала голову Эмерсона, и в такие минуты, как эта, мне казалось – я не видел головы прекраснее и чтобы на ней так запечатлелась вся жизнь человеческая с ее одиночеством и достоинством, величием и отчаянием.
– Да, сэр! – снова заговорил он. – Конечно, он темный человек и некоторые его высказывания… Ах, мерзость! Мерзость! – жмурился и смеялся он. – Какая мерзость!.. Но (хм-хм-хм!) как не рассмеяться, когда он… Ох, не могу, сынок… Мерзость! Мерзость! – сокрушенно поникал он головой. – Как грубо… Как хлестко! – упоенно шептал он.
Вот эту хлесткость он втайне особенно ценил, и был случай, когда он завистливо пожалел, что не может прибегнуть к ее помощи. В тот памятный день дядюшка Баском, воздев руки, облек свою никчемность в слова пламенной мольбы: – Если бы тут был Б. Т.! Мне бы его язык! Чтобы сказать похлеще!
А случай был такой. Как-то дядя увез жену на зиму во Флориду, снял там домик. Поселок был маленький, скромный, в нескольких милях от фешенебельных мест и не на побережье, хотя имелась река, точнее, узкий залив, подгрызший полуостров и с приливами и отливами наполнявшийся и мелевший. Немногочисленное общество, зимовавшее здесь, довольствовалось одной-единственной церквушкой и одним-единственным священником, тоже из приезжих. Зимой священник заболел, для службы в церкви стал непригоден, и его малочисленное стадо, ища замену, прознало, что дядя Баском в свое время был священнослужителем. Они явились к нему и попросили занять пустовавшее место.
– Христос с вами! – поднял он их на смех. – Побойтесь бога! Я вообразить себе это не могу. Помыслить такое не смею. Я уже двадцать лет законченный агностик.
Стадо глядело на него озадаченно.
– Само собой, – сказал застрельщик, сухопарый земляк из Новой Англии, – мы тут, почитай, все пресвитериане, только я не вижу от этого помехи. Я так сужу: мы сошлись, чтобы славить господа, и нам нужен проповедник, неважно какой веры. В конце концов, – благодушно заключил он, – особой-то разницы между нами нет.
– Славно, любезный! – фыркнул дядя, – Если вы полагаете, что между агностиком и пресвитерианцем нет разницы, то вам самое время проверить у врача свою голову. Нет, увольте, – протянул он. – Я не могу исповедовать то, чего не знаю. Не могу симулировать убежденность, которой у меня нет. Не могу проповедовать веру, которой не имею. Вот, сэр, в двух словах мои воззрения.
Конфузливо потоптавшись и пошептавшись, они пошли прочь, и тут дядя уловил оброненное словцо: атеист.
– Нет! – вскричал он, и его паралитическое око зажглось боевым огнем. – Никоим образом! Никоим образом! Этим вы только показываете свое невежество! Это разные вещи! Ре-ши-тель-но и бес-по-во-рот-но разные! «Атеист» это не «агностик», а «агностик» – не «атеист»! Вы вслушайтесь, – призвал он, – и слова сами все объяснят, если у вас осталась хоть крупица разума. Атеист – это человек, который не верит в бога. Слово это состоит из греческого префикса «а», что означает «нет», и существительного «теос», что означает «бог», и следовательно, атеист заявляет: бога нет! Переходим, – продолжал он, нетерпеливо облизнув губы, – к слову «агностик». Разве оно такое же на слух? Не-е-т. А по смыслу? Никоим образом! А по составу? Ни в коем случае! Агностик. Из какого языка это заимствовано? Из греческого, конечно, это знает любой дурак. Какие слова его составляют? Та же отрицательная частица «а» и «гностикос», что означает – знание. Кто в таком случае «агностик»? – пытал он пылающим взором их непроницаемые лица. – Да что же вы?! – раздражался он. – Это же любой школьник сообразит! He-знающий человек! Человек, который не знает! А вовсе не тот, кто отрицает! Никоим образом! – Он безапелляционно выбросил вверх руку. – Кто отрицает, тот атеист! Агностик же просто не знает!
– Не вижу разницы, – пробормотал кто-то. – По мне, и тот и другой безбожники.
– «Не вижу разницы»! – взревел Баском. – Уж помолчите, любезный, не позорьте семени своего!.. Не различать ночь от дня, черное от белого, безответственное глумление циника от выдержанной рассудительности философа! Лучшие умы нашего времени, – возгласил он, – были агностиками. Да-да, сэр! Цвет человечества!.. Великий Мэтью Арнольд был агностиком, – выложил он свой козырь. – И после этого вы не видите разницы?! Опомнитесь!
Собрание строптиво молчало, и тогда он сунул руку за пазуху и стал шарить там.
– У меня есть стихотворение, – сказал он, извлекая его, – собственного сочинения, – он смущенно прокашлялся, – хотя, разумеется, в нем есть следы влияния того гиганта, чье имя я только что назвал и кого с гордостью величаю своим учителем, – Мэтью Арнольда. Эти стихи, думается, лучше долгих разговоров объяснят мои воззрения.
Он призывно поднял палец и начал читать.
– Стихотворение называется, – сказал он, – «Моя вера», – и, выдержав паузу, начал читать:
Дано ль увидеть в час конечный
Долину, где не гаснет свет,
Где мертвый встанет к жизни вечной?
На сей вопрос ответа нет.
Вкусим ли радости сполна,
Чтоб в счастье распри позабыть.
Чтоб правила любовь одна?
Возможно. Может быть.
Там было еще семнадцать строф, и все их Баском огласил размеренно и с выражением, потом сложил бумагу и с ухмылкой оглядел присутствующих.
– Надеюсь, – сказал он, – я выразил свою мысль. Теперь вы знаете, что такое агностик.
Теперь они это знали. Он в такой форме выразил свою мысль, что крыть им было нечем. Они развернулись и пошли ошарашенные. Но нашлась среди них настырная овца, дщерь господня, коя измором слов и пылких взоров умела взять то, что нахрапом не получалось. Это была вдова, средних лет южанка. При ней были зрелые прелести, ластящаяся повадка, медоточивый голос. Редкий был тот священник, перед которым она склоняла голову, и редкий священник сам не склонял перед ней головы. И покуда другие расползались, дама двинулась вперед, искушенно повиливая бедрами, и триумфально возвышавшийся среди редеющей толпы дядя Баском вдруг увидел перед своим носом ее ласковое взыскующее лицо.
– А-а, мистер Хок! – пропела она с какой-то брюшной надсадой (его имя прозвучало у нее так: Хо-о-ок). – Представляю, какой вы были вос-хи-тительный проповедник! По лицу вижу, какой вы хо-роший человек. – Тут она подпустила утробный мык.
– Что вы, мадам, что вы, – смущенно заговорил Баском, взглядом, однако, одобряя ее порыв.
– Я слушала вас и обмирала, мистер Хок, – говорила вдова. – Я упивалась каждым вашим словом, буквально купалась в лучах вашей мудрости, мистер Хок! Вы читали это замечательное стихотворение, а я думала: как это замечательно, что такие люди поставляются на службу господу, как замечательно, что вот этот самый человек был служителем у господа!
– Ну что вы, мадам, – остужал ее Баском, румянясь от удовольствия. – Поверьте, я так признателен… такая честь заслужить похвалу столь… по-настоящему умной женщины… Но, мадам…
– Мистер Хо-о-ок! – стонала вдова. – Какое наслаждение слушать вас! Какое наслаждение ваш язык! Так надоела убогая, пустая болтовня – жаргонные словечки – неграмотность – куда мы катимся? – и какое наслаждение – да, сэр! – какое упоение слушать человека, который способен выражать свои мысли! Я с первого взгляда поняла и сказала себе: у этого человека дар слова. Дар! Дар! Дар! – каркала вдова, страшно мотая головой. – Такой человек, – продолжала вдова, – волен делать со мной все что угодно – да, сэр! – решительно все, я это поняла, как только вы заговорили.
– Мадам, мадам, – рычал Баском, с достоинством клоня голову, – благодарю. Искренне и от всего сердца – благодарю.
– Да, сэр! Какое наслаждение, повторяла я себе, просто глядеть на него, на голову смотреть!
– На какого меня? – ужаленно вскрикнул Баском.
– На вашу голову, – объяснила вдова.
– Ах, на голову, – простонал Баском, – на мою голову, – и он дурашливо рассмеялся.
– Да, мистер Хок, – продолжала вдова. – Другой такой великолепной головы я не видела. Когда вы стали читать стихотворение, я сказала себе: только человек с такой головой мог написать такое стихотворение. Благодарение господу, сказала я себе, что свою замечательную голову он приставил к божьему делу.
– Мадам! – встрепенулся Баском. – Вы удостоили меня высочайшей оценки. Я не вижу средства отблагодарить вас. Но боюсь… и, положа руку на сердце, должен признать, что вы, возможно, не вполне поняли – не совсем уяснили – или же я выразил мысль стихотворения, его задачу – ах, конечно, я сам виноват – безусловно, безусловно, – это я, возможно, выразил его мысль недостаточно ясно.
– Нет, достаточно! – заспорила вдова. – Мне там все ясно как божий день. Я стояла и твердила себе: это же мои собственные мысли, только я не имела возможности их выразить, мне некому было их высказать. Но вот явился замечательный человек, говорю я себе, и в моей собственной голове все разложил по палочкам! Прикорнуть у его ног и дни напролет слушать, сидеть и внимать словам, просто слышать, как он говорит, – лучшей участи, говорю я себе, мне не надо!
– Мадам! – вскричал искренне и глубоко тронутый Баском. – И мне не надо! Я был бы в восторге! Да в любое время! В любое время! – заклинал он. – Такая удача – такая редкая удача в наши дни встретить умную, думающую женщину! Нам нужно побеседовать еще раз, – сказал он. – Непременно!
– Угу, – воркнула вдова.
Баском зорко поискал в пределах видимости и слышимости тетку Луизу.








