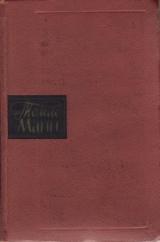
Текст книги "Королевское высочество"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Под конец они подошли к одному из трех окон палаты и увидели бедные домишки предместья, а внизу на мостовой, – стоящие друг за другом и окруженные кольцом ребятишек, коричневую придворную карету и великолепный, крытый темно-красным лаком автомобиль Иммы. Шпельмановский шофер сидел, развалясь в своей бесформенной мохнатой дохе, и, положив руку на руль мощной машины, наблюдал, как его сотоварищ, белоснежный лакей, вертится возле кареты и пытается вступить в разговор с кучером Клауса-Генриха.
– Наши соседи – они же и родители наших питомцев, – пояснил доктор Плюш, отведя белую тюлевую гардину. – В субботу вечером пьяные отцы проходят мимо больницы и горланят под окнами. Да.
Они стояли и слушали; но доктор Плюш ничего больше не сказал об отцах, и они собрались уезжать, так как все уже было осмотрено.
Клаус-Генрих с Иммой Шпельман впереди, остальные следом двинулись вниз по лестницам, а в вестибюле снова собрался весь штат сестер милосердия. Здесь началось прощание – щелкали каблуками, отдавали честь, кланялись, приседали. Стоя в официальной позе перед доктором Плюшем, который слушал, склонив голову набок и теребя цепочку часов, Клаус – Генрих в штампованных выражениях весьма одобрительно отозвался обо всем виденном и при этом чувствовал, что Имма Шпельман не спускает с него своих больших глаз. После прощания с врачами и сестрами он и господин фон Браунбарт проводили дам до автомобиля. Проходя по тротуару между рядами детей и женщин с детьми на руках, и даже у широкой подножки автомобиля, Клаус-Генрих и фрейлейн Шпельман не переставали беседовать.
– Мне было очень приятно встретиться с вами, мадемуазель, – сказал он.
Она ничего не ответила на это, только выпятила губы и чуть-чуть покрутила головкой.
– Крайне интересный осмотр, – начал он снова. – Столько узнаешь нового.
Она взглянула на него большими черными глазами. Потом отрывисто и вскользь бросила своим ломающимся голосом.
– Да, конечно, до известной степени…
Он надумал спросить:
– Надеюсь, мадемуазель, вам нравится дворец Дельфиненорт?
– Ничего себе. Вполне сносное жилье.
– Вам больше нравится здесь, чем в Нью – Йорке? – спросил он.
И она ответила:
– Не больше и не меньше. Почти одно и то же. Собственно, всюду одно и то же.
Вот и все. Клаус-Генрих и на шаг позади него господин фон Браунбарт стояли, приложив руку к каске, пока шофер запустил мотор и автомобиль, сотрясаясь, тронулся с места.
Само собой разумеется, такая встреча не могла остаться событием внутренней жизни Доротеинской больницы – нет, в тот же день весь город только о ней и толковал.
«Курьер» напечатал под лирическим заголовком подробный отчет об этом свидании, хотя и не во всем совпадающий с истиной, однако настолько взволновавший умы и возбудивший такую живую любознательность читателей, что предприимчивая газета почла своей обязанностью бдительно следить за дальнейшим сближением между домами Гримбург и Шпельман. Правда, материал для сообщений у «Курьера» был довольно скудный. Раза два он отметил, что его королевское высочество принц Клаус-Генрих по окончании представления в Придворном театре, проходя по коридору бенуара, изволил остановиться у шпельмановской ложи и поздороваться с дамами. А в сообщении о костюмированном благотворительном базаре, который состоялся в середине января в большом зале ратуши, – мисс Шпельман, по настоянию комитета, согласилась участвовать в этом великосветском начинании, – немалое внимание было уделено тому моменту, когда принц Клаус-Генрих, совершая вместе с двором обход зала, остановился у киоска, где продавала фрейлейн Шпельман, купил у нее одну вещь – стеклянную вазу художественной работы, ибо фрейлейн Шпельман продавала художественные изделия из фарфора и стекла, и минут восемь, а то и все десять провел в беседе у прилавка. Содержание беседы не сообщалось, однако же она имела существенные последствия.
Весь двор, за исключением Альбрехта, появился в большом зале ратуши около полудня. А когда Клаус – Генрих возвращался в карете к себе в Эрмитаж, держа на коленях завернутую в папиросную бумагу стеклянную вазу, он успел сговориться о посещении Дельфиненорта, успел выразить желание взглянуть, как обновлен дворец, и заодно осмотреть коллекцию художественных изделий из стекла, собранную господином Шпельманом. Дело в том, что среди вещей, которые продавала мисс Шпельман, было три или четыре старинных бокала, пожертвованных ее отцом из его собственной коллекции, и как раз одну из этих вещей приобрел на благотворительном базаре Клаус – Генрих.
Он снова представлял себе, как стоит один на один с Иммой Шпельман, их разделяет прилавок, уставленный бокалами, графинами и статуэтками из бисквита и фарфора, а люди обступили их полукругом и смотрят на них. Он снова видел ее в фантастическом красном наряде из цельного куска ткани, который окутывал ее гармонично развитую и все же детскую фигурку, оставляя обнаженными смуглые плечи и руки, округлые и упругие, но по-детски тоненькие у запястья. Он видел золотое украшение, не то венок, не то диадему, в ее черных волосах, норовивших выбиться ей на лоб прямыми прядями, ее огромные черные, вопросительно блестевшие глаза на жемчужно – матовом личике и полные, мягкие губы, которые она точно балованное дитя презрительно выпячивала, когда говорила, – а кругом в большом сводчатом зале стоял запах хвои, несвязный гул: звуки музыки, удары гонга, смех и возгласы великосветских продавцов.
Он залюбовался предложенным ею благородным бокалом из старинного стекла с орнаментом в виде серебряных листьев, и она сказала, что этот бокал из коллекции ее отца.
– Значит, у вашего отца много таких великолепных вещей? – Разумеется. И, по всей вероятности, отец пожертвовал для базара не самые первоклассные экземпляры. Она позволяет себе утверждать, что у него есть бокалы значительно красивее этих. – Как бы он, Клаус-Генрих, хотел посмотреть их! – Ну что ж, это не трудно осуществить при подходящем случае, – ответила фрейлейн Шпельман своим ломающимся голосом, выпятив губы и покрутив головкой. Отец, несомненно, не будет возражать против того, чтобы настоящий знаток по достоинству оценил плоды его коллекционерских трудов. Они всегда пьют чай ровно в пять.
Она восприняла высочайшее намерение попросту, самым непринужденным образом обратив его в приглашение. А на вопрос Клауса-Генриха, какой день можно иметь в виду, ответила:
– Какой вам угодно, принц. Мы в любое время будем несказанно счастливы…
«Будем несказанно счастливы» – в этих ее словах было такое язвительно-насмешливое преувеличение, что от них становилось даже больно и трудно сохранить невозмутимый вид. Ведь как она тогда, в больнице, озадачила и обидела бедняжку старшую сестру! Но при этом в ее говоре было что-то детское, некоторые буквы звучали совсем как у детей, – и не только в тот раз, когда она утешала маленькую девочку, испугавшуюся ингалятора. И какие у нее были изумительные глаза, когда речь шла об отцах и всяких прискорбных случаях…
На следующий день Клаус-Генрих пил чай во дворце Дельфиненорт – на другой же день, назавтра. При подходящем случае, сказала Инна Шпельман. Л как раз следующий день был для него самым подходящим, да и дело представлялось ему настолько важным, что он решил не откладывать его в долгий ящик.
Около пяти часов – уже смеркалось – проехал он в своей карете по оттаявшим дорогам городского сада, оголенного и безлюдного, и вот уже карета катит через Шпельмановские владения, дуговые фонари освещают парк, большой, четырехугольный бассейн с фонтаном тускло мерцает между деревьями, а позади виднеется белеющая громада дворца, колонны портала, широкий пандус, оба крыла которого плавно поднимаются между флигелями вплоть до бельэтажа, высокие окна с частыми переплетами оконных рам, римские бюсты в нишах, – и когда Клаус-Генрих подъехал по главной аллее из гигантских каштанов, он увидел у самой нижней ступени темно-красного плюшевого негра, который стоял на страже, опираясь на булаву.
Клаус-Генрих вступил в облицованный камнем, ярко освещенный, тепло натопленный вестибюль с отливающим золотом мозаичным полом и белыми статуями богов вдоль стен и направился прямо к мраморной парадной лестнице с широкими перилами, устланной красным ковром, по которой навстречу гостю, откинув плечи и держа руки по швам, спускался пузатый и спесивый шпельмановский дворецкий во всей красе своего бритого двойного подбородка.
Он провел гостя в верхнюю аванзалу, увешанную гобеленами и украшенную мраморным камином, там два бело-золотых, отороченных лебяжьим пухом лакея взяли у принца фуражку и шинель, а дворецкий тем временем отправился самолично докладывать о нем господам… Между обоими лакеями, которые придерживали портьеры, Клаус-Генрих прошел в дверь и спустился на две-три ступени.
Навстречу ему повеял аромат растений и послышался мелодичный плеск воды; но в тот миг, когда за ним упали портьеры, внезапно раздался такой неистовый лай, что Клаус-Генрих, почти оглушенный, задержался на мгновение у нижней ступеньки. Персеваль, пес из породы колли, ринулся наперерез гостю. Казалось, ярость его не имеет пределов, он брызгал слюной, он задыхался, не знал, как дать выход разрывавшему его на части возбуждению, весь извивался, бил себя хвостом по бокам, упершись передними ногами в пол, в слепом бешенстве вертелся вокруг самого себя и словно стремился весь изойти в неистовстве и диком лае. Чей-то голос – не похожий на голос Иммы – отозвал его, и Клаус-Генрих, оглядевшись, увидел, что находится в зимнем саду, помещении, где стеклянный сводчатый потолок опирался на стройные мраморные колонны, а пол был выложен квадратными плитами из полированного мрамора. Сад был заполнен пальмами разных видов, у многих стволы и веерообразные листья подходили под самый стеклянный купол. Цветник, расположенный в форме клумбы и составленный наподобие мозаики из бесчисленных цветочных горшков, расстилался под лунньим светом дуговых ламп и насыщал воздух благоуханием. Фонтан струил серебряные ключи в мраморный водоем, и особой породы утки с редкостным оперением плавали по пронизанной светом водной глади. Задний план был занят каменной галереей с колонками и нишами.
Встретила гостя графиня Левенюль и с улыбкой склонилась перед ним.
– Благоволите простить нас, ваше королевское высочество, – сказала она. – Наш Перси такой раздражительный. А тут еще он отвык от общества. Но он никогда не причиняет зла. Осмелюсь просить ваше королевское высочество… Фрейлейн Шпельман сейчас возвратится. Она только что была здесь. Ее позвали. Отец прислал за ней. Мистер Шпельман будет очень счастлив…
И она направилась с Клаусом-Генрихом к гарнитуру плетеной мебели с вышитыми полотняными подушками, расставленному перед группой пальм. Графиня говорила громко и оживленно, склонив набок небольшую голову с жиденькими пепельными волосами, расчесанными на пробор, и показывая в улыбке белые зубы. У графини был положительно элегантный вид в этом облегающем фигуру коричневом платье, а когда она, весело потирая руки, подвела Клауса-Генриха к плетеным креслам, у нее явно проявились энергичные и изящные повадки полковой дамы. Только» глазах, из-за прищуренных век, мерцало что-то загадочное, не то коварство, не то недоверие.
Они уселись друг против друга перед круглым садовым столиком, на котором лежали книги. Истомленный только что перенесенным приступом ярости, Персеваль свернулся как улитка на узком, переливчатом ковре блеклых тонов, на котором была расставлена мебель. Шерсть у Перси была черная, шелковистая, только лапы, грудь и морда – белые. И вокруг шеи белое жабо, глаза золотистые и пробор вдоль всей спины. Клаус-Генрих начал разговаривать разговора ради, поддерживать светскую, бессодержательную беседу, ибо иначе он не умел.
– Надеюсь, графиня, я не помешал. Во всяком случае, я счастлив, что имею оправдание для своего г. торжения. Не знаю, говорила ли вам фрейлейн Шпельман… Ее любезное приглашение придало мне смелости. Между нами зашла речь о прекрасных бокалах, которые господин Шпельман с присущей ему щедростью пожертвовал для вчерашнего базара. Фрейлейн Шпельман высказалась в том смысле, что ее отец согласится показать мне свою коллекцию. Вот я и пришел…
Графиня оставила открытым вопрос о том, говорила ли ей что-нибудь Имма, и сказала:
– В это время мы всегда пьем чай. И вы, ваше королевское высочество, никак не могли помешать нам. Даже в том случае, если бы, паче чаяния, самочувствие не позволило мистеру Шпельману спуститься…
– Ах, вот как! Он нездоров? – В сущности, Клаус – Генрих даже предпочел бы, чтобы мистер Шпельман не мог спуститься. Он ждал этой встречи с неопределенным беспокойством.
– Сегодня он, к сожалению, с самого утра нездоров, ваше королевское высочество. Его знобило, у него был жар и даже легкий приступ дурноты.
Доктор Ватерклуз долго пробыл у него и сделал ему впрыскивание морфия. Говорят, что, пожалуй, придется прибегнуть к операции.
– Я очень сочувствую ему, – искренне сказал Клаус-Генрих. – Как это страшно – операция.
А графиня, рассеянно глядя куда-то вдаль, ответила:
– О да. Но в жизни есть и кое-что пострашнее – многое в жизни страшнее этого.
– Бесспорно, – сказал Клаус-Генрих. – Не сомневаюсь. – Слова графини породили в его уме какие-то обобщенные, неоформленные представления.
Графиня посмотрела на него, склонив голову набок, и лицо ее выразило презрение. А затем устремила свои серые глаза с чуть припухшими веками куда-то в сторону, неизвестно куда, и на губах ее появилась уже знакомая Клаусу-Генриху загадочная улыбка, в которой было что-то странно манящее.
Он почувствовал, что необходимо возобновить разговор.
– Давно вы уже живете в семействе Шпельман, графиня? – спросил он.
– Порядочно, – ответила она, и видно было, что она пытается подсчитать. – Порядочно. Я столько пережила, столько выстрадала, что не могу, разумеется, сказать совершенно точно. Но это было вскоре после благодати, после того как меня осенила благодать.
– Благодать? – переспросил Клаус-Генрих.
– Ну, да, – уверенно и даже с раздражением подтвердила она. – Благодать снизошла на меня, когда мера испытания достигла предела и, говоря иносказательно, тетива вот-вот могла порваться. Вы так еще молодьг, – продолжала она, по рассеянности забыв даже титуловать его, – так неискушены в горестях и пороках нашего мира, что даже и вообразить себе не можете, сколько я перестрадала. В Америке у меня был судебный процесс, на который вызвали многих генералов. Тут обнаружились такие дела, что моей философии на это не хватило. Мне пришлось наводить порядок во всех казармах и все-таки не удалось до конца очистить их от распутных баб. Те и по шкафам попрятались, некоторые даже под пол забрались, и потому-то они каждую ночь нещадно терзают меня. Я бы без промедления удалилась в мои бургундские замки, если бы там не протекали крыши. Шпельманы об этом знали и были так любезны, что временно приютили меня, причем единственная моя обязанность – предупреждать против козней света совершенно неискушенную Имму. Разумеется, здоровье мое терпит большой ущерб оттого, что эти распутницы садятся по ночам мне на грудь и я вынуждена наблюдать их непристойные гримасы. Вот причина, по которой я и прошу называть меня просто фрау Мейер, – шепотом добавила она, нагнувшись к Клаусу-Генриху и дотронувшись рукой до его рукава. – У стен есть уши, и я поневоле вынуждена была принять инкогнито и хранить его, чтобы избавиться от преследования этих развратных тварей. Скажите, вы ведь исполните мою просьбу? Ну, смотрите на это как на шутку… на безобидную игру… Право же…
Она замолчала.
Клаус-Генрих сидел прямо, в чопорной позе, на плетеном стуле и не спускал глаз с графини. Прежде чем покинуть свои строгие ампирные апартаменты, он при помощи камердинера Неймана совершил туалет с той тщательностью, какой требовало его протекавшее у всех на виду существование. Пробор начинался над левым глазом и шел наискось до самой макушки, так что там наверху не только что прядка, даже волосок не топорщился, а справа волосы были зачесаны над лбом компактной волной. В плотно прилегающем форменном сюртуке с высоким стоячим воротником, что способствовало строгой выправке, с майорскими эполетами из серебряной канители на узких плечах, сидел он, слегка прислонясь к спинке стула, но не позволяя себе ни малейшей поблажки, весь собранный, подтянутый, одна нога чуть выдвинута вперед, а левая рука прикрыта правой на эфесе сабли. На его юном лице бессодержательная, одинокая, строгая и трудная жизнь оставила следы усталости; однако он смотрел в лицо графине с приветливым, ясным и неуклонно сдержанным выражением.
Она замолчала. Разочарование и скорбь отразились на ее лице, в утомленных бессонницей серых глазах промелькнуло что-то похожее на ненависть, и в окраске лица произошла удивительная перемена, одна половина его вспыхнула, другая побледнела. Опустив ресницы, графиня ответила:
– Я живу в семействе Шпельман три года, ваше королевское высочество.
Персеваль вдруг так и взвился. Приплясывая, виляя, пружинящей рысью устремился он навстречу своей хозяйке, величаво встал на задние лапы, когда Имма Шпельман вошла в зимний сад, и в знак приветствия положил передние лапы ей на грудь. Пасть его была открыта, между крепкими белыми зубами высовывался кроваво-красный язык. В такой позе он напоминал геральдического зверя.
Она была чудесно одета: в домашнем платье из кирпичного шелка-сырца, рукава свободно свисающие, разрезные, и во всю грудь вставка из тяжелой золотой вышивки. Большой яйцевидный драгоценный камень на жемчужной цепочке украшал ее обнаженную шею, по цвету схожую с обкуренной морской пенкой. Иссиня-черные волосы, зачесанные на косой пробор и закрученные простым узлом, норовили упасть прямыми прядями на лоб и на виски. Обхватив седовласую голову Персеваля своими красивыми по-детски тоненькими пальчиками без колец, она сказала, наклонившись к самой его морде:
– Ну… ну… здравствуй, дружок. Что за встреча! Мы истосковались оба, изныли в разлуке. Здравствуй, здравствуй! А теперь ступай на свое место. – Она сняла его лапы с золотой вышивки на своей груди и отступила в сторону, чтобы он стал на все четыре ноги.
– Ах, принц! Добро пожаловать в Дельфиненорт, – сказала она. – Я вижу, вам претит нарушать слово. Посидим тут. Нас позовут к чайному столу… Должно быть, я поступила против всяких правил, заставив себя ждать. Но меня позвал отец, а вас пока что занимали беседой. – Ее блестящие глаза с некоторым сомнением поглядывали попеременно на Клауса – Генриха и на графиню.
– Да, мы побеседовали, – ответил он, затем задал вопрос о самочувствии мистера Шпельмана и получил удовлетворительный ответ. Мистер Шпельман будет иметь удовольствие познакомиться с Клаусом – Генрихом за чаем, а пока просит извинить его… Что это за прелестная пара лошадей запряжена в карету Клауса-Генриха?
И они заговорили о своих любимых лошадях, о добродушном гнедом Флориане Клауса-Генриха, выращенном на Голлербруниском конном заводе удельного ведомства, об Имминой арабской кобыле Фатьме, белой, как кипень, которую мистер Шпельман получил в подарок от одного восточного властителя, о резвых венгерских рыжих, которых для фрейлейн Шпельман запрягали четверкой…
– Ас окрестностями вы познакомились? – спросил Клаус-Генрих. – Побывали уже в великогерцогском охотничьем заповеднике? В саду Фазанника? Тут много приятных прогулок.
Нет, фрейлейн Шпельман на редкость не способна находить новые места, а о графине и говорить нечего, – ей по натуре чужда всякая предприимчивость. Потому-то они и облюбовали для верховых прогулок все те же дорожки городского сада. Пожалуй, это скучновато, но фрейлейн Шпельман вообще не избалована новизной и занимательными приключениями. Тогда он сказал, – что им следует как-нибудь в хорошую погоду проехаться в охотничий заповедник или в замок Фазанник, на что она, выпятив губки, ответила, что это, пожалуй, можно на всякий случай иметь в виду. Но тут появился дворецкий и торжественно возвестил, что чай подан.
Они прошли через увешанную гобеленами аванзалу с мраморным камином, впереди важно выступал butler, рядом, приплясывая, бежал Перси, а замыкала шествие графиня Левенюль.
– Графиня, должно быть, наболтала вам невесть чего? – на ходу спросила Имма, даже не понижая голоса.
Клаус-Генрих испуганно опустил глаза.
– Ведь она может услышать! – шепотом проговорил он.
– Нет, она не слушает, – ответила Имма, – я научилась читать по ее лицу. Когда она так вот наклоняет голову и щурит глаза – значит, она вне жизни и поглощена своими мыслями. Но все-таки она успела вам наболтать?
– Слегка, – признался Клаус-Генрих. – У меня создалось впечатление, что графиня по временам дает волю свой фантазии.
– Она очень много выстрадала. – При этом Имма посмотрела на него испытующим взглядом больших черных глаз, как смотрела на каждом шагу в Доротеинской больнице. – Я расскажу вам в другой раз. Это целая история.
– Да, – подхватил он. – В другой раз. В следующий раз. Скажем, по дороге.
– По дороге?
– Ну да, по дороге в охотничий заповедник или в Фазанник.
– Ах, я и забыла, как добросовестно выполняете вы то, о чем уговариваетесь. Хорошо, пусть будет по дороге. Здесь ступеньки вниз.
Они очутились в задней части дворца. Из галереи, сплошь завешанной большими картинами, несколько устланных ковром ступенек вели вниз, в белую с позолотой боскетную, высокая стеклянная дверь которой выходила на террасу. Все здесь – и большая хрустальная люстра, висевшая посреди белого лепного потолка, и симметрично расставленные золоченые кресла с затканной цветами обивкой, и белые шелковые драпировки, падающие тяжелыми складками; и помпезные стоячие часы, и вазы, и золоченые-шандалы на белой мраморной доске камина перед высоким стенным зеркалом; и огромные позолоченные канделябры на львиных лапах, возвышавшиеся по обе стороны входной двери, – словом, все напоминало Клаусу-Генриху парадные покои Старого замка, где он с детских лет привык нести службу, только здесь свечи были поддельные с излучающими золотистый свет электрическими лампочками вместо фитилей, и все у Шпельманов во дворце Дельфиненорт было в прекрасном состоянии и блистало новизной. Отороченный лебяжьим пухом лакей заканчивал в одном из углов комнаты сервировку чайного стола; Клаус-Генрих остановил взгляд на самоваре, нагревавшемся электричеством, о котором прочел в «Курьере».
– Господину Шпельману доложили? – спросила молодая хозяйка дома.
Дворецкий утвердительно склонил голову.
– Значит, ничто не мешает нам сесть за стол и приступить к чаепитию без отца, – с нарочитой высокопарностью заявила она. – Идемте, графиня! А вам, принц, я бы посоветовала снять оружие, если только этому не препятствуют причины, не доступные моему пониманию…
– Благодарю, – ответил Клаус-Генрих. – Этому ничто не препятствует. – У него сжалось сердце от досады на неумение найти более меткий ответ.
Лакей взял у него саблю и унес куда-то через галерею. Они уселись за чайный стол при содействии дворецкого, который придерживал кресла за спинки и пододвигал их. А затем отошел и в декоративной позе замер на самой верхней ступеньке.
– Надо вам сказать, принц, – начала фрейлейн Шпельман, наливая кипяток из самовара, – что отец пьет чай только, когда я сама приготовляю его. Он относится недоверчиво к чаю, который подают разлитым по чашкам. У нас это возбраняется. И вам придется примириться с этим.
– О, так еще приятнее, – возразил Клаус-Генрих, – так вот за семейным столом чувствуешь себя гораздо уютнее и непринужденнее… – Он оборвал фразу, недоумевая, почему графиня Левенюль искоса метнула на него враждебный взгляд. – Смею осведомиться, как идут ваши занятия, мадемуазель? – спросил он. – Я слышал, вы изучаете математику? Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для головы?
– Ничуть, – ответила она. – Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, паришь в воздухе или даже в безвоздушном пространстве. Никакой пыли там нет. И веет свежестью, как в Адирондаксе…
– Где?
– В Адирондаксе. Это из области географии, принц. Лесистые холмы и очаровательные озера там, за океаном. У нас в Адирондаксе вилла, где мы проводили май месяц. На лето мы всегда уезжали к морю.
– Как бы то ни было, я могу засвидетельствовать, сколь ревностно вы относитесь к науке, – сказал он. – Вы не терпите помех на своем пути, когда спешите на лекцию. Кстати, я не спросил, поспели вы тогда вовремя?
– Когда?
– Ну, несколько недель назад. После задержки у кордегардии.
– Ах, господи, и вы о том же, принц! Об этой истории, по-видимому, толкуют и во дворце и в хижине. Знай я, какой из-за этого поднимут шум, я бы лучше три раза обошла вокруг Замковой площади. Говорят, об этом даже в газете писали. Немудрено, если весь город считает меня теперь каким-то исчадием ада, не знающим удержу. А в действительности я самое миролюбивое существо на свете и только не люблю, когда мною командуют. Графиня, скажите прямо – я, по-вашему, исчадие ада?
– Нет, вы добрая, – ответила графиня Левенюль.
– Ну – добрая, слишком сильно сказано, это уже перегиб в другую сторону…
– Нет, поспешил вставить "Клаус-Генрих, – нет, не перегиб. Я твердо верю графине…
– Весьма лестно. А как же вы, ваше высочество, узнали об этом приключении? Из газеты?
– Я сам был очевидцем, – ответил Клаус – Генрих.
– Очевидцем?
– Да, мадемуазель. Я случайно очутился у окна офицерской караульни и собственными глазами видел все от начала до конца.
Фрейлейн Шпельман покраснела. Да, ошибки быть не могло жемчужная белизна ее своеобразного личика приняла более яркую окраску.
– Что ж, готова допустить, что у вас в ту минуту не было лучшего занятия, принц, – сказала она.
– Лучшего? – воскликнул он. – Да ведь это было чудесное зрелище! Клянусь, мадемуазель, никогда в жизни я не…
Персеваль все время лежал подле фрейлейн Шпельман, грациозно скрестив передние лапы, а тут вдруг он поднял голову с напряженно сосредоточенным видом и принялся бить хвостом по ковру. В тот же миг зашевелился и дворецкий. Стремительно, насколько позволяла ему дородность, сбежал он по ступенькам, направился к высокой боковой двери, напротив чайного стола, и быстро подхватил шелковую драпировку, величественно вздернув при этом свой двойной подбородок. В гостиную вошел Самуэль Шпельман, миллиардер.
У него была пропорциональная фигура и необычный склад лица. Между гладко выбритыми щеками, на которых горели лихорадочные пятна, выдавался крупный и очень прямой нос, а близко посаженные круглые глазки неопределенного цвета, но очень блестящие, как у маленьких детей или животных, глядели рассеянно и сердито. Со лба шла большая лысина, но на затылке и на висках росло еще много седых волос, которые господин Шпельман носил не по-нашему, ие короткими и не длинными, а пышно зачесанными вверх; только сзади они были подстрижены! и выбриты вокруг ушей. Рот у него был небольшой, изящно очерченный. Одет он был в черный долгополый сюртук с бархатным жилетом, на котором змеилась длинная тонкая старомодная цепочка, на маленьких ножках – мягкие кожаные башмаки; озабоченно насупившись, быстро направился он к чайному столу, но лицо у него радостно просветлело и смягчилось, как только он увидел дочь. Имма пошла ему навстречу.
– Здравствуй, достопочтенный папочка, – сказала она и, обвив его шею смуглыми полудетскими руками, выступавшими из разрезных кирпичных шелковых рукавов, она поцеловала его в лысину, которую он подставил ей, пригнув голову.
– Надо надеяться, ты осведомлен, что сегодня с нами пьет чай принц Клаус-Генрих? – продолжала она.
– Нет, рад, очень рад, – скороговоркой скрипучим голосом произнес господин Шпельман. – Прошу вас, не беспокойтесь! – так же скороговоркой добавил он.
Пожимая своей худощавой, наполовину прикрытой некрахмальной манжетой рукой руку принцу, который стоял в строго официальной позе у стола, господин Шпельман несколько раз мотнул головой куда-то вбок. Вот каким образом приветствовал он Клауса-Генриха. Но он был иностранец, человек больной и поставленный в особое положение своим богатством. Все чудачества надо прощать ему заранее – Клаус-Генрих это понимал и добросовестно старался совладать с собственной растерянностью.
– …должны по праву чувствовать себя почти дома, – добавил господин Шпельман, проглотив титул, и на его бритых губах мелькнула злобная усмешка. Затем он сел за стол, чем подал пример остальным. Дворецкий подвинул ему стул между Иммой и Клаусом-Генрихом напротив графини и дверей на террасу.
Так как господин Шпельман явно не собирался извиняться за свое опоздание, Клаус-Генрих сказал:
– Я с сожалением услышал, что вам сегодня было нехорошо, господин Шпельман. Надеюсь, сейчас вам лучше?
– Спасибо, лучше, но не вполне хорошо, – скрипучим голосом ответил господин Шпельман. – Сколько ложек ты насыпала? – спросил он у дочери; он имел в виду, сколько ложек чаю она заварила.
Она успела налить ему чай.
– Четыре, – ответила она. – По одной на каждого. Никто не посмеет сказать, что я держу своего старенького папочку в черном теле.
– Что такое? Вовсе я не старый, – возразил господин Шпельман. – Не худо бы тебе подрезать язычок. – И он взял из серебряной вазочки какое-то печенье, по-видимому приготовленное специально для него, отломил кусочек и сердито окунул его в золотистый чай, а чай он пил, как и дочь, без сливок и сахара.
Клаус-Генрих возобновил разговор:
– Я предвкушаю удовольствие от осмотра вашей коллекции, господин Шпельман.
– Да, верно, – ответил Шпельман. – Интересуеюсь бокалами. Тоже любитель? А может, и коллекционер?
– Нет, до коллекционерства при всем своем интересе я еще не дошел, – сказал Клаус-Генрих.
– Времени нет? – спросил господин Шпельман. – Разве офицерская служба отнимает много времени?
– Я больше не несу службы, господин Шпельман. Я оставлен при моем полку и сохранил его мундир, вот и все.
– Ну да, для виду, – скрипуче протянул Шпельман. – А что ж вы делаете целый день?
Клаус-Генрих перестал пить чай и отодвинул чашку, потому что этот разговор требовал от него сугубого внимания. Он сидел выпрямившись и держал ответ, чувствуя на себе испытующий взгляд больших черных глаз Иммы Шпельман.
– Я исполняю определенные обязанности при дворе во время торжеств и церемоний. Я представительствую также в военном ведомстве при приведении к присяге рекрутов и освещении знамени. Затем я заменяю моего брата, великого герцога, на приемах. Добавьте к этому обязательные поездки в ближние города нашей страны на открытия, освящения и прочие общественные празднества.








