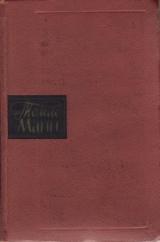
Текст книги "Королевское высочество"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Томас Манн
Королевское высочество
ПРОЛОГ
Действие происходит на Альбрехтсштрассе, столичной магистрали, соединяющей Альбрехтсплац и Старый замок с казармой гвардейских стрелков, – в дневные часы, среди недели, безразлично в какое время года. День не плохой и не хороший. Дождя нет, но небо не безоблачно; оно серенькое, будничное, скучное, на улице все так обыденно и тускло, даже помыслить о чем-либо таинственном и сверхъестественном невозможно. Движение не слишком оживленное, без особого шума и толчеи, что вполне отвечает неделовому характеру города. Пробегают трамваи, катятся извозчичьи пролетки, по тротуару снует народ, бесцветная толпа, прохожие, обыватели, простолюдины… Заложив руки в прорезанные наискось карманы серых шинелей навстречу друг другу идут двое военных: генерал и лейтенант. Генерал приближается со стороны замка, лейтенант – со стороны казармы. Лейтенант – еще желторотый юнец, почти подросток, узкоплечий, темноволосый, скуластый, как многие уроженцы этого края, синие глаза глядят немного устало, на мальчишеском лице приветливое, но замкнутое выражение. Генерал – фигура в высшей степени внушительная, белый как лунь, рослый и дородный. Брови – словно клочья ваты, а пышные усы прикрывают губы и даже подбородок. Поступь у него неторопливая, сабля бряцает об асфальт, плюмаж развевается на ветру, широкий красный лацкан шинели отлетает при каждом шаге. Так они приближаются друг к другу. Может ли из этого получиться какая-нибудь неувязка? Ни в коем случае. Для каждого наблюдателя естественный исход их встречи предрешен. Здесь налицо взаимоотношение между старцем и юношей, начальником и подчиненным, маститым служакой и зеленым новичком. Здесь налицо огромная дистанция в чинах, все здесь предусмотрено строгими предписаниями. Пусть же вступит в действие естественный порядок вещей! А что происходит на деле? На деле совершается нечто неожиданное, тягостное, чудесное и несуразное. Узрев юного лейтенанта, генерал сразу же удивительным образом меняется. Он вытягивается в струнку и вместе с тем становится как будто меньше. Он спешит, так сказать, умерить важность своей стати, он сдерживает бряцание сабли, лицо у него принимает строгое и напряженное выражение, он явно теряется, не знает, куда смотреть, и, чтобы скрыть это, устремляет взгляд из-цод ватных бровей куда-то вкось на асфальт. Да если присмотреться, видно, что юному лейтенанту тоже не по себе, но, как ни странно, он держится непринужденнее и лучше владеет собой, нежели седовласый командир. Стиснутые губы складываются в скромную и одновременно милостивую улыбку, а глаза, как будто без малейшего усилия, спокойно и уверенно смотрят пока что мимо генерала, в пространство. Вот они уже в трех шагах друг от друга. И вместо того чтобы отдать по уставу честь, юнец-лейтенант слегка откидывает голову, вынимает из кармана правую руку – почему-то одну только правую – и этой затянутой в белую перчатку правой рукой делает легкий ободряюще-благосклонный жест, иначе говоря, лишь приподымает ее ладонью вперед и чуть раздвигает пальцы; но генерал, держа руки по швам, только и ждал этого знака, теперь он вздергивает руку к каске, с полупоклоном отступает в сторону, как бы очищая дорогу, и снизу вверх приветствует лейтенанта, а сам при этом багровеет и смотрит на него благоговейно увлажненным взором. Тут и лейтенант, приложив руку к фуражке, отвечает на отданную начальником честь, отвечает, приветливо просияв всем своим ребяческим лицом, отвечает и идет дальше.
Чудеса! Неслыханное дело! Он идет дальше. На пего смотрят, а он не смотрит ни на кого, он смотрит вперед, поверх толпы, взглядом дамы, которая знает, что ею интересуются. Его приветствуют, а он кивает в ответ, ласково и все же свысока. Ходит он как-то неловко, кажется, будто он не привык ходить пешком или смущен всеобщим вниманием, – слишком уж нетверды и робки его шаги, временами кажется даже, что он прихрамывает.
Полицейский становится во фронт, вышедшая из магазина нарядная дама с улыбкой низко приседает. Прохожие оглядываются ему вслед, кивком указывают на него, подымают брови и шепотом произносят его имя.
Это Клаус-Генрих, младший брат Альбрехта II и наследник престола. Еще виднеется его удаляющаяся фигура. Всем знакомый и все же отчужденный, проходит он среди людей, и даже в самой гуще кажется, будто его окружает пустота; он проходит, одинокий, неся на узких плечах бремя своего высокого сана.
ОСЛОЖНЕНИЕ
Столица пушечными выстрелами приветствовала переданное всеми современными способами известие о том, что в Гримбурге великая герцогиня Доротея вторично разрешилась от бремени сыном. Над городом и окрестностями прогремело семьдесят два выстрела, произведенных войсками с вала «Цитадели». Вслед за тем и пожарная команда, чтобы не отстать, начала пальбу из старинных пушек; длинные паузы между залпами немало распотешили обывателей.
Замок Гримбург расположен на лесистом холме над живописным городком, который носит то же название и отражает свои покатые шиферные кровли в омывающем его рукаве реки; от столицы до него полчаса езды по нерентабельной пригородной железнодорожной ветке. Стоящий на холме замок был на страх врагам отстроен в смутные годы маркграфом Клаусом-Гримбартом, родоначальником правящей династии, и не раз с тех пор обновлялся и снабжался удобствами, соответствующими каждой новой эпохе, всегда поддерживался в пригодном к приему своих обитателей состоянии и был особо чтим как родовое гнездо царствующей фамилии и колыбель ее отпрысков. Ибо согласно династическому закону и обычаю все прямые потомки Гримбарта, все дети царствующей в данное время четы должны рождаться на свет в этом замке. Пренебрегать такой традицией не полагалось. Страна видывала и просвещенных и вольнодумствующих монархов, которые смеялись над этим правилом и все же, пожимая плечами, подчинялись ему. А теперь уж поздно было от него отступать. Зачем без надобности нарушать почтенный обычай, пускай даже неразумный и отживший, когда он в известной мере оправдал себя? В народе укрепилась вера, что это все не зря. Дважды на протяжении пятнадцати поколений дети правящих государей в силу случайности появлялись на свет в других замках… И что же – оба умерли неестественной и недостойной смертью. Но, начиная с Генриха Смиренного и Иоганна Жестокого, а также их прекрасных и горделивых сестер вплоть до Альбрехта, отца нынешнего великого герцога, и до самого Иоганна-Альбрехта III, все властители страны, их братья и сестры рождались только здесь, и здесь же шесть лет назад Доротея произвела на свет первого своего сына, наследника великогерцогского престола…
К тому же родовой замок был не только величественным, но и мирным пристанищем. Летом его предпочитали даже чопорно-нарядному Голлербрунну за прохладу покоев и пленительно-тенистые окрестности. Живописен, хоть и не очень удобен был подъем к замку от городка, по вымощенной грубым булыжником улице между убогими домишками и облупленной крепостной стеной, через широкие ворота до старинного погребка и постоялого двора у входа на замковую площадь, посреди которой стояла каменная статуя Клауса-Гримбарта, строителя замка. На противоположном склоне был разбит обширный парк, откуда пологие дороги вели вниз в поросшую лесом, слегка холмистую местность, располагающую к уединенной прогулке пешком и катанию в экипаже.
Внутри же замок в самом начале правления Иоганна-Альбрехта III заново роскошно отделали, с затратой больших средств, что вызвало немало толков. Убранство апартаментов освежили, сохранив стиль рыцарских времен, но придав им уют, гербы на каменных плитах «Судебного зала» были в точности воссозданы по образцу старых. Замысловато и многообразно переплетенные крестовые своды заблестели свежей позолотой, во всех комнатах появились паркетные полы, а большой и малый банкетные зальг были украшены фресками во всю стену, выполненными кистью академика живописи фон Линдемана. Эпизоды из истории правящей династии были исполнены в декоративной и прилизанной манере, далекой и чуждой беспокойным порывам позднейших направлений. В замке было предусмотрено решительно все. Вместо неудобных старинных каминов и круглых печей из пестрого изразца, ярусами поднимавшихся к потолку, устроили даже отопление углем, чтобы в случае чего там можно было пожить и зимой.
Но в тот день, когда был дан салют семьюдесятью двумя выстрелами, стояла самая лучшая пора поздней весны или раннего лета, начало июня – духов день. Получив рано утром телеграмму, что роды начались на рассвете, Иоганн-Альбрехт прибыл в восемь часов по нерентабельной пригородной ветке на станцию Гримбург, где был встречен тремя-четырьмя местными должностными лицами – бургомистром, судьей, пастором и врачом, – сел, напутствуемый их пожеланиями, в коляску и незамедлительно направился в замок. Великого герцога сопровождали первый министр, доктор прав барон Кнобельсдорф и генерал-адъютант генерал-от-инфантерии граф Шметерн. Немного погодя в герцогский родовой замок прибыл еще кое-кто из министров, придворный проповедник, президент консистории доктор богословия Визлиценус, несколько придворных и свитских чинов и сравнительно еще не старый адъютант, капитан фон Лихтерло. Хотя при роженице находился великогерцогский лейб-медик в чине полковника, доктор Эшрих, Иоганну Альбрехту вздумалось взять с собой в замок доктора Плюша, молодого местного врача, к тому же еврейского происхождения. Скромный и серьезный труженик, заваленный работой, не ожидал такой чести и в растерянности залепетал в ответ на приглашение:
– С удовольствием… С удовольствием… – чем вызвал улыбки окружающих.
Спальней великой герцогине служил «брачный покой», пятиугольная, пестро расписанная комната, расположенная во втором этаже, из ее парадного высокого окна открывался великолепный вид на дальние леса, холмы и излучины реки, а по карнизу шли медальоны с портретами августейших невест, которые в стародавние времена ожидали здесь супруга и повелителя. В этой комнате и лежала Доротея; к изножию кровати была привязана широкая и крепкая тесьма, за которую великая герцогиня держалась, как играющий в лошадки ребенок, и ее красивое пышное тело напрягалось в потугах. Врач – акушерка госпожа Гнадебуш, ученая и участливая женщина с маленькими нежными ручками и карими глазами, которым толстые, круглые стекла очков придавали загадочный блеск, увещевала монархиню.
– Крепитесь, крепитесь, ваше королевское высочество… Скоро кончится… Все идет как по маслу… «Второй раз куда легче… Благоволите раздвинуть ноги… и подбородком упирайтесь в грудь.
Сиделка, как и акушерка, вся в белом, тоже старалась помочь роженице, а в промежутках между схватками неслышно сновала взад-вперед с тазами и полотенцами. За разрешением от бремени надзирал лейб-медик, мрачный мужчина с седеющей черной бородой и опущенным, словно парализованным левым веком. Поверх полковничьего мундира на нем был операционный халат. Время от времени в опочивальню посмотреть, как подвигаются роды, наведывалась приближенная Доротеи, обергофмейстерина, баронесса фон Шуленбург-Трессен, тучная, страдающая одышкой дама с наружностью добродетельной мещанки, что не мешало ей на придворных балах обнажать свою необъятную грудь. Поцеловав руку повелительницы, она возвращалась в дальнюю комнату, где несколько сухопарых фрейлин болтали с дежур* ным камергером великой герцогини, графом Виндиш. Доктор Плюш, накинувший на фрак белый халат, как маскарадное домино, стоял возле умывальника со скромным и внимательным видом.
Иоганн-Альбрехт пребывал в сводчатой комнате, располагавшей к трудам и раздумью и отделенной от брачного покоя только так называемой куаферной и приемной. Эта комната именовалась библиотекой из-за нескольких рукописных фолиантов, наклонно стоявших на огромном шкафу и заключавших в себе историю замка. Обстановка в комнате была кабинетная, стенной фриз украшали глобусы.
В раскрытое сводчатое окно дул порывистый ветер горных высот. Великий герцог приказал подать чаю. Камердинер Праль сам сервировал его; но чай стоял забытый на доске секретера, а Иоганн-Альбрехт в тягостном возбуждении непрерывно ходил из угла в угол. Каждый его шаг сопровождался монотонным поскрипыванием лакированных сапог. Флигель-адъютант фон Лихтерло, томясь в полупустой приемной, прислушивался к этому скрипу.
Министры, генерал-адъютант, придворный проповедник и свитские господа, всего человек десять, ожидали в парадных апартаментах, расположенных в бельэтаже. Они бродили по большому и малому банкетным залам, где простенки между Линдемановскими картинами были декорированы знаменами и оружием, они стояли, прислонясь к тонким пилонам, которые развертывались над их головами в пестро расписанные своды; они подходили к узким, высоким, под потолок, окнам со свинцовыми переплетами и смотрели на реку и на городок; они присаживались на каменные скамьи, идущие вдоль стен, или на кресла перед каминами, готические колпаки которых, согнувшись, поддерживали несоразмерно маленькие, уродливые каменные карлики. В солнечных лучах весело блестело шитье саковничьего мундира, орденские звезды на подбитой ватой груди колесом и широкие золотые лампасы на брюках.
Разговор не клеился. То и дело кто-нибудь прикрывал треуголкой или затянутой в белую перчатку рукой судорожно разевающийся рот. Почти у всех на глазах стояли слезы. Многие не успели позавтракать. Кое-кто от нечего делать опасливо разглядывал операционный инструментарий и круглый сосуд с хлороформом в кожаном футляре, которые лейб-медик Эшрих на всякий случай держал здесь наготове. Обергофмаршал фон Бюль цу Бюль, дородный мужчина с вкрадчивыми жестами, каштановым париком, с пенсне в золотой оправе и длинными желтыми ногтями, успел обычной отрывистой скороговоркой рассказать целую серию анекдотов и теперь расположился в креслах, чтобы воспользоваться своей способностью дремать не закрывая глаз, – с застывшим взором и достойным видом утратить представление о времени и пространстве, ни на йоту не оскорбляя то высокое место, в котором он обретался.
У доктора фон Шредера, министра финансов и земледелия, в этот день состоялась беседа с первым министром доктором прав бароном Кнобельсдорфом, министром внутренних и иностранных дел, а также министром великогерцогского двора. Это была бессвязная болтовня. Сперва они обмолвились несколькими словами об искусстве, перешли на финансовые и экономические вопросы, довольно нелестно отозвались об одном придворном сановнике и коснулись самих августейших особ. Разговор завязался в тот миг, когда господа министры, заложив за спину руку с треуголкой, остановились перед одной из картин в большом банкетном зале; в беседе подразумевалось гораздо больше, чем высказывалось.
– А тут? Что тут изображено? – спросил министр финансов. – Вы ведь сведущи во всем этом, ваше превосходительство…
– Весьма поверхностно. Здесь римский император жалует ленными владениями своих племянников, юных принцев, отпрысков правящей династии. Видите, ваше превосходительство, оба августейших юноши преклонили колена и приносят торжественную присягу на мече императора.
– Великолепно, поистине великолепно! Какие краски! Блистательно! У принцев чудесные золотые кудри! А император… просто загляденье! Да, Линдеман заслужил те почести, которые ему расточают.
– Те, что ему расточают, бесспорно заслужил.
Высокий господин с белой бородой, в изящных золотых очках на белом носу, с небольшим брюшком, выпирающим прямо из-под груди, и с дряблой шеей, складками нависшей на расшитый стоячий воротник вицмундира, доктор фон Шредер, все еще смотрел на картину, но уже неуверенным взглядом, в душу к нему закралось сомнение, нередко овладевавшее им во время разговора с бароном. Кто его разберет, этого Кнобельсдорфа, этого фаворита, облеченного высшей властью… Подчас в его замечаниях, в его ответах чувствуется неуловимая насмешка… Он много путешествовал, изъездил весь земной шар, образование у него самое разностороннее, а взгляды чересчур уж своеобразны и независимы. Однако держится он вполне корректно. Господин фон Шредер не мог до конца понять его. При всей общности воззрений, полного единодушия с ним не получалось. В высказываниях его всегда чувствовались скрытые недомолвки, в своих суждениях он обнаруживал такую терпимость, что невольно думалось: руководит ли им чувство справедливости или пренебрежение? Но подозрительнее всего была его улыбка, губы в ней не участвовали, одни глаза, в углах которых появлялись лучики, а может быть, наоборот-морщины постепенно сложились в лучики именно благодаря этой улыбке… Барон Кнобельсдорф был моложе министра финансов, мужчина в цвете лет, хотя в его закрученных усах и расчесанных на прямой пробор волосах уже пробивалась седина, – вообще же сложения он был коренастого, с короткой шеей, и воротник сплошь расшитого придворного мундира явно стеснял его. Выждав, когда господин фон Шредер окончательно впал в растерянность, он продолжал:
– Но, пожалуй, для рачительного придворного финансового ведомства было бы выгоднее, чтобы великий муж довольствовался преимущественно орденами и титулами, а не… скажем без обиняков, во что, по-вашему, стало это милое произведение искусства?
Господин фон Шредер встрепенулся. Стремление и надежда найти с бароном общий язык, несмотря пи на что добиться взаимного доверия и дружеского единомыслия воодушевили его.
– Вполне с вами согласен! – подхватил он, поворачиваясь, чтобы возобновить прогулку по залам. – Вы, ваше превосходительство, предупредили мой вопрос. Сколько уплачено за это «Пожалование»? А за остальные живописные красоты здесь на стенах? Недаром же реставрация замка обошлась шесть лет назад in summa[1]1
В сумме (лат.).
[Закрыть] в миллион марок.
– Подсчет весьма приблизительный!
– Точнехонький! И эта сумма проверена и утверждена обергофмаршалом фон Бюль цу Бюлем, который у нас за спиной предается своей блаженной летаргии. Она проверена, утверждена и погашена придворным финанц-директором графом Трюммергауфом…
– Либо погашена, либо записана в долг.
– Не все ли равно!.. Так вот, эта сумма передана к уплате в кассу… в ту кассу…
– Короче говоря, в кассу управления великогерцогским имуществом.
– Ваше превосходительство, вы не хуже меня понимаете, что это означает. Ох, у меня кровь стынет… право же, я не скряга и не ипохондрик, но у меня кровь стынет в жилах, как подумаю, что при существующих обстоятельствах можно вышвырнуть миллион – п па что? На ерунду, на милую причуду, на блистательную реставрацию фамильного замка, где должны происходить высочайшие роды…
Господин фон Кнобельсдорф засмеялся:
– Что поделаешь, романтика – дорогостоящая роскошь! Разумеется, я солидарен с вашим превосходительством, по ведь, в сущности, эта дорогостоящая романтика и является причиной плачевного состояния велнкогерцогского хозяйства. Зло коренится в том, что наши государи те же крестьяне: имущество их заключается в землях, доходы – в продуктах сельского хозяйства. А в наши дни… августейшие особы по сен день никак не решатся стать промышленниками и финансистами. С прискорбным упорством следуют они отжившим отвлеченным принципам, как-то: понятиям верности и достоинства. В силу принципа верности великогерцогское имущество продолжает быть фидейкомисом, заповедным, родовым достоянием. Выгодная продажа какой-либо его части исключена. Им не пристали заклады и займы с целью хозяйственных усовершенствований. Управление, связанное по рукам и по йогам боязнью уронить свое высокое достоинство, не может пользоваться благоприятными конъюнктурами. Простите, бога ради! Я пичкаю вас прописными истинами. Но этой породе людей всего важнее соблюдение декорума. Естественно, что для них недоступны и неприемлемы независимость и свободная инициатива не столь косных и не столь уж принципиальных дельцов. Так вот, наряду с этой отвлеченной дорогостоящей роскошью что может значить вполне осязаемый миллион, выброшенный ради милой причуды, говоря словами вашего превосходительства? Будь она только одна! А ведь при этом надо нести постоянное бремя расходов на мало-мальски приличное содержание двора. Надо поддерживать замки с прилегающими к ним парками, Голлербрунн, Монбрийан, Егерпрейс, каких там… Эрмитаж, Дельфиненорт, Фазанник и прочие… Да, я забыл замок Зегенхаус и развалины Хадершгейна… не говоря уж о Старом замке… Содержатся они неважно, и все-таки это статья расхода… А кроме того, надо субсидировать придворный театр, картинную галерею, библиотеку. Надо выплачивать сотню пенсий без какого-либо юридического обоснования только во имя верности и достоинства. А какую царственную щедрость проявил великий герцог к пострадавшим от последнего наводнения… Но я, кажется, произнес настоящую речь.
– Речь, которой вы, ваше превосходительство, думали возразить мне, – сказал министр финансов, – а на самом деле подтвердили мою правоту. Дорогой барон, – и господин фон Шредер прижал руку к сердцу, – позволю себе не сомневаться, что между нами исключено малейшее недоразумение касательно моих взглядов, моих верноподданнических взглядов…. Государь не может быть неправ… его августейшая особа выше всяких нареканий, но с долгом – в обоих смыслах слова – дело обстоит неблагополучно, и я, не задумываясь, возлагаю вину на графа Трюммергауфа. Его предшественники на посту финанц-директора тоже обманывали своих государей относительно состояния великогерцогской казны, но это было в духе времени и потому простительно. Поведение же графа Трюммергауфа простить нельзя. Кто, как не он, по своей должности, обязан был обуздать царящую при дворе… беспечность! На нем и сейчас еще лежит обязанность открыть глаза его королевскому высочеству.
Господин фон Кнобельсдорф усмехнулся, вздернув брови.
– В самом деле? – спросил он. – Вы полагаете, ваше превосходительство, что назначение графа преследовало эту цель? Могу себе представить его законное изумление, если бы вы изложили ему свою точку зрения. Нет, нет… Будьте уверены, ваше превосходительство, граф был назначен в силу вполне определенного высочайшего волеизъявления, коему прежде всего должен был подчиниться сам новый финанц-директор. Этим назначением не только говорилось: «Я ничего не знаю», но и «ничего не желаю знать». Можно быть чисто декоративной фигурой и все-таки постичь это… Впрочем… правду сказать… все мы это постигли. И для всех нас, в сущности, есть только одно смягчающее обстоятельство: в целом свете не сыщешь монарха, с которым так тягостно было бы заговорить о его долгах, как с нашим государем. Во всем облике его королевского высочества есть нечто такое, что язык не поворачивается выговорить столь вульгарные слова.
' – Верно, верно, – поддакнул господин фон Шредер. Он вздохнул и задумчиво погладил выпушку из лебяжьего пуха на своей треуголке. Оба министра сидели вполоборота друг к другу, на возвышении в глубокой оконной нише; снаружи вровень с ней тянулся узкий каменный переход, вернее галерея, сквозь стрельчатые проемы которой открывался вид на городок.
– Вы возражаете и как будто противоречите мне, барон, – снова заговорил господин фон Шредер, – а в словах у вас еще больше неверия и горечи, чем у меня.
Господин фон Кнобельсдорф ничего не ответил и только развел руками, как бы соглашаясь.
– Допустим, вы правы, ваше превосходительство, – продолжал министр финансов, скорбно кивнув вниз, на свою треуголку. – Пожалуй, виновны все – и мы и наши предшественники. Многое, многое можно было предотвратить! Надо вам сказать, барон, что однажды, десять лет назад, возникла возможность если не оздоровить, то хоть подправить финансовое положение двора. Эта возможность была упущена. Надеюсь, вы меня поняли. Такой обаятельный мужчина, как великий герцог, смело мог поправить дела женитьбой, которую всякий здравомыслящий человек признал бы блестящей. А вместо этого… не касаясь моих личных чувств… забыть не могу, с какой кислой миной по всей стране называли цифру приданого августейшей невесты.
– Великая герцогиня – одна из красивейших женщин, каких мне доводилось встречать, – заявил господин фон Кнобельсдорф, и морщинки у него возле глаз почти совсем исчезли.
– Вот возражение вполне в духе вашего превосходительства – чисто эстетического порядка. Это возражение было бы также уместно, если бы его королевское высочество по примеру своего брата Ламберта выбрал себе в жены корифейку придворного балета…
– Эта опасность была исключена. У государя вкус изысканный, что он и доказал. Его запросы всегда были очень высоки в противоположность той неразборчивости, какую всю жизнь проявлял принц Ламберт. Ведь великий герцог крайне поздно решился вступить в брак. Надежды на прямое потомство почти что были утрачены. Приходилось с горя примириться на принце Ламберте, хотя насчет его… малой пригодности в качестве наследника престола мы с вами, надо полагать, солидарны. И вдруг, через несколько недель после вступления на престол, Иоганн-Альбрехт встречается с принцессой Доротеей. Он восклицает: «Она – или никто!» – и великое герцогство обретает государыню. Вы, ваше превосходительство, припомнили, как вытягивались лица, когда называлась цифра приданого, но вы забыли, какое в то же время царило ликование. Да, конечно, принцесса была небогата. Но красота, и такая красота, тоже своего рода благотворная сила. Разве можно забыть торжественный въезд невесты? Народ полюбил ее, как только она впервые озарила улыбкой собравшуюся толпу. Позвольте мне, ваше превосходительство, лишний раз заявить о своей вере в идеализм народа. Народ хочет, чтобы в государе было воплощено все, с его точки зрения, лучшее, высшее, его мечта, душа его, если хотите, но отнюдь не мошна. Для мошны есть другие люди.
– Вот их-то и нет. У нас нет.
– Это факт сам по себе весьма прискорбный. Зато гораздо важнее, что Доротея подарила нам престолонаследника…
– Ах, если бы господь умудрил его в бухгалтерии…
– Не возражаю…
На том и закончилась беседа двух министров. Она оборвалась, вернее ее прервал флигель-адъютант фон Лихтерло известием о благополучном разрешении от бремени. В малом банкетном зале возникло оживление, все присутствующие поспешили туда. Одна из высоких резных дверей распахнулась, и на пороге появился адъютант. У него были голубые солдатские глаза, на раскрасневшемся лице торчали льняные усы, воротник гвардейского мундира расшит серебром. Не вполне владея собой, возбужденный тем, что удалось избавиться от смертельной скуки, и переполненный радостной вестью, он ввиду чрезвычайности момента дерзко пренебрег этикетом и уставом. Оттопырив локоть и отсалютовав таким широким жестом, что рукоять сабли очутилась чуть ли не на уровне груди, он выкрикнул, раскатисто картавя:
– Осмелюсь доложить – пр-р-ринц!
– A la bonne heure,[2]2
В добрый час (франц.).
[Закрыть] – пробасил генерал-адъютант граф Шметтерн.
– Радостно слышать, вот уж поистине радостно слышать, – по своему обыкновению, залопотал обер – гофмаршал фон Бюль цу Бюль, мигом очнувшись от забытья.
Президент консистории доктор Визлиценус, благообразный, осанистый господин с орденской звездой на шелковистом сукне сюртука, как генеральский сын, а также в силу личных достоинств сравнительно молодым достигший столь высокого положения, сложил холеные белые руки на животе и звучно возгласил:
– Да благословит господь его великогерцогское высочество!
– Господин капитан, – с усмешкой заметил господин фон Кнобельсдорф, – вы, кажется, забыли, что своим утверждением узурпируете мои права и обязанности. Прежде чем я не произведу тщательнейшего расследования, вопрос о том, кто родился – принц или принцесса, – остается открытым…
Над его словами посмеялись, а господин фон Лихтерло ответил:
– Слушаюсь, ваше превосходительство! Кстати, имею честь по высочайшему повелению просить ваше превосходительство…
Этот диалог объяснялся тем, что премьер-министр ведал метриками великогерцогской фамилии, а посему именно его компетенции подлежало самолично установить пол царственного младенца и официально объявить о нем. Господин фон Кнобельсдорф выполнил эту формальность в так называемой куаферной, где купали новорожденного, но пробыл там дольше, чем предполагал, ибо его задержало и смутило одно неприятное открытие, которое он до поры до времени утаил от всех, кроме акушерки.
Госпожа Гнадебуш развернула младенца и, переводя таинственно поблескивающие из-за толстых стекол глаза с министра на медно-красное крошечное создание, безотчетно что-то ловившее одной, только одной ручонкой, как бы спрашивала: «В порядке?» Все было в порядке, господин фон Кнобельсдорф вы* разил удовлетворение, и акушерка принялась снова пеленать новорожденного. Но и тут она не перестала поглядывать то вниз на принца, то вверх на министра, пока не направила внимания фон Кнобельсдорфа куда следовало.
Лучики в уголках его глаз мигом исчезли, он насупился, проверил, сравнил, ощупал, задержался на этом факте минуты две-три и под конец спросил:
– Великий герцог уже видел?
– Нет, ваше превосходительство.
– Когда великий герцог увидит, скажите ему, что это выровняется. – А господам, собравшимся в бельэтаже, он объявил:
– Крепенький принц!
Но минут через десять – пятнадцать после него то же досадное открытие сделал и великий герцог, это было неизбежно, и за этим воспоследовала краткая, пренеприятная для лейб-медика Эшриха сцена, а для гримбургского доктора Плюша – беседа с великим герцогом, поднявшая его в глазах монарха и благоприятно повлиявшая на его дальнейшую карьеру.
Расскажем вкратце, как все это произошло.
Сейчас же после родов Иоганн-Альбрехт опять удалился в «библиотеку», а затем некоторое время провел у постели роженицы, держа ее руку в своей* Вслед за тем он направился в куаферную, где новорожденный лежал уже в высокой, изящно позолоченной колыбельке, наполовину затянутой голубым пологом; великий герцог опустился в услужливо подставленное кресло возле своего сыночка. Но, сидя в кресле и разглядывая дремлющего младенца, он заметил то, что до поры до времени от него хотели скрыть. Он совсем откинул одеяльце, помрачнел и проделал все то, что до него делал г-н фон Кнобельсдорф, оглядел докторшу Гнадебуш и сиделку, у которых язык прилип к гортани, бросил торопливый взгляд на притворенную дверь в брачный покой и взволнованно проследовал назад в «библиотеку».
Здесь он немедленно нажал кнопку украшенного орлом настольного серебряного звонка и, когда, звеня шпорами, вошел г-н фон Лихтерло, приказал ему кратко и сухо:
– Попросите ко мне господина Эшриха.
Когда великий герцог гневался на кого-нибудь из приближенных, он имел обыкновение на данный момент отрешать провинившегося от всех званий и чинов и называть только по фамилии.








