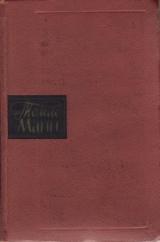
Текст книги "Королевское высочество"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Присутствующие единодушно решили, что Клаусу – Генриху мантия очень к лицу, а сам он, хоть мантия и стесняла его движения, воспринял ее как благодеяние, ибо так ему было легче скрыть левую руку. У себя в спальне, помещавшейся во втором этаже и выходившей окнами в тот двор, где рос розовый куст, Клаус-Генрих добросовестно и тщательно готовился к предстоящему публичному выступлению, одеваясь между кроватью под балдахином и пузатыми шкафами с помощью лакея Неймана, молчаливого и аккуратного человека, который незадолго перед тем был приставлен к нему в качестве камердинера, ведающего и его гардеробом. Нейман вышел из парикмахеров и во всем, что касалось его первоначальной профессии, отличался болезненной щепетильностью, тем сознанием недосягаемости идеала, которое является гарантией мастерства. Он брил не так, как иные прочие, он не удовлетворялся тем, что не осталось ни одного волоска; он брил так, чтобы исчезли даже тень, даже воспоминание о бороде и, ни разу не царапнув кожи, придавал ей идеальную бархатистость и гладкость. Он подстриг Клаусу-Генриху волосы на висках точно под прямым углом и причесал их с тем старанием, которое, по его мнению, приличествовало для такого торжественного выступления. Он умело провел косой пробор от левого глаза через всю голову до самой макушки и при этом не потревожил ни единого волоска. Он умело откинул со лба волосы, зачесал их назад и так крепко пригладил щеткой над правым глазом, что ни шляпа, ни каска не могли уже их растрепать. Затем Клаус-Генрих с его помощью облачился в узкий, сидевший на нем как влитой мундир лейтенанта лейб-гренадерского полка с высоким шитым воротником, который способствовал строгой вьиправке, надел шелковую лимонного цвета ленту и плоскую золотую цепь фамильного ордена Гримбургов и спустился вниз в картинную галерею, где собрались ближайшие члены семьи и иностранные родственники великогерцогской четы. Придворные чины дожидались в смежном Рыцарском зале. Иоганн-Альбрехт собственноручно облачил сына в красную мантию.
Господину фон Бюль цу Бюлю пришлось немало подумать, прежде чем ему удалось установить порядок торжественного шествия из Рыцарского зала в Тронный. Организовать импозантное зрелище при наличном составе свиты было весьма затруднительно, и господин фон Бюль жаловался на нехватку высших придворных чинов, ощущавшуюся особенно тяжело в подобных случаях. С недавних пор в ведение господина фон Бюля были отданы и придворные конюшни, и он чувствовал себя в силах справиться со столькими должностями. А сейчас он обращался ко всем с вопросом: где прикажете найти людей, достойных предварять шествие, раз высшие должности представлены только оберегермейстером фон Штиглицем и управляющим великогерцогскими театрами генералом, страдающим подагрой?
В качестве обергофмаршала, обергофцеремоний – мейстера и обергофмейстера он выступал, извиваясь и выставляя вперед свой высокий жезл, непосредственно за наряженными пажами и причесанными на косой пробор кадетами, которые открывали шествие, и, красуясь шитым мундиром, каштановым париком, грудью, увешанной орденами не хуже котильонной подушки, и золотым пенсне на носу, озабоченно соображал, кто идет позади: с десяток камергеров в шелковых чулках, с треуголкой, отороченной плюмажем, под мышкой и ключом на талии, у заднего шва мундира (да, с десяток, не больше, ведь необходимо оставить несколько штук для арьергарда), за ними, впереди принца Клауса-Генриха в красной мантии, который вместе со своими августейшими родителями и сопровождающими их Альбрехтом и Дитлиндой и является центром всего шествия – господин фон Штиглиц и с трудом ковыляющий генерал от театральных зрелищ. Непосредственно за высочайшими особами шагает, улыбаясь морщинками вокруг глаз, министр двора и председатель совета министров фон Кнобельсдорф. Следом за ним – небольшая группа адъютантов и придворных дам: генерал граф Шметтерн и майор фон Платов, один из графов Трюммергауфов, кузен придворного финанц-директора, офицер, приставленный к наследному принцу, и фрейлины великой герцогини во главе с страдающей одышкой баронессой фон Шуленбург-Трессен. Затем предваряемые и сопровождаемые адъютантами, камергерами и придворными дамами принцесса Катарина со своим рыжеголовым потомством, принц Ламберт со своей миловидной супругой и иностранные родственники или их представители. Замыкают шествие пажи.
Так размеренным шагом подвигалась процессия из Рыцарского зала через парадные апартаменты, зал Двенадцати месяцев и Мраморный зал в Тронный. По два лакея в парадных коричневых ливреях с золотисто-красными аксельбантами стояли, замерев, словно театральные статисты, с каждой стороны распахнутых настежь дверей. Через большие окна беспощадно ярко и радостно светило утреннее июньское солнце.
Клаус-Генрих, шествуя между родителями через холодную пустыню парадных покоев, оглядывал их пышную мишуру и облезлое великолепие, не скрашенное всепреображающим нарядным блеском искусственного освещения. Яркий день весело и трезво освещал их обветшалую роскошь. С больших люстр на длинных обвитых материей стержнях ради такого торжественного дня были сняты чехлы, и целый лес незажженных свечей глядел в потолок; но на одних люстрах не хватало хрустальных подвесок, на других были порваны гирлянды бус, и впечатление получалось такое, словно от одной откушен кусок, а у другой выбит зуб; на чопорных дворцовых креслах с широко расставленными подлокотниками, чинно и скучно выстроившихся вдоль стен, посеклась тканая шелковая обивка, позолота облезла; на светлой поверхности высоких зеркал, по обеим сторонам которых висели бра, темнели тусклые пятна, а сквозь проеденные кое – где молью дырки в поблеклых и выгоревших на подборах драпри просачивался свет. Позолоченный и посеребренный багет, окаймлявший обои, во многих местах отклеился и отстал от стены, а в Серебряном зале, в парадном покое, том самом, где великий герцог давал торжественные аудиенции и где в центре стоял перламутровый столик на серебряной ножке, изображающий ствол дерева, кусок посеребренного украшения на плафоне просто-напросто обвалился, и наверху появилось большое белое гипсовое пятно…
Но почему же все-таки казалось, что эти покои могут устоять перед трезвым, смеющимся дневным светом, могут поспорить с ним? Клаус-Генрих посмотрел украдкой на отца… Состояние апартаментов, казалось, не смущало его. Великий герцог и смолоду был только-только среднего роста, а теперь стал, можно сказать, и совсем маленьким. Но он шествовал, надменно закинув голову, при лимонно-желтой орденской ленте на генеральском мундире, в который он облачился для такого дня, хотя вообще склонности к военщине не питал. Из-под высокого лысого лба и седеющих бровей устало и высокомерно глядели вдаль голубые обведенные тенью глаза, а от закру-; ченных кверху белых усов к бороде бежали две морщины, глубоко врезавшиеся в старческую желтую кожу и придававшие лицу презрительное выражение… Нет, ясный день не может повредить этим залам; обветшалость не только не наносит ущерба их величественности, в известной мере она даже благоприятствует ей. Эти покои холодно отстраняют себя, отрекаются от свежего, пронизанного солнцем мира, противопоставляя ему величественную неуютность, театральную симметрию, странно безжизненную атмосферу сцены или храма, здесь царит суровый культ формы, и Клаус-Генрих сегодня впервые приобщается к торжественному служению…
Продефилировав между двумя лакеями, которые с неумолимым видом сжали губы и закрыли глаза, шествие вступило на простор белого с золотом Тронного зала. И тут начались благоговейные телодвижения – отдача чести, шарканье, поклоны, реверансы – и продолжались все время, пока процессия шла вдоль выстроившихся в ряд гостей. Тут были дипломаты с супругами, придворная и земельная знать, офицерский корпус столицы, министры, среди них и новый министр финансов доктор Криппенрейтер с наигранно оптимистическим выраженем лица, кавалеры Гримбургского грифа первой степени, председатели обеих палат ландтага, всякие должностные лица. А наверху в тесной ложе, помещавшейся на той же стене, где вход, над большим зеркалом расположились представители прессы, они усердно записывали, задние, глядя через плечи передних… Дойдя до трона с увенчанным пучком страусовых перьев балдахином – симметрично с двух сторон подобранной бархатной с золотой каймой драпировкой, которую не мешало бы подновить, – кортеж разделился, как в полонезе, и выполнил ряд точно установленных движений. Пажи и камергеры разошлись направо и налево, господин фон Бюль отступил назад, обернувшись лицом к трону и подняв свой жезл, и, дойдя до середины зала, остановился. Великий герцог с супругой и детьми поднялся по закругленным и устланным красной материей ступеням к стоящим наверху широким позолоченным театральным креслам. Остальные члены великогерцогской фамилии вместе с иностранными высочествами выстроились по обе стороны трона, за ними поместилась свита: статс-дамы и дежурные кавалеры; пажи расположились на ступенях. Иоганн-Альбрехт махнул рукой, и господин фон Кнобельсдорф, уже стоявший наготове напротив трона, поспешил, улыбаясь глазами, по точно определенной кривой к покрытому бархатом столику, который стоял сбоку у подножия трона, и приступил к оглашению официальных документов и прочим формальностям.
Клауса-Генриха объявили совершеннолетним и, следовательно, имеющим, буде это потребуется, законное право на престол. В эту минуту глаза всех были обращены на него-и на его королевское высочество Альбрехта, его старшего брата, который стоял рядом. Наследный принц был в мундире ротмистра гусарского полка, при котором состоял номинально. Из обшитого серебряным галуном воротника его мундира торчал не по форме высокий белый штатский стоячий воротничок. У Альбрехта был вытянутый назад череп, сдавленные виски, тонкое, умное и болезненное лицо со светлыми, как солома, еще только пробивающимися усами и голубые глаза с отсутствующим взглядом – ведь он видел лицо смерти… Да, наружность не типичная для кавалериста, но зато такая породистая и неприступно аристократичная, что Клаус-Генрих со своими простонародными скулами рядом с братом казался просто увальнем. Наследный принц, когда глаза всех устремились на него, сделал свою обычную гримаску: слегка выпятил короткую пухлую нижнюю губу и втянул верхнюю.
Совершеннолетний принц был пожалован всеми орденами герцогства, включая и Альбрехтский крест и орден Гримбургского грифа первой степени, не говоря уже о фамильном ордене «За постоянство», которым он был награжден, когда ему исполнилось десять лет. Затем последовала церемония поздравления: перед троном продефилировали все гости, возглавляемые извивающимся господином фон Бюлем, и торжество закончилось парадным завтраком в Мраморном зале и зале Двенадцати месяцев…
Следующие дни ознаменовались увеселениями в честь иностранных владетельных особ. В Голлербрунне был дан праздник с фейерверком и танцами в парке для придворной молодежи. Были устроены увеселительные поездки в сопровождении пажей на лоно летней природы – в дворцы Монбрийан и Егерпрейс, на руины Хадерштейна, и народ – скроенный на один лад народ: коренастый, скуластый, с задумчивыми глазами – стоял вдоль дорог, поздравлял и кричал «ура!» и себе и своим представителям. В столице владельцы художественных лавок выставили в витринах фотографии Клауса-Генриха, а «Курьер» даже напечатал его портрет, идеализированный рисунок в народном вкусе, на котором принц был изображен в красной мантии. Вскоре затем последовало еще одно торжество: официальное зачисление Клауса – Генриха в армию, в лейб-гренадерский полк.
Это происходило так: полк, на долю которого выпала честь зачислить в ряды своих офицеров Клауса – Генриха, построился в открытое каре на Альбрехгсплаце. В центре развевались многочисленные султаны; присутствовали принцы, принадлежащие к правящей фамилии, и генералы. Военные пестрым пятном выделялись на черноватом фоне оттиснутой за кордон публики. На поле действия со всех сторон были наставлены фотографические аппараты. Из оком Старого замка смотрели в ожидании предстоящего зрелища великая герцогиня, принцессы и фрейлины.
Прежде всего Клаус-Генрих, одетый в лейтенантский мундир, предстал перед великим герцогом в Старом замке. С серьезным лицом, не улыбаясь, приблизился он к отцу и, щелкнув каблуками, по всей форме рапортовал о том, что прибыл в его распоряжение. Великий герцог коротко, тоже не улыбаясь, поблагодарил его, затем в парадном мундире, с развевающимся султаном на каске спустился на площадь. Клаус-Генрих приблизился, сопровождаемый адъютантами, к опущенному знамени – пожелтевшему и во многих местах порванному тканому шелковому полотнищу и принес присягу. Великий герцог резким начальническим голосом, к которому прибег специально для этого случая, произнес краткую речь, причем, обращаясь к сыну, назвал его «ваше великогерцогское высочество» и публично пожал ему руку. Полковник лейб-гренадеров, покраснев от натуги, провозгласил в честь великого герцога «ура!», подхваченное гостями, полком и публикой. Затем последовал парад, и все закончилось завтраком в замке для господ офицеров.
Это красивое представление на Альбрехтсплаце не преследовало практических целей, оно было ценно безотносительно, само по себе. Клаус-Генрих по-прежнему не нес военной службы, еще в тот же день он отправился с родителями, братом и сестрой в Голлербрунн, где ему предстояло провести лето в старомодно обставленных покоях и у реки, в парке, обнесенном высокой, как стена, живой изгородью, а осенью он должен был поступить в университет. Ибо его жизнь была предусмотрена следующим образом: осенью он на год поступает в университет, не в столичный, а в другой университет герцогства, и сопровождает его доктор Юбербейн, его репетитор.
Назначение этого молодого ученого в менторы опять-таки надо отнести за счет особого, настойчиво выраженного желания принца; и в решающей инстанции сочли возможным уважить его просьбу касательно выбора ему гувернера и старшего товарища на этот год свободной студенческой жизни, хотя многое говорило против этого выбора. Во всяком случае, в широких кругах его осуждали, где вслух, где шепотом: доктор Юбербейн был не популярен.
В столице его не любили. Полученной им медали за спасение утопающих и его устрашающему трудолюбию отдавали должное, но этот человек не был приятным согражданином, любезным сослуживцем и безупречным чиновником; наиболее доброжелательные считали его раздражительным, неприятным и неугомонным чудаком, не дающим себе передышки даже-в праздничные дни и не умеющим по окончании служебных обязанностей спокойно наслаждаться жизнью, как все прочие люди. Он, незаконный сын какой-то авантюристки, безвестный юноша без средств и видов на будущее, трудом, настойчивостью и силой воли выбился со дна общества в сельские учителя, получил высшее образование, стал преподавателем гимназии, он дожил до того, – многие говорили «добился того», – что его пригласили в Фазанник преподавателем к принцу; и все же он не знает отдыха, не знает покоя, не умеет мирно наслаждаться жизнью… А ведь жизнь, как весьма метко заметил, имея в виду доктора Юбербейна, один умный человек, – жизнь – это не только служба и работа, существуют и чисто человеческие обязанности и требования, и пренебрегать ими куда более тяжкий грех, чем, скажем, относиться с некоторой снисходительностью к себе и сослуживцам, и гармонической личностью, во всяком случае, можно назвать только того, кто воздает должное и службе и людям, и жизни и труду. Юбербейн нелегко сходился с людьми, и это восстанавливало против него. Он избегал общества сослуживцев и дружил только с одним человеком, работавшим в другой области науки, – с детским врачом, носи-вшим неблагозвучную фамилию Плюш, впрочем, имеющим большую практику и некоторыми чертами характера, вероятно, похожим на Юбербейна. Только очень редко – да и то будто из милости – присоединялся он к своим коллегам по гимназии, которые по окончании трудов праведных собирались в ресторане выпить кружку пива, перекинуться в картишки или просто обсудить общественные и домашние дела; вместо этого он проводил вечера и, как узнали от его хозяйки, часть ночи за научной работой у себя в кабинете, от чего цвет лица его делался все зеленее, а глаза явно говорили об усталости. Вскоре после его возвращения из Фазанника начальство сочло себя обязанным повысить его в старшие учителя. Что ему еще нужно? Стать директором? Профессором высшей школы? Министром просвещения? Твердо установлено было одно: за его не знающим меры и удержу усердием скрывается или, вернее, не скрывается зазнайство и заносчивость. Его поведение, его громкая, резкая, задорная речь – сердили, раздражали, восстанавливали против него. Он не сдерживал языка, когда говорил со старшими по возрасту и чипу учителями. Он усвоил отческий тон по отношению ко всем, начиная от директора и до самого незначительного сверхштатного учителя, а в его манере говорить о себе, как о человеке, прошедшем огонь и воду, рассуждать о «судьбе и выдержке» и при этом высказывать доброжелательное презрение к тем, «кому это не нужно», «кто закуривает по утрам сигару», – да, в этом так и сквозило самомнение. Ученики обожали его, он добивался превосходных результатов, это верно. Однако в городе у доктора Юбербейна было много врагов, больше, чем он думал, и даже в печати высказывались сомнения относительно желательности его влияния на принца…
Так или иначе Юбербейн получил отпуск, посетил пока что один, в качестве квартирьера, городок, славившийся своим университетом, в стенах которого Клаусу-Генриху предстояло прожить год вольной студенческой жизнью, и по возвращении был принят министром великогерцогского двора, его превосходительством фон Кнобельсдорфом, дабы получить необходимые инструкции. Сводились они приблизительно к следующему: важнее всего, чтобы за этот год между герцогским сыном и студенческой молодежью на почве общих занятий и свободной академической жизни завязались товарищеские отношения, ибо этого требуют интересы династии. Господин фон Кнобельсдорф ограничился лишь казенными фразами, и доктор Юбербейн, выслушав его, молча поклонился и слегка скосил рот, а заодно и свою рыжую бороду. И вскоре Клаус-Генрих отбыл в университет вместе с ментором, догкартом и несколькими слугами.
В глазах публики и в зеркале официальных сообщений – прекрасный, овеянный музами и очарованием свободы год, однако нисколько не отягченный приобретением фактических знаний. Возникшие было опасения, что доктор Юбербейн по оплошности или недоразумению станет докучать принцу непосильными требованиями в отношении наук, рассеялись. Напротив, выяснилось, что Юбербейн вполне понимает, сколь несходны его собственный серьезный строй жизни и высокий удел его ученика. С другой стороны (то ли по вине ментора, то ли по вине самого Клауса – Генриха), инструкция о свободных и непринужденных товарищеских отношениях осталась благим, но чисто теоретическим пожеланием, так что существенным и специфически присущим этому году не могло считаться ни то, ни другое – ни наука, ни непринужденные отношения. Существенным и специфическим был как будто год сам по себе – его уклад и приятные обычаи, которым Клаус-Генрих подчинился с приличествующей выдержкой, так же как подчинился представительским обязанностям в свой – последний день рождения-только на этот раз на нем была не красная мантия, а цветная студенческая шапочка, называемая «штюрмер», в коей его и представил своим читателям «Курьер».
Внесение Клауса-Генриха в список студентов прошло без каких-либо торжественных церемоний, однако все же было указано на честь, которая выпала на долю высшему учебному заведению, принявшему в свои стены принца; а лекции, на которых он присутствовал, начинались обращением – «Ваше великогерцогское высочество!». Гофмаршальская часть сняла для него красивую, утопающую в зелени виллу на аристократической и не слишком дорогой улице, и прохожие узнавали и приветствовали его, когда он в своем догкарте с лакеем позади ездил оттуда на лекции, на которых сидел с выражением вежливого внимания на лице, в то же время вполне сознавая, что все эти положительные зйания для его высокого назначения несущественны и ненужны. Между студентами ходили почтительные и весьма отрадные рассказы, из которых явствовало, что принц принимает живое участие в занятиях. Так, в конце одной лекции по естественным паукам (Клаус-Генрих «для общего развития» посещал и эти лекции) профессор в присутствии слушателей наполнил водой металлический шар и сказал, что вода, расширяясь при замерзании, разорвет металлическую оболочку; в следующий раз он продемонстрирует осколки шара. В этом последнем пункте он своего слова не сдержал, вероятно, по забывчивости: на следующей лекции он не продемонстрировал разорванный шар. И что же, Клаус-Генрих поинтересовался, удался ли опыт. По окончании лекции он, как простой смертный, присоединился к толпе студентов, обступивших профессора, и скромно обратился к нему с вопросом: «Ну как, бомба разорвалась?» – в ответ на что профессор сначала опешил и только потом с радостным удивлением, больше того – с волнением, выразил принцу свою благодарность за любезно проявленный им интерес…
Клаус-Генрих был гостем одной из студенческих корпораций – только гостем, потому что ему нельзя было фехтовать, – и несколько раз в цветной шапочке па голове бывал на товарищеских попойках. Но те, кому был поручен надзор за ним, отлично знали, в какое совершенно неподобающее при его высоком назначении расслабленное и тупое состояние приводит употребление спиртных напитков, и посему ему нельзя было пить по-настоящему; и в этом тоже студенты были склонны считаться с его высочеством. Грубые нравы смягчились, свелись к случайным выходкам, тон и обхождение не оставляли желать лучшего, как в свое время в старшем классе гимназии; песни распевались старинные и поэтические, и, в общем, пирушки превратились в парадные торжественные собрания, в идеализированные копии обычных студенческих попоек. Между Клаусом-Генрихом и корпорантами было условлено говорить друг другу «ты», что должно было служить выражением и основой непринужденных товарищеских отношений. Но, несмотря на доброе желание, в этом, по общему мнению, было что-то в корне фальшивое и принудительное, и невольно, обращаясь к Клаусу-Генриху, его то и дело величали «ваше высочество».
Таково было влияние его личности, его любезно – сдержанного и по самой сути своей безучастного обхождения, которое, впрочем, вызывало иногда со стороны людей, соприкасавшихся с принцем, очень странные, даже смешные выходки. Так, раз на вечере у одного из профессоров он заговорил с солидным, уже пожилым господином в чине советника юстиции, который пользовался славой гуляки и беспутного старого греховодника, что, впрочем, не вредило его положению в обществе. Разговор, содержание которого абсолютно несущественно, да к тому же навряд ли может быть воспроизведено, продолжался сравнительно долго, потому что никто не приходил на смену. И вдруг во время разговора советник юстиции свистнул – издал своими толстыми губами бессмысленную трель, как это бывает, когда хотят скрыть смущение и показать, будто чувствуют себя независимо и беспечно. Он сейчас же спохватился и начал кашлять, спеша замять неприличную выходку… Клаус-Генрих привык к подобным явлениям и из деликатности не замечал их. Иногда он входил в лавку, чтобы самолично что-то купить, и его появление вызывало панику. Он говорил, что ему требуется, просил, скажем, пуговицу, но барышня за прилавком не понимала, терялась; сосредоточить ее мысли на пуговице было нелегко, она явно была поглощена чем-то другим, что стояло вне и над предметами реального мира, – все вываливалось у нее из рук, она беспомощно переставляла коробки с места на место, и Клаусу-Генриху с трудом удавалось ее успокоить.
Таково, как уже говорилось, было воздействие его личности, и в городе многие считали его гордецом и порицали за пренебрежительное отношение к людям. Другие же не соглашались с этим, и доктор Юбербейн, с которым при случае обсуждали эту тему, за* давал вопрос – возможно ли, «даже если согласиться, что есть все основания презирать людей», – возможно ли презрение к ним при такой полной оторванности от действительной жизни, как в данном случае? И пока думали над этим вопросом, он уже утверждал, по своему обыкновению не давая никому вставить слово, что принц не только не презирает людей, а наоборот, до того уважает всех, даже самы-х ничтожных, до того высоко их ставит, до того серьезно, хорошо к ним относится, что бедному переоцененному и совершенно подавленному вниманием серенькому человечку остается только потеть.
Общество университетского городка ие успело прийти к какому-нибудь определенному выводу. Учебный год быстро пролетел, и Клаус-Генрих уехал, вернулся, согласно выработанной программе, в отцовскую столицу, чтобьг, невзирая на свою левую руку, в течение года серьезно отдаться военной службе. Полгода он служил в лейб-драгунах и давал команду держать дистанцию в восемь шагов при учении на пиках или строиться в колонны, словно это было его прямой обязанностью. Затем он переменил род оружия и вступил в лейб-гренадерский полк, чтобы ознакомиться с пехотной службой. Он даже появлялся в замковой кордегардии и командовал сменой караула, что привлекало многочисленную публику. Со звездой на груди выходил он быстрым шагом из караульного помещения, обнажив саблю, становился с фланга роты и не совсем точно отдавал команду, но вреда от этого не было: исправные солдаты все равно выполняли все положенные движения. Бывал он также и в офицерском собрании на товарищеских пирушках, где сидел за столом рядом с командиром полка, и в его присутствии офицеры не решались расстегнуть воротник мундира, а после ужина играть в азартные игры. Затем в двадцатилетнем возрасте он предпринял «путешествие с образовательной целью» – на этот раз уже не в обществе доктора Юбербейна, а в сопровождении военного чина – гвардии капитана фон Браунбарт – Шеллендорфа, рослого белокурого молодого человека, который предназначался в адъютанты Клаусу-Генриху, и таким образом получал возможность завоевать за время поездки симпатию принца и приобрести на него влияние.
Из этого «путешествия с образовательной целью», о котором неукоснительно сообщалось в «Курьере», Клаус-Генрих вынес не очень-то много, хоть и объездил разные государства. Он бывал при иностранных дворах, представлялся монархам, присутствовал вместе с господином фон Браунбартом на банкетах и, когда уезжал, награждался высоким орденом данного государства. Он осматривал достопримечательности, которые выбирал для него господин фон Браунбарт (тоже получивший несколько орденов), и «Курьер» время от времени сообщал, что принц в высшей степени благоприятно отозвался о такой-то картине, музее или здании в разговоре с таким-то директором или таким-то хранителем. Клаус-Генрих путешествовал, опекаемый, охраняемый и оберегаемый рыцарской заботливостью ведавшего его кассой господина фон Браунбарта, ревностному усердию которого следует приписать тот факт, что по окончании путешествия Клаус-Генрих не знал даже, как сдают в багаж чемодан.
Два слова, не больше, надо сказать об интермедии, со всей тщательностью разыгранной господином фон Браунбартом в одном из крупных городов империи. В этом городе у господина Браунбарта был приятель – дворянин, ротмистр и холостяк – близкий друг одной молодой дамы из театрального мира, услужливой и надежной особы. Предварительно списавшись со своим приятелем, господин фон Браунбарт свел Клауса-Генриха с этой особой, причем знакомство состоялось у нее в домашнем гнездышке, в подходящей для такого случая обстановке и продолжалось с глазу на глаз достаточно долго, в результате чего весьма деликатным способом была достигнута одна из заранее предусмотренных образовательных целей поездки и, надо сказать, что и в данном случае от Клауса-Генриха требовалось только одно: приобрести некоторые новые знания. Достойная актриса получила подарок на память, а другу господина фон Браунбарта при случае дали орден. И хватит об этом.
Клаус-Генрих объездил также прекрасные южные края инкогнито, под вымышленной фамилией, звучащей благородно, как в романах. С четверть часика сиживал он один в штатском платье строгого и благородного фасона среди других иностранцев в ресторане па белой террасе, любуясь синим морем, и случалось, что за ним наблюдали с соседнего столика и старались, как это принято у путешественников, угадать его общественное положение. Кем может быть этот спокойный и сдержанный молодой человек? Перебирали все круги общества; прикидывали: а что, если его отнести к купечеству, или к военному сословию, или к студентам? Но нет, не подходит. В нем чувствовали нечто высокое, но в чем тут дело, не догадывались.








